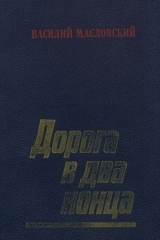
Текст книги "Дорога в два конца"
Автор книги: Василий Масловский
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 32 страниц)
– Наш комдив что-то говорил о Казанцеве. Вместе от границы отходили в сорок первом.
– Это не наш. Наш, видели сами, мальчишка совсем.
– Может быть, может быть. Буду в дивизии – спрошу непременно… Если не забуду. – Подполковник до хруста распрямил свое большое костистое тело, кинул взгляд на сверкающие пятна воды в просветах леса, часового, неохотно полез в блиндаж.
Глава 10
Все несчастье Черкасянского и других донских хуторов состояло в том, что те, кто первыми пришли на эти земли несколько веков назад, облюбовали места именно в среднем течении и большой излучине Дона, которые так нужны были немцам в июньские – июльские дни 1942 года, чтобы выйти к берегам Волги, Сталинграду и там победоносно закончить войну.
Семья Михаила Калмыкова сидела за завтраком. Детишки брали руками из тарелки недозрелые мясистые помидоры слюнявили их и тыкали в солонку, потом осторожно, чтобы не обрызгаться, надкусывали и сосали из них сок.
– Картошку почему не жрете? – Михаил отряхнул клейкую кожуру с пальцев, опустил картофелину в блюдце с постным маслом, аппетитно откусил и, не жуя, выдохнул, чтобы остудить. – Скоро и картошке в мундирах рады будете. Вчера мать последнюю муку подмела в ящике, и неизвестно, где и когда молоть теперь придется.
Жена Михаила, учительница начальной школы, перебирала вишни в ведре, налаживалась варить варенье. В окно с улицы резко постучали.
– Хазаин, выхади!
Михаил замер с раскрытым ртом, из которого шел пар от горячей картошки. Жена уронила в ведро тарелку. Девятилетний Колька, сидевший лицом к окну, сказал тихо:
– Немцы!
– Придется выйти. – Дожевывая горячую картошку, Калмыков вытер масленые пальцы о штаны, вышел во двор.
По пыльной улице, вдоль палисадников и по выгону растянулись длинные артиллерийские упряжки. На лафетах пушек и зарядных ящиках сидели солдаты в черных мундирах. На петлицах поблескивали молнии. Июльское степное солнце поднялось уже высоко, и по улице растекался сухой жар. Во дворах заполошно кричали куры. Солдаты, разморенные ранним зноем, курили, лениво перебрасывались словами.
У самого крыльца на рослом вислозадом жеребце темно-вороной масти сидел немецкий офицер в черном мундире. Из-под загнутого книзу лакированного козырька фуражки с непомерно высокой тульей холодно поблескивали стеклышки пенсне.
У базов на бригадном дворе в сломанном загоне нудились и, по сухому горячему ветерку чувствуя подступающий жар, мотали головами лошади. Их было там много. В последние дни хутор разбогател лошадьми. В степи бродили брошенные и отбившиеся мадьярские, немецкие, русские обозные и кавалерийские лошади. Все они тянулись к людскому жилью и быстро, нюхом, находили конюшни. Офицеру явно нравился высокий гнедой жеребец с тонкими бабками и львиной гривой.
В вербах у реки кукушка хрипловато считала кому-то годы. Михаил потянул носом сыроватую прохладу из-под плетня, жмурясь, ожидающе повернулся к офицеру.
– Как же я поймаю его? – Михаил не сразу понял, чего хочет немец, но и, не зная еще, что ждет его, выгадывал на всякий случай время. Неторопливо, как был без фуражки, направился к базам.
Гнедой издали обнюхал протянутую руку, поводя боками и наставив ухо, вслушался в обещающее и вкрадчивое посвистывание, вскинул голову и, как ветер, понесся вдоль базов. Калмыков приблизился снова. Жеребец подпустил его вплотную, дико и умно кося глазом на протянутую руку и похрапывая, и взвился на дыбы. Казалось, он обдуманно включился в захватывающую и жуткую игру: вихрем проносился за базами, сворачивал на выгон, где стояли артиллерийские упряжки, и, чтобы не лишить человека надежды, снова подлетал к нему и притворно опускал голову, выражая всем видом своим покорность. Калмыков видел его ждущий фиолетовый глаз, нервное подрагивание запотевшей кожи на спине, но, как только протягивал он руку, жеребец всхрапывал, хвост трубой, и все начиналось сначала.
Офицеру, видимо, по вкусу пришлась забава. Он снял с правой руки перчатку, переложил ее в левую, закурил. Губы сморщила улыбка. Солдаты у артиллерийских упряжек снисходительно посмеивались, курили, высказывали замечания. Осторожно, отдернув края занавесок на окнах, выглядывали хуторяне в ближайших домах. Хата Казанцевых была всего за два двора от Калмыкова. Петр Данилович выкашивал как раз во дворе гусиный щавель и подошел с косой к калитке.
Забава длилась около часу. Михаил несколько раз останавливался, но, подстегиваемый резкими, как удары хлыста, окриками, спотыкливой рысцой продолжал свою безуспешную погоню. Наконец он окончательно выбился из сил и вернулся к своему дому. Рубаха на спине потемнела от пота и пыли, выбритое утром до синевы лицо покрылось синюшным налетом удушья, ко лбу липли мокрые волосы.
– Лошид ест болшевик. Не желайт слюжить немецкий армия. – Офицер достал из обшитых кожей штанов золотой портсигар, перегнулся в седле, кожа под ним заскрипела. – Сигарет?
Калмыков, не глядя, взял сигарету, прикурил от протянутой зажигалки. В груди у него хрипело и свистело. Лицо, как облитое, блестело потом. В окно с испугом глядели сыновья; загородив своим коротким телом дверь, на пороге стояла жена.
Офицер бросил окурок, поправился в седле. Тонкие губы потянула серая усмешка.
Калмыков притоптал окурок, убрал волосы со лба. С места не сдвинулся. Мелькнуло белое лицо старшего сына в окне, грузно переступила на заскрипевших ступеньках жена.
– Шнель! – Кожаный стек с проволокой внутри описал в воздухе черную молнию, и рубаха на спине Калмыкова лопнула от левого плеча до правой лопатки, свернулась лоскутьями, как листья на огне. Кожа на спине тоже лопнула, обильно высочилась кровь.
Калмыков вздрогнул всем телом, короткая шея напряглась, окаменела, лицо съежилось в какой-то странной отсутствующей улыбке, словно все, что происходило, совершенно не касалось его. Никто и никогда его пальцем не тронул на глазах детей. Он был для них сильным, смелым человеком, который все может. А сейчас на глазах жены, детей, соседей над ним нагло измывались, топтали душу. В этом было что-то страшно оскорбительное, противоестественное. В широкой груди поднималась слепая неутолимая ярость.
– Не понимайт руски язик! – Новый удар ожег, ослепил болью лицо.
У порога стояла дубовая просмоленная рейка с гвоздями от комбайновского полотна. Никто не успел опомниться, как рейка оказалась в руке Калмыкова. В следующий миг треснул лакированный козырек фуражки, разноцветно брызнули осколки пенсне, а на лице офицера осталась широкая рваная полоса. Лошадь вздыбилась под ним, но Калмыков по-кошачьи изогнулся, поймал ее за поводья, ударил еще и еще, пока офицер не опрокинулся навзничь и не скатился по лошадиному крупу на пыльную примятую траву у плетня.
– Миша, они убьют тебя! А-а!.. – полоснул над двором душераздирающий крик.
Калмыков оскалил желтые зубы, сверкнул на окна и на порожки налитыми кровью глазами, занес ногу, метя каблуком в рваное хлипкое лицо офицера. Но от артиллерийских упряжек уже бежали солдаты, сбили его с ног, стали топтать. Солдаты неистово, по-звериному, рычали, неуклюже взмахивали поднятыми локтями, цеплялись и бряцали при этом оружием. Хрипящий, пыльный клубок катался по дорожке, какую протоптали вдоль дворов люди, раскачивался и трещал плетень. Наконец клубок распался. Солдаты, вытирая пот, отходили в сторону, закуривали. Некоторое время серая куча пыльных лохмотьев лежала неподвижно на дорожке, потом зашевелилась, закашлялась. Калмыков натужно и грузно сел, вытянул ноги, повел раздавленным, измазанным кровью лицом по сторонам и вдруг дико захохотал.
– Собаки! Думали – убили! Ха-ха-ха! – От захлебывающихся, булькающих хрипов и резкого до визга смеха по спине пробегал озноб. – Дохлые собаки! Не люди, звери! Ха-ха-ха!..
Избитого офицера увели. Вместо него появился длинноногий, белобрысый, с мокрыми губами. Он брезгливо, холодно и не зло поморщился, махнул солдатам рукой. Калмыков понял его жест и замолчал. Отмахнулся от набежавших солдат, напрягаясь, встал на ноги, серьезно-тоскливо посмотрел на пыльную в солнце дорогу с артиллерийскими упряжками, соломенные крыши хат и сараев. Последнее, что он увидел – приплюснутое к стеклу окна лицо старшего сына и неловко подвернутая под себя нога лежавшей у порога жены. Заплывшими глазами спросил: «Куда идти?»
Рыхлый солдат с массивной, будто из камня тесанной, нижней челюстью лениво перекинул за спину карабин, кивком указал в сторону базов.
Блестя атласной мускулистой грудью и спиной, из-за конюшни вылетел гнедой жеребец, сделал свечу, стал, встряхнулся и виновато-призывно заржал. С бугра ему отозвалось другое ржание лошади, еще не успевшей найти хутор и конюшню. За базами Калмыков вдохнул поглубже, будто нырять собрался, еще раз оглянулся. Поверх присыпанных глиной крыш базов белела знойная полоска неба. Мертво распустил крылья воробей на куче перепревшего, с синевато-белой плесенью навоза. Калмыков отошел почему-то подальше от этой кучи, смерил расстояние до нее взглядом и поднял глаза – метрах в десяти в покойном ожидании стояли черный солдат и офицер с руками за спиной. Лица у солдата не было. Оно пряталось в тени от каски.
Сухо ударил над хутором выстрел. Жеребец дико всхрапнул, заржал протяжно. С бугра ему снова отозвались. У реки откликнулась охрипшая кукушка.
– Проклятые русские! – Офицерик бормотнул еще что-то и спешно повернулся к упряжкам.
Вытолкнутый этим выстрелом Мишка, старший сын Калмыкова встретил солдата на полпути от базов. Солдат косо глянул на парнишку, подкинул плечом карабин за спиной, пыхнул дымом сигареты.
Отец лежал лицом вниз. Плечи подались на чугунно-синий затылок. Правая рука вытянута вперед, в кулаке – пучок травы. Метрах в десяти валялась стреляная гильза. Мишка поднял ее. Она была еще горячая.
Казанцев, не выпуская косы из рук, так и остался стоять за калиткой у палисадника, как парализованный, наблюдал за тем, что делается у двора Калмыкова. Пару раз закурил, цепляясь подолом рубахи за прясла огорожи. У самого со вчерашнего дня в горнице поселились три немца. Губошлепистый, с головою, как фонарь, рыжий ефрейтор и два его товарища. «Матка, вэк, вэк!» – потребовал сразу же ефрейтор и показал на дверь. Пришлось переселяться в сарай. «С души его воротит подлюшного – вэ-эк!» – тихомолком возмущалась и передразнивала ефрейтора Филипповна и делала при этом вид, будто ее всю выворачивает. Казанцев не вмешивался в отношения Филипповны с немцами. Жил как в обмороке. Пусть делают что хотят. Впервые в жизни он не знал, как поступать ему. Глухая, бездумная, внешне незлобивая, но будто каменная сила давила на него, мешала дышать. Он как по поверхности скользил в том, что видел, делал, думал, совсем не загадывая на завтра. И завтра будет этот же ефрейтор, а вместо артиллерийской части с гамом и безжалостностью хутор заполнит другая какая-нибудь проходящая часть.
Над хутором плыли белые клочья облаков. Под ними кругами ходил коршун, выцеливая добычу в придавленных зноем дворах.
У орудийных упряжек всполошились, вскричались. Солдаты побежали ко двору Калмыкова. Казанцев издал горлом сиплый звук, перехватил косу двумя руками и тоже рванулся на гвалт.
– Хальт! Цюрюк! – Как из-под земли вырос перед Казанцевым один из квартирантов, худощавый, черноволосый, с грустными глазами немец. – Цюрюк! – повторил он решительно.
– Что же вы делаете, паразиты! – Казанцев поднял косу, сделал попытку обойти немца. Немец, не размахиваясь, коротко ударил Казанцева в лицо. – Ты что?! – удивился Казанцев и рванулся вперед.
Второй удар ниже пояса опрокинул его на отрухлявевшее прясло. Сухой хряск, и Казанцев мешком свалился в крапиву с сероватым куриным пухом у корней. Солдат забросил косу подальше в палисадник, подхватил Казанцева под мышки и отволок его за сарай в лопухи.
Когда Казанцев очнулся, артиллерийской колонны на выгоне уже не было. В стоячем воздухе продолжал висеть острый запах конской мочи, пота и сладковатый – чужого табаку. На исклеванном топором берестке у летней времянки сидел худощавый немец и курил. Заметив, что хозяин очнулся, он поднялся ему навстречу. Постояли, борясь взглядами. Казанцев скребнул по щеке с засохшими сгустками крови, хотел обминуть солдата. Глаза немца потеплели, все лицо дрогнуло, потянулось в улыбке. Шагнул поближе, похлопал по плечу, залопотал быстро-быстро:
– Карашо! Карашо! – На пороге хаты немец обернулся, подмигнул, помахал рукой.
Казанцев отколупнул присохшую кровь на щеке, отряхнул с картуза куриный пух, пошел отыскивать косу.
Глава 11
– Дядько Петро, у правления сходка. Всех скликают.
Казанцев отложил рубанок, полой рубахи отер мокрое лицо и из-под насупленных бровей глянул на Алешку:
– Что за сходка?
– Какой-то главный ихний по хозяйству из Богучара приехал. – Алешка подбросил на ладони ржавый гвоздь. В мастерской было прохладно, уютно, тихо. – Будут учить, как жить дальше.
– А-а… – Казанцев глянул в дверь за спину Алешке на широкий яр, как солью обсыпанные бугры за яром. «Скажи, и степь как переменилась, – мелькнула жалостливая мысль. – Простора нет в ней, и не манит в нее как прежде». Усмехнулся, представив вдруг Андрея на месте Алешки. В груди стало привычно деревенеть, достал табак: – Кто же послал тебя народ собирать?
– Раич, бухгалтер бывший. Баба его попросила. Начальство у них остановилось.
– Ага!..
– Идемте, дядя Петро.
Утоптанный ногами правленческий двор с пыльными кулигами гусиного щавеля и серого степного полынка по углам и вдоль забора гудел голосами, цвел бабьими платками и кофтами. У материных подолов жалась сопливая мелкота. Мужики устроились на дрогах у пожарного сарая, курили. Железную крышу над ними лизал желтый волнистый жар. Вид у мужиков и не то чтобы праздничный, но и не рабочий. Так, отбитый. Отбитый от всего. С приходом немцев привычная, шаговитая – особенно в эту пору – жизнь сама собою как-то замерла и затаилась, словно потерялась, куда ей двигаться.
– Э-э, кум, не зевай. Беда тоже не спит.
– Зараз только и работы: не зевать да думать.
Слышались у пожарного сарая голоса.
– Балакают, на других хуторах колхозы так и оставляют.
– Да оно и лучше. А то стягивали-стягивали до кучи, а теперь растягивать.
– Да придут наши – глазами хлопай потом.
– Старост вроде выбирают.
– Ага, выбирают.
– А что выбирать? Вот Казанцев и староста, – встретил появление Казанцева на правленческом дворе калмыковатый Галич. – Петро Данилыч, греб его налево! – хахакнул он, подбадривая всех. – Ты у нас как запевала в солдатской роте.
– Ты, Матвей, не дюже высовывайся, – прижал взглядом Галича Казанцев. – Дурной язык не всегда до Киева доводит.
– Да я что?..
На дороге квакнула машина, и сквозь расступившуюся толпу баб прошагал коротенький, толстенький немец в белом кителе и белой же фуражке с высокой тульей. За ним просеменила полная, пышная бухгалтерша в дорогом цветастом платье. Замыкали шествие сам бухгалтер, жердястый и сутулый, и солдат с автоматом на животе. Коротенький немец взобрался на крыльцо, окрутнулся, дал полюбоваться собою, пожмурился на полуденное солнце. Из степи дохнуло жаром, созревающими хлебами и выгоревшими травами.
Немец издал какой-то гусиный звук горлом, колюче блеснули очки.
– В поле стоят некошеные хлеба. Урожай может погибнуть. Вы, земледельцы, не должны смотреть на это спокойно. Вы будете жить, как и раньше, колхозом и будете трудиться. У вас останутся старые бригадиры, полеводы, агрономы. – Толстенькая, похожая в своем пестром платье на жирную утку, бухгалтерша закончила перевод и выжидающе-почтительно взглянула на немца.
Очки снова блеснули, и, глядя куда-то поверх голов, немец снова заговорил.
– Во всем должен быть строгий порядок. На работу должны выходить все, и трудиться хорошо. – Бухгалтерша замялась, промокнула платочком по обе стороны носа, несколько смущенно закончила: – За нерадивость – расстрел!..
В толпе женщин ахнули, зашатались, зашикали на детей. Мужики переглянулись.
– Воровать верно, овощи – все, что выращено в поле, запрещено… расстрел…
Короткие вздохи и шум толпы немец пережидал терпеливо, продолжая смотреть поверх голов. Его совершенно не интересовало впечатление от речи. Обсуждению она не подлежала. Ей следовало только внимать и принять к сведению.
– Хюрера мухи едят, – тыкнул в ладошку лодочкой высокий, худой и узкоплечий Гришка Черногуз, бессменный конюх колхозный, по-уличному Упырь.
Алешка Тавров тоже нахмурился, прыснул, помял пальцами горло.
Над крылечком правления был укреплен портрет Гитлера. Лицо «хюрера» желто блестело, будто таяло, и по нему густым роем ползали мухи.
Портрет Гитлера над конторой колхоза немецкие солдаты приладили с вечера. А ночью Алешка с Володькой Лихаревым накормили «хюрера» медом. Специально лазили на пасеку деда Папька. Володьку искусали пчелы, и он на сходку не пришел.
– Хтось морду медом намазал ему, – задушевно из-под щитка ладони шептал Черногуз Алешке.
– Тс-с, дурак!
На «хюрера» в мухах, кажется, обратили внимание не только Алешка Тавров с Черногузом. Бабы тоже перешептывались, по-кошачьи порскали в платки.
– А как же! – Галич напряженно держал рот раскрытым, давно ждал момента задать вопрос: – Фу-у! Да отстань, проклятая, – вырвал локоть у тянувшей его жены, приподнялся на носках. – Для нас с хлебом как?
Кургузая бухгалтерша потопталась, колыхнулись высокие полные груди: переводить или не переводить?
– Их сколько по лапкам, а мужиков нет!
– Запасы все съели!
– Задарма кто будет работать! – осмелели бабы.
– Господин фон Хупе говорит, что все будет исполняться по справедливости. Каждый работающий будет получать десятую долю от сделанного, – пояснила бухгалтерша.
Солдат за спиною немца в кителе заволновался при криках, вопросительно поглядывал сверху на фуражку начальства. Рядом с ним переминался с ноги на ногу Раич, то и дело осушая платком лысеющий лоб и пробритые обрюзгшие щеки. Он, видимо, чувствовал свой рост и испытывал неловкость от соседства с солдатом и оттого, что виден всем.
– Всо бутет карашо! – закончил немец по-русски. Желтое пергаментное лицо его смяло подобие улыбки. – У фас бутет сфой старост герр Раич. Его распоряжений – закон. – Отступил в сторону, открыл взорам черкасян новое начальство.
Раич растерянно улыбнулся, поперхал в кулак, снял очки, протер их, почтительно наклонился в сторону немца. Правая щека его мелко-мелко запрыгала, потянула на сторону рот.
– Господин гебитскомиссар ознакомил вас с новым порядком и условиями работы… Хлеб вы получите… Со всеми недоразумениями просьба обращаться ко мне…
Расходились мужики растерянные, смущенные, сбитые с толку.
– Говорят, будто этот бухгалтер ничего человек.
– Как метла: метет и в ту, и в другую сторону.
– Да уж хороший человек добром не пойдет служить на них.
– Ты вроде бы знаком с ним, Данилыч?
– Теперь знакомства начинаются наново.
– Насчет хлеба брешут, видно. С десятины оно бы хорошо…
– Немцы – народ хозяйственный и справедливый.
– Загонят, куда ворон костей не таскал.
– Дальше и так гнать уже некуда.
– А как с Калмыковым?.. Они не брешут.
– Дождались, мать твою, – плевались и ожесточенно скребли затылки мужики, непонятно кого виноватя этим «дождались».
* * *
Филипповна выбирала лук-сеянец на грядках, обивала комельки земли, скидывала к затравевшей стежке в кучу. Тень трех по-девичьи стройных полудичек-слив коснулась уже сруба колодца. Из вишенника рядом потянуло низовой сыростью и подопревшими кореньями лебеды и донника, как в проулке желтый сникающий зной колыхнул заполошный, как по мертвому, крик:
– Наших гонют!..
На улицу разом, будто ждали этого крика, на ходу завязывая платки, выбежали женщины. Их обгоняли ребятишки. В закрытые, порыжевшие от солнца ставни хат толкнулся слитный гул бабьих выкриков, прорезаемый отдельными истошными всплесками и визгом ребятишек. С бугра, огибая обвалившиеся и пожелтевшие ямы, где хуторяне брали мел для своих нужд, спускалась серая, дышащая пылью и зноем колонна пленных красноармейцев. По бокам, впереди и сзади, тоже разморенные и пыльные, шли немцы с автоматами. Толпа женщин и детишек вынеслась к горловине проулка, где он стекался с улицей, остановилась вмиг, будто споткнулась.
– Рус, щорюк!
– Шнель! Шнель!
Два солдата с автоматами, пропуская колонну, стали по сторонам проулка на повороте, чтобы проглядывать улицу вдоль.
Пленных было человек семьдесят. Пыльные, прокаленные на солнце. Многие в бурых, почерневших от пота и грязи повязках. Иные в нательных рубахах, босиком. Лица в большинстве молодые, голодно обтянутые, запавшие глаза мерцали скрытой ненавистью. Гимнастерки на спине от пота и пыли залубенели, коробились, шуршали. Топот ног по белой пыли, шорох одежды, покашливание, окрики заполонили хуторскую улицу чем-то новым, чужим, неожиданным.
Замыкал колонну высокий худой боец с забинтованной головой и отечно-синим лицом. Он спотыкался и тянулся из последних сил, все время мерял заплывшими глазами все увеличивающееся расстояние до хвоста колонны. К нему оборачивались, замедляя шаг, товарищи. Окрик: «Цюрюк!» – возвращал их на место. Отставший вскидывал голову от этого окрика, напрягался, чувствуя спиной и затылком конвоира с сырой облохмаченной ракитовой палкой в руках.
Колонна пыльной вмеей вытянулась по улице, завернула к скотным базам. Это были первые пленные бойцы, каких хуторяне всего неделю назад, измотанных, но оружных и по-боевому злых, тая надежду, провожали к Дону, ждали назад. Что-то тяжелое сдвинулось с места, окатило душу холодом страха и безысходности.
– Ой, лышенько! Да что ж это будет?!
Крик резанул по окаменевшей толпе, и толпа встрепенулась, вздрогнула, взвились возгласы:
– Мамочки, родненькие!..
– Та куда ж вас!..
– Марья!..
– Ох, куда ж ты с горшком!
– Бабы! Хлеб, сало давайте!
– Рус, рус!..
– Вы, мужики, чего смотрите!
– Воды! Чего стоите!
– Да у них же рты потрупешали, почернели!
– Матка! Ком, ком!..
– Ах, нехристь окаянный!
– Кле-еп! Кле-еп!..
Появились мужики и бабы с ведрами. Во дворы и из дворов бежали с караваями хлеба, кусками сала в тряпице и так прямо, яйцами, вареной картошкой. Детишки и хозяйки хватали дома съестное, что попадалось под руку, бежали на улицу. Иная тащила, комкала одежду. Колонна у базов остановилась, и бабы коршунами налетали на конвоиров, рвались к пленным. Мальчишки кидали еду через конвоиров и женщин. Там, где падал хлеб, возникал пыльный клубок, возня. Пленные жадно ловили взглядом, куда упадет картофелина или яблоко, кучей кидались на то место.
– Матка! Ком! Ком! Яйка! Шпек! – требовали немцы себе.
– Отдай ему, проклятому.
– Лопочет ирод!
Конвойные, не разбирая, били палками кого попало: и пленных, и детишек, и женщин.
Маленькая, черная, сухая баба Ворониха кидалась на грудь толстомордому ефрейтору, хватала его за ремень, царапала руки, автомат. Немец, добродушно скалясь, оттолкнул старуху, та упала. Загребая пыль, наседкой снова бросилась вперед.
– Матка! Нельзя! Вэк!
– Ах ты, нехристь! Еще и векает. Гадко ему! Та убей меня, убей! – И старуха, размахивая корявыми, будто сучья, руками, лезла на добродушного ефрейтора.
Глядя на нее, смелели и другие бабы.
– Дарья, тащи молоко иродам! Нехай пьют!
– Может, и нашим достанется.
– Граждане! Товарищи! – Русоволосый парень, с бархатными петлицами и кубиками на вороте выгоревшей гимнастерки, вытянулся на носках, поднял руку: – Кидайте через головы! Не рвитесь! Не губите себя!..
– Родимые! – рыдающий всхлип.
Раскаленный шар солнца коснулся края грудастого облака, одел его в золотую ризу. Облако кинуло тень на базы, разодранные в крике лица женщин, сосредоточенные и виноватые – мужиков, непонимающие и серьезные – детишек.
– Давай же сюда!
Распаленная шумом, Варвара Лещенкова, крупная, крепкая солдатка, вырвала ведра с водой у Галича, шагнула за конвой. Красноармейцы ринулись гуртом, сбили ее с нег, опрокинули ведра. У старика Воронова вырвали ведра сами, мешая один другому, сбились в кучу, и мокрые ведра, одеваясь в замшу пыли, покатились под ноги.
– Цюрюк! – свистели палки, сыпались удары прикладов, глухо ухали удары сапогами.
– Да куда же на такой жаре и без воды!
– Товарищи, так нельзя! Сдерживайтесь! – Лейтенант поднял руку, мальчишеское, обгоревшее на солнце лицо напряглось.
Высокий белокурый немец выхватил у кого-то из женщин коромысло и изо всей силы двумя руками опустил его на спину босоногого мальчишки-бойца, кинувшегося на старика Воронова с ведрами. Коромысло треснуло, разломилось. Мальчишка упал. Над стриженой головой его мелькнул тяжелый сапог с отполированными песком и пылью шипами на подметках. Мальчишка сжался, изогнулся, звериным ловким движением успел ускользнуть из-под сапога, сверкнули белые кровяные глаза. Его подхватили товарищи, толкнули в середину.
– Товарищи, не губите себя!
– Господи! Милостивец!..
Немцы зверели и напирали на толпу, оттесняя от пленных.
– Они же поубивают их!
– Мужики! Что ж вы стоите?! Лей воду в корыта!
Сразу несколько человек кинулись к колодцу. Загремело ведро. В обомшелое, пахнущее теплой плесенью и бурыми лохмотьями на дне и по углам корыто полилась вода. Конвоиры отступили, и пленные гурьбой облепили корыто, сунули в него голову, втискивались по плечи. Лейтенант сдерживал тех, кому не хватило места. Люди, подавленные необычным и страшным видом водопоя, притихли. Были слышны трудные глотки в сдавленной ребрами корыта груди, толчками вздрагивали спины пленных, дергались загорелые затылки.
– Господи, да неужто ты не видишь?!
– Скотиняке и той лучше.
Напившиеся пленные посвежели. Многие успели окунуть в воду голову, умылись. Лица приняли осмысленное, понимающее выражение. На щеках и шее простудил густой кирпичный загар. Затеплели, заулыбались родные, близкие глаза, задергались, потянулись на сторону шершавые, полопавшиеся от зноя и жажды губы.
Женщины захлюпали в передники, углы платков, поутихли. Успокоились и немцы. Пленных загнали в скотный баз, который стоял на отшибе, подалее от других, выставили караул. Лукерья Куликова каким-то образом сумела договориться с начальником конвоя, шепнула бабам, и те принесли немцам яйца, масло, сало, а в большом котле у кормокухни, в котором запаривали мучное пойло телятам, затевали варево пленным. Думать о чем-нибудь одном не приходилось. В котел бросали крупу, картошку, сало, в лапшу искрошенную солонину.
Варвара Лещенкова назвалась женой раненого с отечно-синим лицом, и его на диво всем отпустили. Бабам Варвара отрезала строго:
– Возьму грех на душу. Вернется Петро – поквитаемся.
Казанцев, удрученный и оглушенный виденным, вернулся домой. Рыжий ефрейтор-квартирант стащил как раз с насеста бойкого голосистого петушка, любимца Петьки, кружившего ежедневно во время обеда у стола, дожидаясь подачки, оторвал ему голову и бросил. Петушок без головы вскочил, стремглав бросился в лопушистую картофельную ботву, присел там, спрятался. Казанцев остановился, ошарашенный, расстегнул верхнюю пуговицу на вороте. «Господи! Господи!» – зашептал он про себя. Покосился от неловкости и озноба по спине на забурьяневший одичавший двор, рыжую в закатном солнце крышу сарая.
На окраинах долго не утихали уцелевшие собаки. Стыла натянутая, звенящая тишина. Над холмами вызрела красная луна. Призрачный серебристый свет ее сгреб сухие сумерки на дно оврагов и балок. Истомленный за день впечатлениями и зноем, хутор спал. В саду Михаила Калмыкова над колодцем пьяно хохотал и ухал сыч, и голос его в душной сухоте ночи раскатывался далеко и гулко.
Знобко поеживаясь и облапывая место руками, Казанцев присел на вытолоченную курами траву под сараем, закурил. Из балок и оврагов с теплом накаленных за день косогоров в хутор стекал такой могучий и древний дух отмякших по росе и отягченных зрелостью хлебов, что Казанцев стиснул зубы и застонал.
Полынная горечь степи и нектарная сладость хлебов были родными ему с детства. С годами они менялись для него, наполнялись ноющей усталостью натруженных рук, радостью и неудачами хозяйственных забот, теплом и довольством этой вечно живой и ласковой степи, где он всегда был своим. Сегодня этого чувства близости в нем не было. Была волчья тоска, от которой он не знал, куда деваться. Опираясь на сумеречную черту горизонта, над хутором застыло грифельное небо с кривым ковшом Большой Медведицы и щепотью мигающих звезд Волосожаров у самого края.
Казанцев не слышал, как хлопнула дверь и рядом подсели. Черноволосый немец смотрел на него понимающе и вроде бы даже сочувственно. Что-то сказал по-своему, хлопнул по плечу, пояснил:
– Нитшего, матка. – И он протянул сигарету.
Казанцев вдавил щепотью в глину свой окурок, закурил сигарету. На лице застыло недоумение, закашлялся, откровенно плюнул, вытащил кисет, предложил немцу своего. Немец закурил, задохнулся. Из глаз брызнули слезы.
Казанцев молча, одними глазами, усмехнулся, отвернулся, сник. «Черт-те знает, каким ты духом дышишь», – подумал о немце. Молодой месяц нырнул за горизонт. Стало темно и глухо. Все спало. Утихали и комары. Немец что-то побормотал. Казанцев не ответил, и немец ушел.
В коровнике на перепрелом сухом и теплом навозе и соломенной трухе ворочались и стонали пленные. Кое-где по углам шушукались, не спали. Лейтенант нащупал в кармане пиджака, который бросила ему молодая, строгого вида женщина, бумажку. Получил по кругу от товарищей дымящийся окурок. Затянулся пару раз, прочел: «Беги, спасай Россию. Женя».
– Что там? – потянулись сбоку.
– Эх, Коля, Коля!..
Из противоположного окна на шум ударила автоматная очередь, на голову посыпалась выбитая из стены пулями глина, и все стихло.







