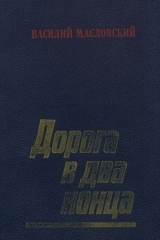
Текст книги "Дорога в два конца"
Автор книги: Василий Масловский
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 32 страниц)
Глава 3
– Приехали! Слезай! – сказал Галич, заправил в рот обсосок никлого уса, пожевал.
Казанцев выронил лучковую пилу (ладил платформы под комбайновские моторы), поднял голову.
– У правления – бронемашины немецкие.
– Вот оно что. – Внутри все похолодело и опустилось. То-то вчера бомбил так немилосердно. Особенно под вечер стонало, и видны были даже из Черкасянского пожары в стороне Галиевки и Монастырщины. И афишки кидал: гражданское население, какое по Дону, уходите, мол; кто подальше – оставайтесь на местах. Никто вас не тронет.
Петр Данилович поднялся с колен, машинально сбил ладонью опилки с брюк. От плотницкой, где он сколачивал платформу, были хорошо видны приземистые зеленые, лягушачьей окраски, машины на гусеничном ходу у правления колхоза, мотоциклы, солдаты, одетые незнакомо и в глубоких касках. На розовеющей в ранних лучах солнца макушке кургана Трех Братьев серел танк с пушкой на хутор.
– Идем посмотрим, что за народ. – Галич языком вытолкнул ус изо рта, приладил топор под мышку, подумал и бросил его в траву под комбайн. – Идем.
– Насмотришься, успеешь. – Казанцева била мелкая трясучка, лицо омыла бледность, пожелтело в скулах. Во время работы он взопрел, и по высокому лбу и морщинистым бурым щекам из-под картуза стремительно сыпал пот. – От греха подальше. И тебе не советую, Матвей.
– Какого черта. Люди тоже.
– Люди-то они люди.
Казанцев огреб ладонью пот с лица, старательно собрал в ящик молоток, рубанок, щипцы, гвозди, повесил на плечо пилу, пошел домой.
К правлению, на ходу напяливая через голову юбки и влезая в рукава кофт, бежали бабы, ребятишки. Навстречу им почему-то тоже бежали те, кто успел уже побывать там.
– Мамочки, а чистые да бритые все какие! Не то что наши: от пота да грязи рубахи залубенели – не прорубить! – кричали бежавшие от правления.
– А чего только не брехали про них!
– Панами в машинах сидят!
– А одеты!.. Боженька ты мой!..
– И не стреляют!
– Культура!..
– Моему Кольке дали што, гляди! Веселые, обходительные!
– И-и! Шалавая, в глаза лезешь с конфетой своей. Во-о! Мыло!..
Опоздавшие ахали, кудахтали, подхватывали юбки повыше, спешили к правлению получить свою долю.
У правления отдохнувшие, загорелые, сытые немцы весело скалились из-за железных бортов бронемашин, щурились на солнце, стреляли по толпе любопытных глазами. Иные, картинно отставив ногу, курили или прохаживались у машин. Особняком в сторонке смущенно жались и переминались с ноги на ногу бабы с пустыми корчажками и подоткнутыми концами завесок.
– Что же вы, дуры мокрохвостые, своих десятой дорогой обегали, а немцев молоком поите? – шепотком корил их подоспевший Галич.
– Нечистый попутал, Селиверстыч. Свои думали, не разобрать за пылью. А углядели – назад вертать боязно, – оправдывались бабы.
Немцы покрасовались, покурили, раздали конфеты, мыло, табак, двинулись на Хоперку. Над соломенными крышами хат долго не оседала пыль, и не выветривались с улицы сизая гарь и чужой запах солдатского сукна.
Часам к десяти-одиннадцати с бугра в хутор с железным грохотом и в пыли нескончаемым потоком хлынули мотоциклисты, танки, грузовики с пехотой. Первыми шли мотоциклы с прицепами. В прицепах сидели солдаты в низко надвинутых, по самые глаза, железных шлемах.
Они держали укрепленные на специальных установках пулеметы.
И в этот самый момент у конюшен показался председатель колхоза Лихарев. Он был почему-то в армейской гимнастерке, синих галифе и хромовых сапогах. Из колонны тотчас же выскочил мотоциклист, закричал что-то ему, грозно замахал руками, хватаясь за автомат, висевший у него на животе. Лихарев сделал вид, будто не слышит, спешно пересек пустырь, направляясь туда, где у обочины жались люди. Немец опустил автомат, нахлобучил шлем еще глубже, погнался за Лихаревым на мотоцикле. Догнав, он стал толкать его под коленки передним колесом и заворачивал на дорогу к идущим войскам. Чтобы не упасть, рослый Лихарев балансировал руками, сильно прогибался в спине и все собирался обернуться к немцу лицом, объяснял что-то.
– Комиссарен! Болшевик! – требовательно и зло кричал худощавый, жилистый, черный от жары и пыли немец, принимая Лихарева по одежде, видимо, за военного.
Лихарев, коверкая как можно больше русские слова и думая, что немцу так понятнее, все пытался повернуться к нему лицом, а тот толкал его колесом и не давал делать этого. Со стороны было как-то неловко и жутко наблюдать эту унизительную грубую сцену. Лихарев тоже, видимо, понимал это и, кособочась, забирал к садовым плетням, рассчитывая скрыться в первом попавшемся дворе.
Тогда немец ударил его колесом так, что Лихарев споткнулся и чуть не опрокинулся навзничь, завернул и погнал его к магазину. У магазина остановился танк, и мотоциклист, переговорив о чем-то с офицером, полулежавшим на башне танка, не вставая с мотоцикла, ударил Лихарева сапогом в живот, и, когда тот переломился, хватаясь за живот, и стал падать вперед, ткнул ему в лицо стволом автомата, и поехал догонять своих.
Лихарева, как на морозе, бил мелкий озноб. Некоторое время он постоял там, где его оставили, сгребал горстью с разбитого лица рудую кровь и стряхивал ее на дорогу, где она тотчас одевалась в серую замшу пыли. Солдаты с проходивших танков что-то кричали ему. На их плоских лицах синеватыми полосками вспыхивали улыбки. Выплюнув сгусток крови и выбитые зубы, Лихарев вытерся подолом гимнастерки и пошел к кучке хуторян, которые нерешительно и напуганно толочили придорожную выгоревшую лебеду и видели всю сцену издали.
– Думали, комиссар, – криво улыбаясь раздавленными губами и словно бы радуясь тому, что он не комиссар и что все кончилось для него благополучно, ответил Лихарев на вопросительные взгляды хуторян.
– Первые солдаты, они всегда злые, – тоже сбитые с толку, пытались помочь ему из толпы.
– Ты же и вырядился, Макарыч.
– Иди домой, пока второй раз не загребли.
– У Куликовой подсвинка увезли. Кинули в машину и увезли.
– Вот те и культурное обхождение.
– Ловкачи! – прицокнули языком. – У Хроськи, первые которые, молоко в красном углу нашли.
– И господь бог не помог?
– Ты молчи, дед.
– А что я сказал такого?
– Зараз ходи да оглядывайся.
Немецкие машины, танки, мотоциклы с небольшими интервалами все шли и шли. У поворота на Хоперский и Васильевский хутора один из мотоциклистов выскакивал на обочину, выхватывал флажки и показывал, куда ехать. Пропустив, видимо, своих, мотоциклист уезжал, а его место на углу занимал из проходившей колонны другой. Все происходило быстро, четко, без единого слова, задержки или промаха. И от этой слаженности веяло чем-то жутким, неуязвимым и бездушным.
– Повоюй с ними, – угрюмо делились впечатлениями хуторяне, наблюдая проходившую в грохоте и пыли немецкую технику.
– Наши на кобылках, а эти на машинах все.
– Придет и их черед, брешут.
– Пока придет их черед, ты ноги вытянешь.
– Придет. Не гляди на красные морды. Какими вертаться назад будут.
– Те, на косматых коньках, прогонят? – важно крякнул и пожевал постными губами Ейбогин, сосед Казанцева, прозванный Пашо́ю. Стоял он в стираной сорочке, кожаном праздничном картузе, справный, бритый, брови благообразно и солидно насуплены.
– Они самые и прогонят, – придавил Пашу́ взглядом из-под дремучих бровей Воронов.
– Что-то не похоже…
А немцы шли и шли, наполняя хутор грохотом, пылью, бензиновой вонью. Машины и танки перемежались обозами, велосипедистами, потом снова машины – и ни одного пешего. Над хутором несколько раз пролетали самолеты с крестами, и тогда немцы из танков и машин пускали ракеты. Самолеты тоже пускали ракеты, качали крыльями и, надсадно воя моторами, проплывали дальше. И вскоре после того как они скрывались, от Дона докатывался тяжелый обвальный грохот.
Петр Данилович ковырялся в своей мастерской, отгороженной в сарайчике, выстругивал зубки для граблей, когда к плетню подошел Паша́, снял кожаный картуз, вытер рукавом рубахи лоб и протянул незнакомый пакетик.
– Закуривай. Немцы у правления утром раздавали.
– И ты захватил, значит. – Удивленный щедростью Паши́, Казанцев взял из его рук пакетик, отскреб костистым ногтем орленую серебряную наклейку, тряхнул на лоскут газеты. – Раз угостить собрался, и то немецким. – Чиркнул спичкой, сдвинул куцые в проседи брови, пыхнул раз-другой. – Пахучий, а слабый. Ну-ка, дай сюда! – Долго вертел в крупных растрескавшихся пальцах пакетик в серебряной полоске, близоруко щурился, шевелил губами. – Табачок-то, выходит, краденый, только наклейка немецкая. Читай, – чиркнул ногтем по строчке: – «Укрглавтютюн.». Ну-у?
– А ты видел его, хоть он и свой. – Смущенный оплошкой, Ейбогин сердито посопел, быстро сунул пакетик в карман.
– Спасибо за угощение. Извиняй, сосед. – Казанцев притоптал цигарку и поплелся назад в сарай.
На пороге хаты, руки на животе под передником, на них глядела Филипповна. Дела, как и раньше, в хозяйстве невпроворот, но руки ни к чему не лежали.
Под вечер какая-то часть стала шумно располагаться в Черкасянском на ночлег. Солдаты тут же рассыпались по дворам, требовали молока, яиц, сала. Кур, уток, гусей без спросу из автоматов стреляли сами. У старика Воронова огромная машина, пятясь, повалила плетень, подмяла деревца вишенника, уперлась кузовом в самый дом. Во двор, разгоряченные, пыльные, сердитые, вошли человек семь. Иссиня-смуглый с проплешью на макушке чисто говорил по-русски, а может, и был русский, да не признавался. А может, жил каким-нибудь образом в России. Белоглазый, поджарый, ловкий, в одних трусах и сапогах, проходя мимо, залопотал сердито, требовательно. Увидев у порога кадку с водой, тряхнул пыльным чубом, сунул в нее голову. Остальные по-хозяйски быстро рассыпались по двору кто куда.
Старик только щетинистыми бровями двигал да мял вялые в рыжине веснушек губы.
– Дальше куда же вы? За Дон? – спросил плешивого.
– Сталинград! Сталинград! За Дон приказа нет, – закивал плешивый.
– Что ж, у вас все добротное. Машины. А наши пешие, – вздохнул Воронов.
– Ваши солдаты хорошие, отчаянные, – похвалил польщенный немец и спросил, кто у старика на фронте.
Воронов распрямил спину, кулаком поправил никлые усы, сдержанно ответил, что детей им с бабкой бог не дал, но на фронте воюют три бабкиных брата, племянники, и сам он в прошлом году помогал скот угонять за Дон. И в этом собирался, да не успели. Не смигнув и вбирая немца в узкий прищур желтоватых глаз, усмехнулся дерзко:
– И все ж вам Россию православную не победить.
– О-о! – Немец округлил глаза, вытянул губы трубкой.
– В Россию кто ни приходил – все погибали. И татары, и французы, и шведы – все тут оставались. Никто не завоевывал Россию.
– Это верно. Православную Россию никто не завоевывал. Все гибли, – серьезно согласился немец, и зеленоватые от солнца зрачки его размышляюще сузились.
– И на вас погибель придет! – Рыжая борода Воронова стала торчком вперед. «Семь бед – один ответ!» – отчаянно, комариным писком зазвенело в голове.
Немец дернул плечом, усмехнулся: посмотрим, мол. Подошли другие, узнали, в чем дело, долго хохотали, хватаясь за животы. Белоглазый ловкий подошел к старику вплотную, больно ткнул пальцем в грудь: «Пук-пук!» Застрелить, значит, надо. Остальные захохотали еще больше, покачали головами: «Нет пук-пук!» Живи, мол.
Когда смерклось, на другом конце хутора заполошно вскинулся женский голос и придушенно умолк тут же. Через полчаса уже весь хутор знал: солдаты поочередно таскали сноху Мандрычихи в сад. Та кричала, отбивалась – немцы только распалялись пуще. Вскоре в ту же ночь колыхнули языки пламени. Загорелись постройки на подворье Корнея Чалого. Солдаты вздумали жарить яичницу и развели костер под навесом сарая. Первая ночь при новой власти началась тоскливо, волосяной петлей аркана душила духотой и неизвестностью.
Глава 4
Всю ночь на подъеме из хутора ревели тяжелые машины, грохотали колеса повозок, слышались гортанные крики и резкий смех. Немцы шли без всякой маскировки. Мощные прожекторы машин перепахивали сухую темь оврагов, шарили над степью.
Казанцев несколько раз выходил во двор покурить, слушал охрипший лай переполошенных собак.
К утру, когда Волосожары зависли над Острыми могилами, Петра Данилыча поднял резкий стук в ставню.
– Выдь на час, хозяин.
У порога стоял рослый боец, без пилотки, с автоматом на животе и распахнутым воротом гимнастерки.
– Не бойся. Свои, – успокоил он остановившегося на верхней ступеньке Казанцева. – Дорогу узнать… Я не один. Идем со мной.
За садом, в зарослях бузины и колючего терновника, топтались и тихо переговаривались между собою человек восемь – десять. Заросшие, провонявшие потом.
– Вот старик, – сказал рослый боец всем сразу и растворился среди товарищей.
Споткнувшись о поваленное прясло, перед Казанцевым выступил немолодой, черный, в фуражке с разломанным надвое козырьком, темном галифе и без знаков различия военный. Он стоял нетвердо, раскачивался, и от него сладковато-остро разило самогоном.
– Местный?
– А какой же еще?
– Ты мне загадок не загадывай… Сволочуга, шкура продажная…
Казанцев поддернул наскоро одетые штаны, облизал вмиг спекшиеся от прихлынувшего внутреннего жара губы.
– Ты меня не сволочи, гражданин командир. Нужно что – спрашивай, нет – иди с богом.
– Гражданин командир! – хрипловато булькнуло в горле военного. Вытер ладонью губы, не глядя, вытер ладонь о штаны. – Баланду хлебал?.. Становись к плетню, гад! – Под сапогами затрещал бурьян-однолеток, в ноздри густо шибануло сухой прелью и тленом. – Становись! Я тебя в настоящую веру произведу! – Он резким движением отшатнулся назад, выдернул из-за спины автомат.
По хутору перебрехивались собаки, подавали голоса петухи. За этими звуками угадывались другие голоса и движение.
– Храбрость свою там показывай. – Казанцев кивнул бойцам за спину, где ревели машины, взгромыхивало железо и мешались чужие гортанные голоса. – Я старик. – Умирать было не страшно, только обидно, что приходится принимать смерть от людей, каких еще вчера провожал отцовским напутствием, и они, обгоревшие, засмоленные на степном солнце, виноватые, грязные, обходились с ним по-сыновнему. – Стреляй! – не мог одолеть сухости в горле, закашлялся и ступил вперед. – Стреляй! Я все одно ни на что уже не гожусь. Россию у меня обороняют сыны. Не такие, как ты.
– Будет! – Пожилого военного решительно оттер плечом кряжистый старшина в пилотке блином на голове. – Извиняй, отец. Мы сами его не дюже знаем. В балке тут недалеко пристал. Дорогу надежную к Дону укажи да хлебушка вынеси. Оголодали мы.
– Зараз вы далеко не уйдете. Светает скоро. – Петр Данилович снял картуз, провел ладонью по лысине и лицу, огребая пот. – Передневать придется. В балки не лезьте. Они не спрячут вас. Днюйте в хлебах али бурьянах на открытом месте. А ночью этим направлением, ярами к Дону. – Глубоко вздохнул, будто на гору взбирался: – И думаю, лучше всего вам на Сухой Донец правиться. У Галиевки, говорят, третьего дня обложил Дон.
– Теперь бы хлебушка, отец. Шумков! – старшина обернулся к стоявшим кучкой бойцам. – Ждите меня здесь. Я сейчас. А ты, – военному в темном галифе, – помалкивай. Мы еще разберемся, кто ты.
Пробираясь стежкой через сад, Петр Данилович молча слушал словоохотливого старшину и думал о тех, кто ждал сейчас от него хлеба. Не было зла у него и против пожилого военного. Он, должно быть, как и многие в эти дни, был подавлен случившимся, страдал от собственной беспомощности и позора и искал виновников этого стыда и позора. Таким виновником для него в эту минуту и оказался он, Казанцев. Военный с первого взгляда, должно быть, отнес его к тем, кто радовался приходу немцев, и был равнодушен к его душевным страданиям и мукам. Он же, Казанцев, в свою очередь мог считать виновником своего положения этого военного и тех, для кого он шел сейчас за хлебом. Но он понимал, что ни старшина, ни тот военный, ни еще другой кто из них не виноваты в обрушившейся на всех беде.
На порожках хаты старика дожидалась Филипповна. Она согласно закивала на его слова и исчезла в сумеречной глубине сенцев, звякнула щеколдой избяной двери.
Благодарный старшина долго, по-хозяйски укладывал полученные хлеб и сало в солдатский мешок и обещал ведро из-под молока оставить в саду, в бурьянах.
– Осуждаете небось? – спросил он на прощание.
– Вас? За что? – вздохнула Филипповна.
– Как же, оставляем вас тут.
– У нас, сынок, два своих бьются где-то. Одному и восемнадцати нет, год воюет уже, доброволец. Другой на границе служил. Как голос поднимется судить их. Знаем – себя не пожалеют. – Голос Филипповны прошибла слеза.
– Ты права, мать: жалеть не жалеем и мы себя, да ничего не получается вишь пока. Прощайте. – Потоптался: неловко было уходить так сразу.
– С богом. Сейчас по яру до балки подниметесь и вправо. Там дорог нет. Переднюете и нравьтесь на Сухой Донец. В балки не лезьте: прочесывает.
Хрустнула ветка вишенника под ногами старшины у летней стряпки, и шаги его стихли. Где-то там, на краю хутора, ночь прошила короткая автоматная очередь, взвыла собака, плеснулся бабий крик, и разом стихло все.
Филипповна, повздыхав, ушла в горницу. Казанцев послушал еще, присел на порожки, закурил и стал думать, как жить теперь дальше и что теперь нужнее в этой жизни, какая началась вчера, часов в десять утра, когда у правления колхоза остановились чужие бронемашины.
Глава 5
По широкой, с бесконечными белыми размывами поворотов степной дороге к Дону шли обозы, беженцы, артиллерия, машины, пешие. В жгучем пыльном воздухе стояли невообразимый гул, степная духота, едкие запахи людского и скотиньего пота, бензиновая гарь, мучила жажда. Пыльные, черные, безразличные по вытоптанной пшенице брели пехотинцы. Проходя мимо машины, съехавшей в нетолоченную целину хлебов, долговязый солдат с ручным пулеметом на плече и в гимнастерке, прикипевшей к лопаткам, повернулся было к шоферу машины и солдатам в кузове, которые чему-то гоготали и смачно хрустели свежими огурцами, но махнул рукой… И хлеба, и сады с вызревающими в них вишнями, и сами хутора с напуганными и молчаливыми женщинами, детишками, стариками оставались теперь немцу. Да и у солдат хлопот хватало. Впереди Дон. Переправа. Какая она будет?.. Такая масса людей, скота, техники…
За спиной изредка погромыхивало, и снова настигала жуткая, плотная тишина, от которой, как в ожидании чего-то неминуемо-неприятного, сводило лопатки и колюче-холодно осыпали мурашки. Впереди, у Дона, черной стеной вздымались и мглистым покровом расплывались по небу пожары. Мелкий озноб земли от тяжких ударов докатывался и сюда, на дорогу. В сторону этих ударов уверенно и хозяйственно тянулись немецкие бомбовозы.
– Сворачивай на проселок! – не видя возможности двигаться навстречу сунувшемуся к Дону потоку, посоветовал водителю торчавший из башни броневичка сержант. Лицо его в этом море духоты и зноя выглядело непривычно белым и бледным. От левого глаза через весь висок к уху убегали два лилово-красных рваных рубца и прятались в ранней проседи волос.
– Куда? – пожал плечами водитель. – В этих степях заблудиться – раз плюнуть.
– Как там, на переправе, браток? – Пехотинец с пулеметом на плече шлепнул ладонью по горячему железу медленно выбиравшегося из затора броневика, блеснул зубами.
Угрюмоватый на вид сержант в башне повернул голову, глянул вниз. Кожица на рубцах натянулась, побелела.
– Жарко. – Но по серьезным глазам пехотинца понял, что для того этот вопрос не пустой, добавил мягче: – Хватает вашего брата. – Угол рта дернулся, отчего кожица на шрамах сбежалась, как от огня, потемнела. – Вывернешь плетень на огороде – вот тебе и переправа. Хозяйство у тебя какое…
Пехотинец с пулеметом мотнул головой в знак благодарности, помахал свободной рукой.
На дне неглубокой балки застряла, сбилась артиллерийская упряжка. Подменные с колхозного база лошаденки, видать, не притерлись еще к армейским порядкам, испуганно-напряженно косились на живую ленту на дороге, особенно шумную на подъеме, шарахались от машин.
– Ты – зараза, твою мать – ослеп?! – Осатаневший от жары, усталости и всего, что довелось ему пережить, вращая выпуклыми белками глаз на черном лице, заступил дорогу броневику усатый артиллерист.
– Но, но! – угрожающе высунулся водитель броневика.
Сержант со шрамами в башне нахмурился:
– Помог бы.
– Всех не пережалеешь, – возразил водитель. – Вон их сколько подметки рвут.
Урча перегретым мотором, броневик одолел подъем и круто завернул влево, прямо на непаханые кремнистые солончаки.
– Тут уж мне знакомо. – Багрово-масляное лицо водителя в темноте башни поделила белая полоска зубов. – Скоро и хутор.
В хуторе броневичок чихнул и заглох у двора со сломанной садовой оградой. В вишеннике за хатой серел танк, гремело железо. На башне, пригибаясь от нависшей ветки, ожесточенно матерился и плевался танкист в ухарски распахнутом комбинезоне.
– Один черт немцы переломают и перетопчут их!..
– Дурак! Вдвойне дурак! – осаживал его снизу смуглолицый старший лейтенант и дергал танкиста за рыжий кирзовый сапог. – Если уж ты решил их немцам оставлять, так пускай немцы и вытопчут, а не ты. Война!.. Спроси бабку, чей сад испохабил. У войны для всех свое лицо!.. Выгоняй сейчас же машину и ставь под сарай.
– А налетят фрицы…
– Слегами огороди, брезентом покрой, сенца сверху… И забор поправь. Это уж за упокой на твою совесть! – Старший лейтенант показал на сломанную и размочаленную гусеницами вишенку.
Сержант со шрамами успел вылезти из броневичка, разминался у поваленного плетня, вслушивался в голоса ругавшихся. Губы его то и дело раздвигала улыбка, и шрамы на виске набухали и шевелились, как две кроваво-черные пиявки.
Из-за угла хаты стремительно вывернулся старший лейтенант с танкошлемом в руке, поваленный плетень затрещал под его ногами. Остановился. Чугунно-смуглое лицо дрогнуло, волной прокатились желваки на скулах.
– Кленов! Костя!.. Ребята! – радостно блеснули молочно-синие белки в глубь двора. – Костя Кленов вернулся! – Старший лейтенант уронил танкошлем, облапил сержанта руками, припал к его плечу, затискал. Сержант только тряс головой, мычал что-то.
– Костя! Мерзавец! – Жарко блеснуло золото зубов, затрещала спина. Сержанта перехватил старшина.
– Дай-ка я огрею тебя! Сукин ты кот!
– Да отступитесь!..
– Где лежал? Рассказывай!..
– Как там житуха?..
Спина и плечи Кленова гудели от увесистых шлепков и похлопываний. Шрамы почернели, шевелились. В обезображенном, затоптанном палисаднике никли уцелевшие золотые шляпки подсолнухов, наливалась вишня. Из-за ограды и о дороги сержанта оглядывало множество незнакомых лиц. Война по-своему тасовала людей. У нее были свои страшные и вместе с тем такие будничные и целесообразные законы. Пополнение. Из них тоже, наверное, многих уже нет.
– Я уже думал, вы кончаете войну. На мою долю и не останется, – мрачновато пошутил Кленов, когда улегся первый шум.
– Наоборот, развели пожиже, чтоб на всех хватило, – золотозубый старшина Лысенков выругался, потер голые по локоть руки ветошью. – Только начинаем.
Кленов заметил у Лысенкова меж бровей две глубокие складки. Раньше их не было. С Иваном Лысенковым они начинали совместную службу еще до войны на Волыни. Неунывающий задира, шутник, будто всегда под хмельком, сейчас он выглядел подавленным и злым.
– Что насели на человека! Оглядеться дайте!
– Пожрать сообрази!
На околице грохнул и рассеялся в знойном воздухе разрыв, реванул на яру мотор.
– Кажись, наша вертается, старшой…
За ограду вновь высыпали все, кто был во дворе. Взметнулся глуховатый говор, подошли хуторские бабы, старики, детишки. Оставляя за собою серый пушистый холст пыли, по улице грохотал Т-34. Двое сидели на башне, ожидающе глядя на быстро приближающийся двор с поваленной оградой, двое на трансмиссии за башней держали кого-то третьего. Говорок смолк, наступила полная натянутая тишина.
Позванивая пружинами подвесок и скрипя гусеницами, танк качнулся и стал. Медленно улеглась на серебристом от мелкой полыни выгоне пыль. В борту танка зияла рваная дыра – хоть кулак закладывай. Двое с башни спрыгнули, помогли снять с трансмиссии на плащ-палатке что-то студенистое, хлипкое, перемешанное с пылью и грязью. Невозможно даже определить, где голова, а где ноги. Сплошная буро-землистая масса, дрожащая и булькающая.
– В санроту! Чего смотрите! – Из люка механика выпрыгнул коренастый широкоскулый сержант. В забитых пылью волосах – седина. Поскрипел на зубах песком, зло сплюнул. – Уже уходили, саданул сбоку. – И, будто ища сочувствия, огляделся. Непослушные губы кривились, ежились. – Не обидно, а-а? Семнадцать раз в атаку ходил, трижды горел, в каких переплетах не бывал только – и на тебе! – Кулаком протер кровяные от бессонницы и пыли глаза, лицо в мелких шадринках оспы блестело, как облитое. – Не выскочит на этот раз Леха. Как яйцо всмятку.
– А это откуда?
Тут только все заметили на буксирном крюке сзади обрывок толстой цепи с разогнутым звеном. Конец цепи волочился по пыли, оставляя за собою вилюжистый след.
– На оборочку хотели взять, суки, – трудно двигая кадыком, водитель пнул обрывок ногою. В перехваченном горле хрипело, булькало. – На даровое разохотились.
– Где ж это он вас прихватил так?
– А черт его… Дубовиковка или как, у самого Дона. Пехотная часть в окружение попала. Нас и уломали: помогите, ребята, мол. К Дону вывели чин чинарем и тут сами в трясину в балке сели, мотор заглох. Немцы пустили танки на нас. Подбили три. А тут глядим – по бережку тягачи крадутся. Ну, думаем, выручать нас – да в плен. Затаились. Так и есть. Подцепили двумя тягачами, выдернули на дорогу. Облепили башню, грохают каблуками и прикладами: «Рус, сдавайс!» Тут мы и газанули и уж совсем было выскочили… – Механик тяжело ворохнул кровяными и круглыми, как у филина, глазами, прикурил и на цепь: – Не сыму, пока не сгорим вместе. Комбат где?
– Турецкий! Старшой! Тебя!
– Иди отдыхай, Шляхов, – приказал старший лейтенант механику. – Машину на рембазу не гони.
– И с дыркой сгорит хорошо, – мрачновато пошутили.
Вечером, когда истомленное за день солнце окрасило в рыжий цвет меловой конек соломенной крыши соседней хаты, старший лейтенант Турецкий нашел сержанта под сараем, присел рядом, закурили.
– Ко мне снова механиком пойдешь… После Проскурова, как расстались, повоевали мы. Резина, Бондаря нет. Больше половины нет. Кто где.
– А это?
– Кубарь третий?.. В мае под Харьковом… А-а, вспоминать не хочется. Иван! – Старший лейтенант оттолкнулся спиной от глиняной стены сарая, встал. – Лысенков!
В быстро густеющих сумерках от дома в вишеннике отделилась высокая угловатая фигура.
– Спроси у хозяйки.
– Спрашивал. Говорит, нет.
– А ты еще спроси. Газойля ведерко пообещай на лампу. Такой случай. Начинали вместе… Пообещай. Она тут знает своих, сообразит быстро. Идем, Костя. – В сарае Турецкий зажег карбидный фонарь. – Немецкий, – ответил на взгляд Кленова. – Делимся кой чем. Они у нас – землю, города, села, мы у них – зажигалки, вечные перья… Только не смотри на меня так. – Из-под густых, кустистых бровей горячо блеснули выпуклые синеватые белки. Порылся в сене, достал из вещмешка консервы, хлеб, сало. – Устали мы тут, Костя, – вздохнул он. – И не так от войны, как от вопросов…
Заскрипела дверь. Оглаживая ладонью пыльную бутылку и удачливо скалясь, порог переступил Лысенков.
– Ну вот и обмоем твое возвращение, – радостно засуетился Турецкий. – Заодно и кубарь мой. Когда получил – не до того было. – Прижал левой рукой к груди каравай хлеба, задержался взглядом на Кленове. – Только ни об чем не спрашивай. Сам увидишь и поймешь.







