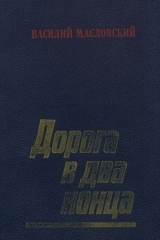
Текст книги "Дорога в два конца"
Автор книги: Василий Масловский
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 27 (всего у книги 32 страниц)
– Серьезная штука. Сантиметров пятнадцать, – делает он вывод.
– А здесь! – Щуплый солдатик запустил руку в рваную дыру борта, шевелит пальцами внутри танка.
– Нашли управу и на них. – Бронебойщик скользит пальцем в желобке от пули его ружья, хочет показать всем, что и он сюда руку приложил.
Батальон Карпенко занимает оборону по берегу балки. Наиболее расторопные уже отыскали родник на дне балки, поднимаются наверх с холодными мокрыми флягами.
В пахучем на росу дубняке устроились командиры.
– На сегодня тебе. – Костистый ноготь Казанцева царапает по карте. – Всего-навсего точка. И ни шагу. Ясно?.. Пушки, старший лейтенант, – Казанцев толкает в бок сопевшего ему в ухо Раича, – поставь сюда вот, у развилки дорог. Лучше всего в огородах… Сам выбирай. И нехай хоть по плечи в землю вобьют вас…
– Ясно. – Раич гасит фонарик, на корточках выползает из кустов. Колени мокрые.
– Как же мне без пушек? – жалуется Карпенко.
– Место овражистое для танков. – И, разгоняя волну прокисшего пота, Казанцев снял с лобастой головы каску. – Приказ комдива: закрыть выходы к Обоянскому шоссе… Торопитесь. Светает.
В сухих выволочках пепельно-серых теней скребут лопаты, пырскают в низине кони от сырости, тихо перекликаются голоса. Люди двигаются медленно, как во сне. Нервы в бою тают, как соль.
Из степи, колыхаемой пожарами, подошли человек пять артиллеристов. Все раненые. Рослый русоволосый солдат попросил воды для всех.
– И покусать ничего не придется? Со вчерашнего дня…
Недоверчиво повертел две небольшие банки консервов.
– Килька наша, балтийская… Обопьются.
– Ромка у нас по шесть банок за один присест съедает, – успокоили артиллеристы. – И дареному коню, знаешь…
– Я ничего. – Артиллерист вонзил финку в черствую краюху солдатского хлеба, по-братски разделил кильку. Себе почти ничего не взял.
Когда раненые артиллеристы поели, солдат встал: – Пристройте их, братцы. У меня пушка. – И он растаял в перетираемых тенями сумерках.
Раич послал людей и упряжку на помощь артиллеристу.
Дворик орудия был сплошь перепахан снарядами и бомбами, впереди, сплываясь с ночью, угольно чернели фантастические останки «пантер» и «тигров».
– Как ты управился с этим зверьем? – подивились артиллеристы Раича, сами пережившие за ушедший день немало.
– Я хорошо знаю повадки этого зверя и куда кусать его. И потом, – на черном в копоти лице сверкнули кровяные белки глаз, в расхристанную гимнастерку выпирала волосатая костистая грудь, – это моя, курская, земля, где еще Соловей-разбойник пугал своим свистом всякую погань.
– Верно. Земля эта нашенская, самая что ни на есть русская.
– А босиком почему?
– Черт его знает. Один сапог потерял куда-то. Сам не знаю. Второй пришлось бросить: неловко.
«Это, наверное, и есть стоять насмерть! – подумал Раич, принимая солдата с его пушкой в свою батарею. – Не обреченность и отчаяние, а уверенность хозяина на своей земле».
В редеющих сумерках не видно было, но чувствовалось, что местность за день сильно переменилась. Деревья стояли голые, обрубленные; на каждом шагу воронки; обгоревшая и постаревшая за день трава жестко шелестела под ногами.
* * *
Багровое воспаленное небо за лесом металось и вздрагивало, как в ознобе. Тяжкий недуг войны не давал ему покоя, терзал с марта месяца. Весь день там гремело, не утихая, было дымно, темно, будто горела сама земля. Сейчас там растекалась глубокая тишина.
Тетка Дарья долго держала ивовое кольцо воротец, вслушиваясь в эту тишину, и вглядывалась в кровавое свечение неба над лесом, которое своими щупальцами тянулось все выше, к его середине. Было так необычно тихо, как перед дождем. Из-под красного свечения, как из-под дождевой тучи, даже пахло луговым сеном и горячей пылью. Вздохнула, зашла к корове, выглянула на улицу еще.
Над головой звенели в темноте комары. В конце улицы черно горбатилась хибара Артема-пчельника. Сумно. Тихо.
На зорьке разбудил шум. Стучали колеса повозок, фыркали кони, рычали моторы. У самых плетней, приглушенные травой, гремели шаги сотен ног.
– Отходят… Слышь, Пармен! Отходят! – Тетка Дарья откинула душное одеяло, села. Сквозь ставни пробивались отдельные голоса, слитный гул. – Господи, спишь! Отходят! – На кровати заворочались взрослые дочери, на лежанке – соседский мальчишка, который жил у них с весны. – Может, встать? А-а?..
– Ложись! – Пармен, кудлатый старик, заворочался, закашлялся. В хате душно. Хозяйка утром пекла хлеб. Сейчас на стынущих кирпичах в печи лежали листья табаку. – Что ты сделаешь?.. Не остановишь…
– Воды, может, вынести?
– В Донце на всех хватит. Напьются.
– Эх-х! – Тетка Дарья перелезла через старика, зашлепала босыми ногами по земляному полу, нашла валенки, накинула юбку.
– Достань табак… Ладно, сам. – Пармен стукнул пятками о пол, почесался, посидел, опираясь руками о перину. – Обутки где мои?
На улице стук повозок, шорох ног были слышнее. Улица походила на живую реку. Там, где с вечера метались сполохи, расплывалось красное варево и было тихо. На спуске к реке надрывались, осаживая лошадей, голоса, урчали на малых оборотах моторы.
На огонек цигарки остановился один-другой.
– Свежачком пахнет. Тряхни, хозяин. Не скупись.
– Сколько до Обояни отсюда?
– Переправа как?
– Что ж, дома остаешься?
За первыми остановились еще и еще. Пришлось весь табак, какой лежал в печи, вынести.
– На огороде небось на весь полк хватит? – утешали курильщики.
– Ты, батя, в холодочке повяль его, – подавали советы.
– Овсеев! Куда, чертова колода, котелок девал? Молока не во что взять!
– Ладно, хозяйка… Ты не обижайся на нас.
– Ушков! А-а!.. Дьявол! Пулемет возьми! Сил нету!..
– Подтянись!..
Заря достигла половины неба. Поток отступающих схлынул. Ковыляли отставшие. У хозяек для них ничего уже не осталось. Бедняги, опираясь на винтовки, пили воду, голодными и красными от бессонницы глазами благодарили хозяек.
Тетка Дарья высыпала из запола у печки кизяки, искала щепу на подтоп, когда стукнули в окно. Закрываясь с боков ладонями, к стеклу прижался командир с тремя звездочками на погонах.
– Нам бы лопат обыкновенных, какими землю копают, – попросил он вышедшую хозяйку.
На огороде, у конопляника и красных кустов боярышника у дороги, позвякивало железо, ставили пушки.
– Стрелять будете?
– Будем, мамаша. – Командир снял каску, пригладил ладонью слежавшееся золотое руно волос. На выпуклой груди блестела Звезда Героя. – Лопат не хватает у нас.
– Надо – копайте. – Тетка Дарья повернулась к погребице, где у нее лежали лопаты, кивнула на белевшие под яблоней яблоки. – Насбирай хлопцам. Орудие прямо в огороде ставить будете?
– Удобно там, мамаша.
Тетка Дарья отдала лопаты, выпустил кур, намешала и отнесла в катух свинье. Стряпаться не стала. Слазила на чердак, достала из кадушки две четвертины сала пожелтевшего, оскребла, приложила к ним хлебину, завернула все в чистое полотенце, отдала старшей дочери.
– Снеси, нехай поедят. Молока надою – потом. Взвару наварим.
– Я тоже, мамо, – запросила младшая.
– Пополнение, товарищ старший лейтенант! – радостно встретили артиллеристы девчат.
Кликнули, пришли и от кустов боярышника. Лица у всех желтые, щетинистые, усталые. Уселись на станины, мокрые от росы ящики. Девчатам постелили шинели, снятые при работе гимнастерки. Над курганом в степи выкатилось солнце, огромное, медно-красное. Потеплели верхушки верб в его лучах, пожелтела пшеница, упиравшаяся углом в самый огород.
– Уходили бы вы отсюда… На соседние хутора, что ли… – Голубоглазый, угловатый в движениях старший лейтенант с Золотой Звездой на груди прислонился затылком к мокрому щиту орудия, жевал медленно, вяло, думал о чем-то своем. Девичьи красивые глаза его запали. Кончив есть, вымыл руки о росную траву, достал табак. – Бой будет. Передайте отцу, матери. Переждете – вернетесь потом.
– Уйдете, значит? – Старшая облизала тугие губы-сердечки, ознобно передернула плечами.
– Все может быть. – Голубые глаза комбата сощурились на старшую, не выдержал ее взгляда, порозовел в скулах. «Что объяснять ей, девчонке? Бой обычный, как вчерашний. Может, тяжелее, может, легче. Для них все одно плохо…» Надкусил конец цигарки, убрал крошки табаку с губ. – Немцы к Обояни рвутся. Танков у них много.
За Ворсклой резко и разом ударили зенитки, глубоко ухнули и покатились эхом меж берегов разрывы. Зататакал и захлебнулся под горой крупнокалиберный пулемет. Старший лейтенант вскочил, лицо будто ледяной водой омыли, почужало вмиг.
– Замаскировать пушки! В укрытия! Быстро! – И легкими прыжками, пружиня спиной, понесся к кустам боярышника.
– Фамилию старшого?.. Зачем она тебе, курносая?.. Тогда уж и полевую почту опрашивай. – Приземистый плотный сержант огорченно почмокал губами, почесал в затылке. – Везучий он у нас на любовь… Раичем кличут. Неженатый, впрочем, и земляк почти. С Дона.
От переправы самолеты завернули, пронеслись над самыми крышами хат, резанули по улице, где тарахтели повозки беженцев, из пулеметов. Сделали круг, в дыме и грохоте пронеслись над улицей еще раз. На западной окраине ахнули разрывы, и над вишневыми садами к Донцу пополз белый дым соломенных крыш.
Вдруг один из самолетов резко кувыркнулся, ухнул где-то под берегом, и оттуда встал тонконогий гриб черной копоти. Зенитчики из-за Донца угодили ему прямо в крыло.
Старшая из сестер вскоре пришла снова, посидела, пригласила обедать, собрала валявшиеся рядом с бруствером солдатские, серые от грязи рубахи, предложила постирать.
– Зря, сестренка. – Русоволосый богатырь, в ботинках явно с чужой ноги, отер плечом пот с лица, опустился на сырую, глянцевито-масленую на отвалах землю. – На нас они чистыми долго не будут.
– Ты нас от пули заговори, – попросил остроносый, черный, совсем мальчишка.
– А страшно пуль? – Глубокие и темные, будто омуты, глаза дивчины раскрылись широко, ожидая ответа.
– Какая свистит – той не страшно, а какая поцелует – свистеть не будет, – блеснул глазами солдат-мальчишка.
– Видишь, сестренка, никакой не страшно. – Русоволосый поплевал на ладони, взялся за лопату. – А бельишко наше зря. Тебя как кличут?.. Таня? Танюша?..
Работали артиллеристы сноровисто, уверенно, будто никогда другим ничем не занимались в своей жизни. По улице, громыхая, прошел к Донцу КВ. Конец пушки был оторван, края курчавились каким-то странным цветком. Пыль за ним долго не оседала, серым полотнищем висела над выгоном и садами.
– Веселые вы, – борясь глазами с солнцем и сама не зная чему, но, завидуя в душе артиллеристам, улыбнулась Таня.
– Нам другими быть нельзя: пропадем.
Пришла полуторка, привезла снаряды. Шофер с треском распахнул дверцы, высунул лохматую голову.
– Не крестили ишо?.. Счастливцы. У соседей с зари служба идет. – Кряхтя, вылез, выставил на траву поближе к кустам три термоса. – Отъедайтесь, мамкины дети! Обед и завтрак вместе. Ужин зарабатывайте. – Чернов от щетины, загара и грязи лицо сморщилось. – Хотел у тетки первача разгориться, батя не велел. «Тигров» прозевают, говорит. – Перекашивая машину, влез на крыло, заглянул через борт. – Забирайте цацки свои. Живо!.. Мне ишо в два места поспеть надо.
– Ты не скалься. Привык на гражданке за бабами, – осадил шофера-весельчака Соколов.
– Здрасьте, давно не виделись! – сказал кто-то в орудийном дворике.
Над селом, брызгая серебром окраски, вальяжно плыл «фокке-вульф», разведчик. Прошелся раз-другой, развернулся и стал кружить над позициями батареи.
– Придется на запасные переходить, – Раич сглотнул сухо, не глядя, снял пристегнутую к ремню каску. – Тут житья нам не будет. Разворачивайся!
Снаряды выгрузили на запасных у сарая и колхозной кузницы по другую сторону дороги. Перетащили туда и пушки. И вовремя. Из-за Донца ударили зенитки, и черные цветы разрывов распустились над девяткой горбатых «юнкерсов». Самолеты замкнулись в круг, и ведущий свалился в пике на старые огневые. Вздыбились огненно-рыжие фонтаны земли, черной стеной встали по всему огороду. Вдруг один «юнкерс» подпрыгнул, грохнулся в пшеницу, где протолочили к Донцу дорогу беженцы.
– А тут, старшой, народ дошлый, видать, в этом селе. – Пушкарь приблудившейся пушки в лохмотьях паутины и измазанный в глине, спрыгнул с чердака кузницы. В руках у него была изогнутая кольцами медная трубка. – Змеевик. Центральная часть самогонного аппарата. – Понюхал. – Свежая. Дня три назад варили.
– Ботинки зашнуруй. Потеряешь, как вчера, – сказал Раич.
Солдат нагнулся, на мускулистой спине обозначилась ложбинка.
За кузницей зашумело, и из-за угла показалась высокая дебелая старуха с ручной тележкой, доверху нагруженной свежеукошенным клевером.
– Грешишь, старая? – Приблудный пушкарь переложил змеевик в левую руку, рыжие смеющиеся глаза воззрились на старуху. – Колхозный? Обрадовалась – смотреть некому? – Выдернул пучок, задохнулся в медвяной росной горечи. – Мамочки, до чего же хорошо. – И снова глазами на старуху. – Молочнице?
– Ей, кормилец. – Розовая рубаха, заправленная в сборчатую юбку, потемнела на спине от пота, из черных провалов глазниц старухи сердито посверкивали желтоватые, как старая кость, белки глаз. – Их пять ртов от трех сыновей, и каждый куска просит.
– Иди, мамаша, домой поскорее и прячь внуков, – посоветовал старухе Раич, выдернул из тележки былку клевера, стал жевать.
Над селом кружил коршун. Из двора напротив вышел старик, приставил ладонь к уху, послушал на все четыре стороны, задрал бороду на солнце и пошел назад во двор. По дворам где-нигде промелькнет бабий платок, скрипнет дверца катуха – и снова все глохнет в сухой и вязкой тишине. Артиллеристы перебрались под плетняную стену кузницы. Разбрызгивая мучнистую пыль босыми ногами, бабка медленно двинулась со своей тележкой по улице дальше.
Разрыв лопнул приглушенно. Раич вскочил первым. На старых огневых, уносясь в сторону белых вымоин бугра, оседала пыль. Ахнуло еще и еще, и все там же.
– Три… семь… тринадцать… тридцать восемь…
Рыжее облако пыли на буграх поверх села пухло, косо поднималось к небу. Снизу из-под него выкатывались и выкатывались еле различимые в этой пыли приземистые по-волчьи широколобые машины.
Раич смахнул с губ принявшие цветы клевера, лицо его медленно одевалось меловой бледностью.
… Немцы раздавили, смяли батарейный заслон и в грохоте, дыме и пыли вышли на Обоянское шоссе.
Глава 9
В ночь на 5 июля танкисты не спали долго. За месяц знойного лета в землянках все попересохло, с потолка сыпалось на нары, на голову, за шею, за пояс. Кусали блохи. Многие вышли с шинелями на волю, устраивались на полянах, под кустами. Но сон и там не шел.
На юге, в стороне сел Черкасское и Ракитное, небо подрезала краснота. Она светлела и карабкалась все выше. По горизонту длинно стекали вспышки орудийных выстрелов. Казалось, там трепыхается подбитая белая птица. Еще с вечера стало известно, что немцы сбили боевое охранение пехотных дивизий и подошли к главной полосе обороны. Туда с темнотой ушла и соседняя бригада, чтобы стать в боевые порядки пехоты.
Цигарки тлели в одиночку и кружками. Танкисты поглядывали на юг, тихо разговаривали.
– Интересно бывает в жизни, – журчал в раздумье тенорок. – Были у меня соседи – дед с бабкой, глухие. Детей у них не было, и бабка деда все корила: мол, ты, старый пень, виноват. Ты давно, мол, бабе не защита и не оборона, а ощипанная ворона… Детей хотелось бабке.
– Будет и нам то же. Перемнемся здесь.
– Ну, ты молодой еще…
– На войне время летит быстро.
– Я баб на три сорта делю…
– Разделить тебя, кобеля, на две половины.
– Нехай целым ходит: земля по частям не принимает.
– Примет. – Плевок сквозь зубы. Убежденно: – Она, матушка, принимает всех одинаково – и царя, и мужика, и маршала, и солдата, и по частям, и вкупе.
– Ну, завел. Небось грехи спать не дают – из головы не выпускаешь ее.
– Ушаков в Босфоре потерял семнадцать убитыми, а слава на весь мир.
– За морем и телушка полушка, да у нас цена красная.
– Ты, Шляхов, скажи лучше – когда?
– Спроси чертову бабушку, она старше всех. Все знает.
Поверх оврага, на своем постоянном месте, трещали сверчки, сонно возились птицы на деревьях, у озера в траве будил к покосу дергач.
Кленов лежал на скатанном брезенте. Над головой раскачивался бархатно-синий купол неба, обрызганный звездами. Говорят, у каждого на земле есть своя звезда. Кленов прислушался к голосам у землянок по всему лесу, повернулся на бок. Брезент дышал застарелыми запахами горючего и масла. «Чьи звезды погаснут завтра? Уцелеет ли моя звезда?..» – неотвязно билось в голове.
Орган войны поднял танкистов вместе со всем многокилометровым фронтом. Гул, единый и мощный, разом вырос из земли, разрастаясь, растекался по небу. С неба, черной сыпью обложенного крестиками и точками самолетов, нарастал встречный гул. Они, эти гулы, сталкивались где-то на средине, сливались в оглушающий вал, который жесткой удавкой опоясал курскую землю.
Протарахтела кухня, и по опушке пополз привычный запах перловки. Зазвенели котелки, танковые фляги, послышались сонные голоса.
На просеке завизжали тормоза «виллиса», высунулся комбриг. От землянки к нему бежал майор Турецкий.
– Едем – посмотрим «тигров», что за зверь. Командарм «добро» дал.
Дожевывая кусок, Турецкий прыгнул на заднее сиденье, устроился за сутулой спиной комбрига. Там уже сидела комбат-2 и лейтенант-разведчик. «Виллис» рванул и тут же исчез в пологом овраге.
Фронт предстал перед ними в своем будничном, давно знакомом обличье. Дым, пыль, гул, и сквозь все это пробивались лучи раннего утра. Они отражались в грязноватых озерцах тумана по низинам, росной траве, сырой листве деревьев. В золотую кудель солнца вплетались молнии выстрелов, вытянутые космы пожаров, тревожный блеск глаз солдат, сидевших в окопах или спешивших куда-то по разным делам.
После трех месяцев затишья вновь пахнуло сырым холодком смерти. И здесь не просто убивали людей. В этом море огня и дыма, гулах и стонах выживали и умирали мысли, надежды, мечты о счастье.
Немецкие танки извилистой стальной лентой опоясывали все зримое пространство впереди. Приземистые, широкогусеничные, угловатые, они и в самом деле производили жуткое впечатление, сминая все на своем пути. Линия их ломалась – останавливались, вели огонь. Навстречу этой огненной ленте яростно, в упор били иптаповские пушки, и путь ленты отмечался черными столбами дымов. Лес их становился все гуще. У корня дымные деревья окружались бесцветным ореолом горящей пшеницы. Пшеница горела перед железным валом немецких танков, вспыхивала от разрывов, ее лизали языки огня иптаповских пушек, стволы которых стлались над самыми колосьями.
Немецкие танки, задирая стволы пушек, в шахматном порядке скатывались с высоты, но на гребне ее вырастали все новые и новые…
– Серьезная штука, – кряхтел комбриг и нервно чесался под мышками. Раскоряченные ноги искали опоры.
Они с Турецким лежали на крыше заброшенного мякинника. На сопревшей соломе разбросал свою цепкую основу вьюнок с бледно-голубыми, как снятое молоко, чашечками цветов. Хворостяное на столбах строение вздрагивало, как в ознобе. Комбриг следил в бинокль за немцами и за поведением врытых в землю за посадкой тридцатьчетверок соседней бригады. Земля поднималась и опадала, плескались огни, сплетались пулеметные трассы, ревели моторы на земле и в воздухе. Разглядеть и попять что-нибудь в этом движении и гуле было почти невозможно. Тридцатьчетверки соседней бригады ничем не выдавали себя, ждали сближения. 76-миллиметровая пушка на таком расстоянии бессильна против десятисантиметровой брони.
С первыми же выстрелами Т-34 заиграли «катюши». Высота и лощина перед нею превратились в кипящий котел. Тупорылые, ребристые «тигры» выдвигались из стены огня первыми и, неуязвимые, устрашающие, продолжали движение вперед.
В клуню забрели передохнуть раненые. Турецкий с комбригом спустились с крыши к ним.
– Бог не выдаст – свинья не съест, – ответил на вопросительные взгляды комбрига и Турецкого приземистый плотный артиллерист. В мякинном сумраке клуни на голове и плечах его выделялись свежие бинты.
– До первого выстрела страшно. Потом забывается все, – добавил товарищ артиллериста, болезненно морщась и опираясь на суковатую палку, встал о кошелки, на которой сидел, поковылял к двери.
Вернувшихся за полдень комбрига и Турецкого закидали тревожными вопросами: «Ну?..»
– Горят. – Комбриг снял фуражку, мужицкой ладонью поворошил слежавшиеся волосы. Лицо его за день потемнело, опало. – За землю эту предки наши били всех и по-всякому. Никому не отдавали ее.
– Не отдадим и мы. – Шляхов пинком сапога выбил из-под гусеницы немецкую флягу в суконке, посмотрел, как она, подпрыгивая, катится по кочкам.
– Курских соловьев отдавать нельзя.
– Какая ж Русь без соловья! Это ты прав, Петька.
Танкисты нудились. Неизвестность кончилась. Немцы рвались к Курску. Стена гари не опадала и медленно придвигалась к ним, подтягивала за собой и гулы.
На овраги, лес, землянки ложилась очередная ночь. Из глубин леса и оврагов сквозило сыростью. В небе, подсвеченные снизу, игрушечные серебряные крестики самолетов, безобидные и забавные. Там, куда они падали, казалось, ничего уже нет и они ныряют в раскаленную бездну на краю земли. Но из бездны после ныряния самолетов поднимались тугие клубы дыма и тучи пыли, и было ясно, что там, в бездне, такая же земля, как и в лесу, и на пшеничном поле за оврагом, и что там, на этой земле, происходит что-то ужасное.
С темнотой, однако, фронт начал стихать. Исчезли самолеты. Умолкла дальнобойная артиллерия. Над лесом, разминаясь в пути, в ту и другую сторону с тяжким хищным клекотом пролетали отдельные снаряды. Над истомленным зноем, истерзанным пространством разрасталась тишина, почти физически осязаемая после дня сплошного грохота.
* * *
В десять вечера, когда в небе исчезли сусальные крестики самолетов и сухая душная сутемень южной ночи плотно сдвинулась над землей, бригада начала движение на юг. Шли без света. Горели только габаритные фонари. Механики первых десяти машин еще видели их мигающие красные глазки, остальные сдвинулись до десяти метров и ближе, определяли скорость движения и направление по искрам из выхлопных труб. Над дорогой непроницаемым туманом повисло облако неоседающей пыли.
Дорога шла вначале широкой с размывами у ручьев лесной просекой. Кряжистый дубняк, болтливые осины и по-девичьи стройные березки в глубоком молчании провожали в неизвестную дорогу своих многомесячных постояльцев.
Трудно сказать, что делали в этот час немцы. Зализывали раны, хоронили убитых или играли на губных гармошках, уже видя себя на улицах старорусского города Курска? По эту же сторону фронта жизнь, загнанная на день в землю, пришла в движение. Машины, повозки, кухни шли непрерывным потоком. Подходили свежие части, теснились, давая им место, потрепанные, пополнялись боеприпасы, продовольствие. Передний край запасался, получал все нужное для трудного завтрашнего дня.
С башен танков вдоль дороги угадывались ломаные трещины траншей и ходов сообщения, горбились врытые в землю танки, темноту беспокойно сторожили многочисленные пушки, и солдаты, солдаты… Большинство их повылезали из траншей, землянок, мучились бессонницей на разостланных шинелях, дышали полынными запахами бескрайних степей.
У дороги стояли женщины, дети. Еще вчера они запросто приходили в землянки в гости, стыдливо, но охотно брали скудные солдатские гостинцы – сахар, хлеб, кашу, черствый кусок немецкой галеты. Солдаты в свою очередь бывали в деревнях, пололи огороды; истосковавшись по дому, накладывали заплаты на захиревшее без мужского догляда крестьянское хозяйство.
С приближением к фронту усиливались запахи гари и разлагающихся на жаре трупов. У сломанного мостика через высохший ручей подбитый «тигр» и старые знакомцы T-III и T-IV. Значит, прорывались уже сюда.
У «тигра» задержались – хоть глазом пощупать. Три старые женщины в десятке метров от «тигра» копали яму. Рядом с ямой на фуфайке девчоночья русая головка. Заворочалась, поднялась, глядя на чумазых дяденек у танка, и тут же провалилась в сон. На башне танка возился головастый мальчуган, будущий техник, наверное. «Тигр» сгорел, видать, еще утром. Посерел, остыл. Выше последнего заднего катка зияло два пролома, еще выше – искореженный лист брони. Против пролома в борту как раз лежал лицом вниз немец, голый по пояс. Карманы брюк вывернуты, без сапог, в землю затоптаны белые листки. На днище башни – зола, кучка обгоревшего тряпья, сжавшийся на огне сапог с головастой костью. В нише сковородка, десятка два яиц. От жара они все полопались. Яму копали, должно быть, для этих костей и мертвеца у пролома.
На выходе из ручья впритык Т-34 и немецкая самоходка. Пушки вытянуты навстречу друг другу, будто обнюхиваются, как две незнакомые собаки. В тридцатьчетверке спиной к шиберам – обугленный труп. Судя по движению рук, сгоревший тянулся со снарядом к казеннику. Смерть остановила это движение.
– Вы, бабоньки, нашего с теми не кладите вместе, – попросили танкисты.
– Аль мы нехристи какие?! Господь с вами! – возмутились таким предположением женщины.
К полуночи прибыли на место. Часом раньше сюда же прибыли несколько свежих артполков. Они сейчас закапывали свои пушки по обе стороны дороги.
Танкисты бригады, прибывшей сюда вчера, как раз ужинали. Кто спал, кто гремел железом, возился у машин. Все место вокруг являло картину жуткую. Ни окопов, ни землянок – разрыхлено, обрушено, разбито, перехлестнуто и перепеленато широкими рубчатыми следами гусениц. Валяются траки, лафеты пушек, разнесенные в щепу и уцелевшие снарядные ящики, запасные танковые бачки, трупы. В темноте бродят, перекликаются солдаты, ищут своих, сколачиваются новые взводы, роты, батальоны.
– Говорю – четверо всего. Про остальных у ключкаря Петра спроси.
– Тямкую, як немцив быть. Ось мисто гарне.
– Нехай и командир. Был бы умный.
– Кухню показывай. Немца сами знаем, как бить.
Вновь прибывшие спотыкались, выбирали места, зарывались в землю. Натыкаясь на трупы, вздрагивали, холодели.
В уцелевших блиндажах пили чай. В одном на стене висели вырезанные из журналов иллюстрации «Грачей» Саврасова и «Трех богатырей» Васнецова. Рядом плакат с указанием уязвимых мест «тигра». В другом блиндаже резкие запахи сушеных трав – по стенам, на нарах пучочки и узелки. По всей видимости, фармацевты жили. В третьем стены оклеены трофейными открытками киноактрис, и среди них почему-то Ольга Чехова. Дух прежних хозяев не выветрился. В каждом жили свои мыслители. Последний, с немецкими актрисами, наверняка принадлежал разведчикам.
Оттуда, где колыхались близкие пожарища, продолжали выходить одиночные танки. Люди почернели, оглохли, насквозь пропитались порохом, потом, пылью. Их тут же обступали, и они пальцами, прутиками на земле рисовали обстановку, откуда только что вырвались. С брони снимали убитых, раненых. Если бы в мирное время несли на шинелях, кусках брезента вот так изувеченных, пыльных, потных, смешанных с землею – их бы не считали жильцами. Сейчас все это было нормальным, и многие из этих раненых выживут и будут воевать еще. Многие экипажи, которым цены не было, не вернулись из боя совсем. В скоротечные минуты затишья нужно было пережить потери и настроиться на новый бой. Все делалось молча, без лишних слов и суеты.
В рощах начинали просыпаться уцелевшие птицы. Из балок выплывал отфильтрованный зоревой прохладой медвяный настой трав, В небе нелепо и смешно застрял яркий серп месяца. В расступавшихся пыльных сумерках отчетливее обозначились картины дневного боя. Немецкие танкисты – в коротеньких черных куртках с розовыми петлицами на воротниках.
«Зачем им розовые петлицы?.. Как быку красная тряпка», – думал Кленов, обходя воронку и перепрыгивая траншею. На спине дюжего детины куртка выгорела. Он, видимо, хотел стянуть ее. Так и лежал на животе с заломленными назад руками.
К холмам и лесу отходили бойцы частей, бывших впереди. Почти все раненые и странно молчаливые. На вопросы даже не оборачивались. Там, откуда они шли, остались их убитые товарищи, изуродованная техника. У них, живых, не было времени даже проститься по-настоящему с теми, кто оставался. Они отходили, чтобы снова стать на пути осатаневших и опьяненных кровью гитлеровских головорезов.
Смерть в минувший день была сытой. Она хозяйкой бродила по вытоптанным полям пшеницы, раздавленным окопам, вырубленным железным смерчем рощам.
Где-то совсем рядом ударил коростель. Ему с горловым клекотком отозвалась самочка. Лейтенант Лысенков оторвался от бритья, под глазами собрались пучки морщин: «Ах, дьяволы!..» Покосился на солдата, читавшего письмо.
– Не успеешь!
– Успею. – Толстые губы солдата морщатся, вытягиваются трубкой. Меж бровей то распустятся, то вновь обозначатся напряженные морщинки. – Про картошку моя пишет. Уродилась. Слава богу, в зиму с харчем будут. – Из глубоких глазниц на лейтенанта лучатся радостью глаза солдата. – Трое их у меня. Два сына…
* * *
Тетка Дарья вылезла из погреба, подумала и оставила дверцу открытой.
Немцы под сараем громко галдели, гремели крышками котелков и фляг у цибарки с молоком. Прикладок сена рядом с сараем разбили, разнесли ногами по всему двору. Костлявый, рыжий, в желтой майке, вытирая губы, требовательно манил рукой.
– Стиркать, понимаешь? Гут стиркать. Шнель! Шнель!
– Мыла нет. – Преодолевая брезгливость и страх, тетка Дарья приняла узелок, показала, как трет пустой горстью. – Мыла.
Под сараем и у танка загоготали снова, пошлепали пятнистую громадину по бокам. Тетка Дарья уловила, однако, показное, насильственное в смехе немцев. Для нее смеялись. Вторая машина в изуродованном вишеннике была еще больше и страшнее. Пушки вчера у дороги вдавили в землю – смотреть страшно. Убитых похоронить разрешили. Жарко. Заразы боятся. Командира, приходившего за лопатами, женщины нашли в канавке присыпанным. Решили снять Звезду с него. Он заморгал, зашевелился вдруг: «Живой я…» Под шумок бабы спрятали его на чердаке кузницы в тряпье и истлевших конопляных оческах…
«Господи, что же будет?..»
Пока стирала, развешивала провонявшее чужим потом белье, немцы сгрудились у зева погреба, требовали, чтобы дочки вышли к ним.
– Немножко тринкен. Выпить!..
Долговязый Петер принес с огорода в подоле майки помидоры, огурцы.
Задребезжали и вылетели со звоном мутные от зноя стекла в окнах, колыхнулся горячий воздух. Над соломенными крышами хат прокатился тяжкий гул.
– Рус! Рус! – Коренастый стариковатый немец споткнулся посреди двора, почесал ушибленное колено.
За буграми загремело снова. Бухнуло дверью в соседнем дворе. Немцы переглянулись, засуетились. Громадные, как стога сена, из дворов стали выползать танки…







