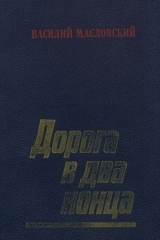
Текст книги "Дорога в два конца"
Автор книги: Василий Масловский
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 32 страниц)
Часть третья
Глава 1
17 февраля 1943 года немцы бомбили Миллерово. Взлетали куски рельсов, рваные шпалы, кирпич и доски пакгаузов, ревело пламя в ребрах вагонов. На втором этаже, над станцией, колыхался мертвенно зеленый свет осветительных бомб и ракет. Еще выше предупреждающе и зло гудели «юнкерсы», и оттуда, где они гудели, из колючей ледяной пустоты неба, сыпались бомбы.
– Какого черта стоим тут, майор?
Комбат танковой бригады, бровастый, смуглый майор Турецкий оглянулся на ходу на обмерзшую раззявленную дверь вагона, веленые капустные лица неряшливо одетых солдат. На платформах, под брезентами и так просто, горбились обындевевшие, присыпанные снегом танки.
– Черт их маму знает! – дернул плечом майор.
– Они же угробят нас!
– Все может быть. – Майор налег грудью на стремянку в своем вагоне, обламывая нахолодавший новенький полушубок, тяжело дыша, крикнул внутрь: – Костя, Лысенков! Автоматы – и ко мне! К начальнику станции пойдем. Кленова еще прихвати.
– Автоматы зачем?
– Для солидности! Поворачивайтесь!
У водонапорной башни упруго и быстро шагавший майор споткнулся, вернулся назад. Занесенная снегом, в обгорелой одежде – женщина. Метрах в двух от нее снежный бугорок чуть поменьше – спеленатый ребенок. В глазных впадинках – синеватые льдинки слезинок и нетающий снег. Во лбу с антрацитно-рубиновыми блестками по краям жестко мерцала ранка.
– Вчерашние. – Затрепетавшими ноздрями майор потянул в себя тепло избы рядом, сказал сопевшему в затылок Кленову: – Вот чей-то сад… Забор сломанный. Вернись, возьми людей, что нужно, и похороните.
Прокуренная комната начальника станции с заплатами мохнатого инея и пятнами сырости по углам гудела от народа. Все кричали, требовали, угрожали. Начальник тоже кричал всем разом, односложно, затверженно, беззлобно:
– Не могу!.. Рви на куски!.. Ну, рви, рви!..
– Чего орешь? – Турецкий протиснулся к самому столу начальника. Распахнул дубленку. На его груди горячо поблескивали орден Ленина и орден Красного Знамени. В спину подпирал лейтенант Лысенков, из-за плеча лейтенанта желтой костью – приклад автомата. – Чего орешь, спрашиваю? – Турецкий достал пачку трофейных сигарет, закурил сам, сунул под нос начальнику.
– Га-а?! – опешил начальник станции. – Ты кто? – Глянул потрезвевшими глазами, обмяк сразу, вздохнул, как усталая лошадь, всем животом. – Вдвоем, на испуг?.. А ты полк, весь полк давай! – Черное, небритое лицо перекосила усмешка. – Все требуют, спешат по делу. Один я без дела под ногами путаюсь. – Безбровое лицо нахмурилось, приняло прежнее отчаянно-озабоченное выражение. – Снаряды, бомбы на путях. Горит! А у меня людей нет! Помоги! К ангелам поднимут!..
Через полчаса вагоны с боеприпасами разогнали по тупикам, вытолкнули эшелон с горючим в степь и вернулись в комнату начальника станции. Народ поразошелся. Захоженный слякотный пол лизал морозный пар, по запотевшим углам тянулся к лишаям изморози и сырости на потолке.
– Отправлю и вас. – Горячечно часто дыша, начальник рукавом тужурки снял испарину с залысого лба, блаженно закрыл на минуту глаза, открыл, проследил взгляд майора и добрался до лампы на потолке. Бомбежка кончилась, а лампа продолжала мерно, с тихим поскрипыванием раскачиваться. – Две недели покоя не знает. Отплясывает.
– А ты?
– Что я?.. Я сплю… Иногда. Привык, а она не может привыкнуть. – Кривая усмешка вновь сдвинула морщины к ушам и вискам, преобразила все лицо, усталое и нездоровое. Он был явно доволен передышкой, относительным порядком на станции и тем, что так удачно сумел обрисовать этому цыганковатому молодому майору свое положение. – Философия первобытного человека была предельно проста, майор. Основной аргумент – дубинка. Не понял – тюкнул по голове. Повторять не нужно: покойник. А тут голос по трижды за час срываешь – не понимают.
– Кому же польза от такой науки.
– Живым. Не всем же захочется в покойники.
– Рассолодел ты тут, как бабак на сурчине. – Турецкий беззлобно-простодушно хохотнул в стиснутые зубы, пожалел задерганного и наверняка доброго начальника. Пускать бы ему шептунов в песок на печи да ворчать на внуков, а он лается с ничего не признающими и не боящимися ни бога ни черта фронтовиками. Посоветовал дружески: – Слюни подбери, ты не баба. А с нашим братом чуть что – норови за грудки первым. И учти, – верхняя губа майора дернулась, обнажила плотный ряд по-молодому крепких белых зубов, – долго ждать не будем! Поворачивайся!
– Спасибо за помощь! – Начальник утопил в морщинах глаза. Нездоровое рыхлое лицо его испятнили тени.
Под утро эшелон с танками вынырнул в синие сумерки заснеженных полей и, обгоняя искры из паровозной трубы, потянулся дальше на север. Измученные бессонной ночью, в вагоне спали. Лысенков спал внизу. Верхушки щек, до черноты прихваченные морозом, жег изнутри румянец, в межбровье залегли скорбные морщинки. Верхняя губа подергивалась в такт перестуку колес, в красноватых отсветах печки жаром вспыхивало золото зубов, и хмурость исчезала. Казалось, что он все время чему-то смеется. Ногам было жарко, и он их подтягивал к животу, но они снова расслаблялись и подвигались к весело гудевшей печке. Механику Лысенкова сержанту Шляхову, наоборот, было холодно у стены. Он поворачивался к стене то спиной, то животом, тянул шинель с головы на ноги, а с ног на голову. Рябое лицо его матово блестело зимним загаром.
Паровоз время от времени дергал, набирая ход, предупреждающе и зло ревел в морозную и пустынную темноту. Вагон мотало, катались и дергались головы на вещмешках, мерзло повизгивало настывшее железо, пронзительно дуло в невидимые щели. Назойливо бренчал чей-то котелок, будто жаловался на свою судьбу. В углу у нар тускло мерцали железом автоматы и карабины.
Кленов долго не мог избавиться от видения убитого ребенка, не давали покоя синеватые льдинки в глазницах. Наконец укачало и его.
Проснулся от холода, Спина онемела. Левую ногу свело, не чувствовал совсем. От его движений под досками в местах креплений захрустел снег. Поезд стоял. По соседству и на нижних нарах спали. Стонали, скрипели зубами, ворочались во сне. Дверь была открыта. Выжженные синие бока печки оделись мохнатым инеем.
У сгоревших пакгаузов станции – толпа. Свист, скрип снега под ногами, взрывы хохота. Рыжий детина в замасленном ватнике и меховом танкошлеме на затылке безжалостно терзал меха заигранной до хрипоты гармошки. На затоптанном снегу неуклюже кружились толстые от одежды охотники погреться. Их подзадоривали свистом, хлопали большими обмерзшими рукавицами. Задубевшие на морозном ветру лица делили улыбки.
На соседнем пути – эшелон с ранеными. В тамбурах теснились врачи и щеголеватые сестры в полушубках внакидку. И хоть никто ничего не говорил, они понимали сами, что в веселом гомоне и топоте у пакгаузов многое делается специально для них. К окнам вагонов прилипли восково-бледные лица раненых. В окне напротив застыл похожий на куклу с глазами-щелками. Они с тихой покорностью и грустью следили за веселым горластым толчком у обгоревших складов.
– Ленинградские, ростовские есть? – кричали у вагонов танкисты, шевеля плечами, с чувством людей здоровых, повидавших опасности и знавших цену своей военной профессии.
– С какого фронта? Откель?
– Касторная… Под Курском!..
Плюща нос на восковом лице, к вагонному стеклу прижался человек-кукла, весь в бинтах и гипсе.
– Моя – Самарканд! – щурясь на снег и блестя восточными глазами, крикнул сосед человека-куклы.
Подошла к вагону женщина в толстом платке на голове и короткой шубейке, сняла крышку с кастрюли перед животом, и самаркандец, открыв окно, принял от нее в ладони пяток дымящихся картофелин и пару огурцов. «Половина ему», – показал глазами и жестами самаркандец на своего соседа. У других вагонов тоже топтались женщины с разной снедью. Танкисты, глотая слюну, отказывались, деликатно показывали на раненых.
Пробежал солдат. Лицо довольное, красное. Под мышкой сверток.
– Браток! Поделись. Где взял? – неслось ему вдогонку, хотя никто не знал, что он нес.
Кленов вытиснулся из плотной обоймы спящих, спрыгнул на пол, присел на подогнувшихся ногах.
– Мордует! – лягнули его спросонья в зад.
Кленов не обиделся, даже не обернулся. В сонном мозгу мелькнула веселая мысль о кипятке. Он даже поискал глазами котелок свой в куче у закрытой двери. Но тут же обмяк. Станции были разбиты. Живое тепло не всегда найдешь, не то что кипяток.
В вагоне было выстужено основательно. По уторам синевато-красной бочки, служившей печкой, лежал снежок. На улице мороз колючей лапой царапнул за щеки, защекотал ноздри. Кленов даже задохнулся от крепости и густоты воздуха.
Сразу же за путями начиналась степь, холмистая, пронзительно-белая, в косой дымке поземки, красноватой против солнца. Степь выглядела пустынной и мертвой, в нескончаемых волнах сугробов. Солнце сторожили белые столбы радуги. Курганы тоже были одеты в морозные ореолы.
Обламывая закраинцы сугробов, вдоль путей у вагонов и платформ топтались вездесущие ребятишки в подшитых, не по ноге валенках-опорках с пучками золотистой соломы из задников или в кованных железом итальянских ботинках. Их интересовало все солдатское, и в первую очередь танки на платформах. В розоватой дымке морозного пара тут же, греясь, дурачились, прыгали солдаты. Ребятишки только носами шмыгали. Их не бра ли ни мороз, ни ветер.
– Давай лезь, братва! Так и быть, покажу, – сжалился над ребятней молодцеватый старшина.
Громко стрельнуло морозное железо люка. Ребятишки ахали, голыми руками хватали липкую на морозе броню. Мимо пробегали солдаты с только что прибывшего эшелона.
– Что за станция?.. Пожрать успеем?
– А вы кто такие?
– Пехота! Сталинградцы!.. Слыхали?
– Иди получай! Перловка, мать ее за ногу…
– Небо – как слюда. Налетит в самый раз! – слышалось со всех сторон.
Навстречу уже бежали солдаты с котелками, сухарями в полах шинелей. На лицах деловитая хозяйственная озабоченность, углубленность и ожидание. В самом деле, что может быть приятнее для солдата – влить в промерзший желудок горячего варева или чайку.
Провели неизвестно где взятого пленного итальянца. Завидев солдат с котелками, итальянец шмурыгнул носом, закричал бодро:
– Муссолино, Гитлер капут! Вива руссо! Вива вита!
– Гляди, чучело разговаривает, – с интересом приостановился и хмыкнул солдат в распахнутом ватнике и сбитой на затылок шапке. – Да здравствует жизнь! Шкура!.. Дошло!
– Узнал кузькину мать, и дошло.
Услышав про кузькину мать, итальянец заволновался, завертел шеей, тревожно озираясь.
– Ученый. Знает кузькину мать.
Хохотали солдаты, провожая пленного в тощей шинелишке и пилотке, натянутой на уши.
У поваленного станционного забора солдат лет тридцати, в полушубке, с автоматом на груди, кормил из котелка годовалую девочку. Замотанная в тряпье, она сидела у него на правом колене, следила, как он черпает левой рукой из котелка, и с готовностью раскрывала рот. Солдат был в маскировочных белых штанах. Одна штанина заправлена в валенок, вторая – обгорела и оторвана наполовину. Через плечо на веревочках – овчинные рукавицы.
– Ну, как?
Девочка покосилась на пустой котелок. Нос пуговкой сморщился, нижняя губа задрожала, поехала на верхнюю.
– Степан! – гаркнул солдат через плечо за забор. – Добавку неси!
– Да ты что! Пуп треснет!
– Настька исть хочет!
– А-а! – Из-за забора высунулась толстая фигура в коросте снега на подшлемнике у рта. – Зараз. Одной ногой.
Минут через пять вернулся с дымящимся котелком, оттянул подшлемник!
– Где подобрал?
– На станции, на скамейке сидела.
– А мать ейная?
– Я откуда знаю?
– О господи! – Толстый солдат порылся в своем мешке, достал кусок сала, завернутый в газету. – Держи.
Девочка не поверила, ловким зверушечьим движением развернула газету. Солдат хотел завернуть сало снова в газету, положить рядом. Не дала. Так и держала мерзлое сало голыми ручонками: так оно надежнее, да и видишь, что держишь.
Толстый солдат повздыхал, покачал головою, посоветовал.
– Отправка скоро. Поспрошай здешних баб про мать. Аль сами возьмут.
Из-за синевато-алмазной шапки кургана бесшумно вынырнули хищные длинные тела «мессеров», и стремительно настигающий гул их тут же покрыл расслабленную эшелонную суету. Цветные пулевые трассы понеслись впереди самолетов, взбивая фонтанчики в сугробах и выдирая белую щепу из теплушек на путях. Лихорадочно забили зенитки с двух концов эшелона и середины, из башен танков на платформах яростно залаяли пулеметы. Танкисты и автоматчики бросились под прикрытие брони. Кленов очутился на платформе Лысенкова. «Мессеры» зашли как раз с хвоста, под крыльями их дрожали рваные вспышки, и огненные струи строчили по рельсам и вагонам смертные швы. Санитарный поезд обреченно и беззащитно затих.
– Подвели мы их под монастырь! – Хищно мерцавшие глаза лейтенанта Лысенкова суживались, холодели с приближением самолетов и совсем стыли льдистыми точками, впившись через прорезь прицела в самолеты.
Их длинные тела, ослепляя и вдавливая в снег ревом моторов, серебристыми тенями мелькнули вдоль путей. У паровоза, одеваясь в седой пар и красно просвечивая на солнце, выросли черные столбы разрывов бомб.
Ребятишки и бабы исчезли в первые же мгновения обстрела. Кленов хорошо видел их из лысенковского танка. Они притаились в улицах поселка, наблюдали за тем, что творилось на путях, справедливо полагая, что не они на сегодня добыча гитлеровских летчиков.
Минут через двадцать слюдяной простор неба опустел, и оно снова приняло предательски безмятежный мирный вид. Степь тоже как ни в чем не бывало горела на солнце празднично-пасхально своими ризами, стыдливо зализывая поземкой черные круги бомбовых разрывов и глубокие полоски расчесов от крупнокалиберных пулеметов.
В пахнущем гарью воздухе загуляли деланно бодрые шутки, зазвучал ненатуральный смех. Из санитарного поезда выносили носилки, накрытые шинелями, и вытягивались к утоптанной круговине у обгоревших пакгаузов, где полчаса назад грелись пляской солдаты.
– Испортили аппетит, суки! Не дали чаю попить! – чертыхались в вагоне танкисты, медленно возвращаясь.
– Ну и дурак! – успокаивали нервных. – Солдату аппетит никак терять нельзя. Тут же копыта откинешь.
Коренастый рябой Шляхов в полушубке внакидку ковырнул ложкой застывшую кашу, выбросил щепку, другую, подошел к раскрытой двери, вывалил всю кашу на снег.
– Зря. На печке разогреть можно было… Подумаешь – щепка.
– Давай тушенку! – Движением плеча Шляхов поправил сползавший полушубок, присел на корточки у пламенного зевла печки. – Дровишек запасли?
Заскрежетал нож о жестянку свиной тушенки, потек густой запах жира и вареного холодного мяса.
– У тебя ничего там не осталось, Федотыч?
– Что ж, у меня бочка бездонная? – Дрожа припухшим веком и топорща щетинистые брови, Шляхов прикурил от уголька, пыхнул дымом.
– В Тацинской – вот где трофеев было.
– Век бы не видать этого добра. Сколько едем – ни одного поселка целого.
– В Мамонах житуха была. Эх-х!..
– Дон, что ты хочешь!
– В сорок первом на Калининском воевал, под Новый год подарки прислали. Я в разведке был как раз. – Шляхов потянулся, достал из банки кусок тушенки, размазал по хлебу. В углах прижмуренных глаз застряла ухмылка. – Вернулись – шиш. Обделили. А пентюху, был у нас такой из-под Тамбова откуда-то, и носки, и варежки, и фото девчушечки-первоклассницы. Такая обида… Вот что, говорю, хватит с тебя носков и варежек.
Грей руки-ноги, а у меня сердце зябнет. Делись. – И забрал карточку себе.
К Шляхову потянулись, фотокарточка пошла по рукам.
– Господи! Ангелок-то какой!
– Эх, вернемся с войны, поманят от ангелочков бабы молодые… Что вызверился? Сам Женьку-фельдшерицу голодными глазами лапаешь, – встретил в упор командир орудия Вдовиченко взгляд Шляхова. Худая рука в тонком рыжем волосе задрожала, уронил с кончика финки кусок мяса.
– Лейтенант, переведи его в другой вагон либо на платформу. – Шадринки у хрящеватого, пощербленного оспой носа Шляхова запотели, потемнел всем лицом. – Ей-богу, выложу его сонного!
Холодная тушенка и мерзлые сухари тяжелым комом ложились в желудке. От бочки кругами расходилось тепло. Сверху на ней паровало ведро. Танкисты черпали из него кружками, обжигаясь, пили чай.
Заговорили о доме, детях, женщинах. На фронте сердце черствеет от однообразия и жестокости, и солдаты любили вспоминать и ласкали свое прошлое. Вызывая его в памяти, они ждали будущего, представляя себе его таким, каким было это их прошлое, и не всегда задумывались над тем, что будущее их не может быть таким, как эта, уже прожитая ими, жизнь, потому что и сами они уже не смогут быть прежними…
Кленов усмехнулся, вслушиваясь в воркотню голосов у печки, розоватая кожа шрамов на левом виске сбежалась морщинами. Солдат, должно быть, вообще человек особенный. Спроси у любого у этой печки: хотел он стать солдатом?.. У каждого до войны была своя жизнь – удачная, неудачная. А вот стали и воюют. Хорошо воюют! Седоватый худой и высокий учитель литературы в их школе у Балтийского вокзала очень интересно говорил о Тихоне Щербатом как некоем символе русского человека. Его собрат, Степан Пробка, ходил с топором по Руси и украшал ее городами и весями, а Тихон этим же топором одинаково ловко вырезывал ложки для еды и кроил черепа французов, защищая Россию от нашествия. Под Тацинской в декабре прошлого года мальчонка, и не Тихон, и не Щербатый, привел фашиста метра в два ростом. Пистолет держал двумя руками.
– А если бы он обернулся к тебе? – спросили у мальчишки.
– Не. – Стекловидный обтрепанный рукав по носу. – Я сказал ему, чтоб он вперед шел.
– По-немецки сказал?
– Ага. Я знаю ихний язык: «Рус, век, швайн, шнель, цюрюк!» – И победно прищурился.
Каждое слово камнем падало в душу Кленова. Он тоже знал эти слова, но пацан в шесть лет: «Я ЗНАЮ ИХ ЯЗЫК!..» Какой язык он узнал!..
Эшелон шел степью. Она алмазно горела снегами. Над щетинистыми балками дымились розоватые тусклые туманы, синели сады и укрытые снегом хаты по логам. У дорог следы недавних боев: разбитые немецкие машины, пушки колесами вверх, танки, каски, трупы. Трупы кулигами и в одиночку. Зима жалостливо укрыла их своим погребальным саваном, хранила до весны. Эти уже не попадут ни в Милан, ни в Бухарест, ни в Будапешт, ни в Берлин. По мере приближения к Россоши битая техника и трупы в полях и у дороги попадались все чаще. На свободном от трупов и железа пространстве в иных местах из-под снега проглядывали озимые.
Солдаты поели, согрелись, отоспались, подобрели. Коротая время, курили у жарко дышавшей печки, болтали о делах житейских.
– Скорей бы тепло. – И тут же тяжкий вздох с позевом.
– Под Курск, как бог свят. Курск недавно наши отбили.
– Пророк нашелся.
– Не в Москву же. Соображай, к Россоши подъезжаем, а там Лиски. Поворот.
Проехали лесом. Прижженные морозом деревья пахли не по-летнему медовой зеленью, а горечью жизни, бившейся где-то в глуби, в корнях, под корой. В терпкой горечи этой, однако, как раз и чувствовалась близость обновления. Солдаты хмурились сильнее, сердце острой болью точила кровь, понимали, что сорок третий год не будет похожим ни на сорок первый, ни на сорок второй. Немцы тоже, наверное, рассчитывали, что приходит их пора. Словом, и те и другие ждали тепла, и каждый связывал с ним свои надежды.
Раза два налетали самолеты. Из вагонов лезли на платформы, в танки или высыпали в степь и оттуда следили за судьбой теплушек.
Короткий зимний день истекал быстро. В логах и балках уже укладывалась на ночь мохнатая синь сумерек.
С темнотой в вагоне разговоры становились тише, проще, домашнее. Солдат привык, что ночь была все-таки за него: укрывала, прятала, несла с собою несколько часов отдыха. На облитых морозным закатом тополях полустанков кричали первые грачи, тлели в завешенных окнах огоньки.
Когда открывали дверцу в бочке, чтобы прикурить или подбросить дров, прыгающий огонь странно освещал все кругом: автоматы, карабины, котелки, валенки, полушубки, шинели, жирно лоснившиеся смуглые лица. И, несмотря на оружие и военную амуницию, было в этом мягком трепетном свете что-то мирное, доброе, отвлекающее.
– Ходко идет, – прислушивались солдаты к скрежету железа на поворотах и свисту ветра за тонкой дощатой стеной вагона. Доставали кисеты, кряхтя, закуривали. Пахло солдатским временным жильем и прелой соломой на нарах.
В Лисках стояли, наверное, с полчаса и снова нырнули в сумеречную снежную круговерть степи. Шляхов отодвинул морозно заскрипевшую дверь. В вагон ворвался повизгивающий грохот колес, гулкий в просторах рев паровоза. По ногам ударило холодом, завихрилась метель.
– На Острогожск повернули. – Шляхов закрыл дверь, постоял некоторое время в раздумье. – К Белгороду, значит.
– Вот и кончились гадания.
У печки будто только и ждали этого известия, ясности, завозились и молча полезли на нары.
Выгружались далеко за полночь на глухом полустанке, где-то между Алексеевкой и Валуйками. Угревшись, набрав тепла, на упруго подрагивавших нарах крепко спали, у бочки клевал носом дневальный, когда поезд, позванивая буферами, остановился, и вдоль эшелона забегали посыльные и начальство, объявляя выгрузку. На улице пуржило, мело поверху и понизу. К разгрузочным площадкам подогнали грузовики, не опасаясь налета, фарами осветили платформы с танками. В хлестких струях метели неуклюже ворочались и кружились люди, кричали, размахивали руками. Ворчали и всхрапывали отдохнувшие за дорогу танки, сползали по аппарелям из шпал на хрусткий снег, исчезали в мутной горловине станционного поселка.
В домах за ставнями затеплились огоньки, застучал по дворам кашель.
– Дистанция на видимость, Костя! И закройте люки, не так сквозить будет, – блеснул улыбкой, пробегая мимо, Лысенков.
Черную фигуру его в полушубке тут же перерезало острой косицей поземки с верхушки сугроба, смыло совсем.
– Погодка – волков морозить.
– В самый раз. Мешать не будет, – тихо перекликались в экипажах.
Недавнее вагонное настроение, когда все казалось неопределенно далеким, почти нереальным, улетучивалось, а новое пока не овладело ими полностью.
За белой круговертью на юго-западе погромыхивало, будто ворочалось и голодно урчало, укладываясь спать, огромное животное. Где-то там был Белгород. Там были немцы, фронт. Война огненным шнуром продолжала делить русскую землю на две части: советскую и подневольную, которую предстояло еще освобождать.
Люди бригады занимались своими делами: прогревали моторы, сгребали с брони снег, выгружали и грузили армейское имущество, но головы нет-нет да поворачивались на эти гулы. Лица серьезнели, одевались каким-то особым настроением, и все делалось с подчеркнутой старательностью и вниманием.
* * *
За неделю за Волгой солдаты полка Казанцева обогрелись, отъелись, обмирнели. Даже успели организовать и посмотреть самодеятельность.
– Концерт будет во!.. Всех шутников и юмористов собрали. Анекдотами запасались еще в Сталинграде, – встретил Казанцева комбат Карпенко у длинного, похожего на конюшню, слободского клуба. Полнокровный здоровяк, он выглядел смешным и забавным в своих необычных хлопотах. Ремни крест-накрест по белому полушубку казались лишними на нем.
На концерт пришли и слобожане. Солдаты, успевшие отмыть пороховую копоть и отмякнуть сердцем, лузгали семечки с женщинами и, несмотря на банную духоту, рыцарски прикрывали их полами шинелей и полушубков.
Больше всего имела успех сцена с пленным гитлеровцем. Замухрышный, длинношеий, в бабьем платке и рваной кацавейке, он явился в плен с котелком и ложкой и истошно вопил: «Гитлер капут!» Когда ему сказали, что отправят в Москву, но сначала – в Сибирь пилить лес, немец в испуге остолбенел и выронил котелок и ложку на пол.
– Дурень! От дурень! – задыхался от смеха в первом ряду Урюпин. Оттопыренные хрящеватые уши его порозовели, на узкой груди позванивали медали. – Сибири нашенской не знаешь. Как мак расцветешь там!
Десятого февраля стрелковый полк Казанцева погрузился в эшелон и двинулся на запад, снова навстречу войне. Солдат провожали грачи. Они косо проносились над эшелонами в безлюдных заснеженных полях, раскачивались в гнездах на деревьях разбитых полустанков, суматошно орали, поторапливая весну, и не признавали никакой войны.
В Старобельске пришлось выгрузиться и двигаться походным порядком. Рельсы перебиты и взорваны, станции захламлены искореженным подвижным составом, под откосами железнодорожных насыпей – изуродованные, обгоревшие вагоны и цистерны – немецкая работа сорок первого – сорок второго годов. Там же, припущенные снегом, на боку валялись наши паровозы СУ и ФД с немецкими орлами на тендерах. Это уже работа партизан.
Шли наезженными дорогами, но больше целинными снегами, местами чуть ли не в пояс. Несли на себе пулеметы, минометы, ПТР, боеприпасы. Полковой обоз поднять всего нужного не мог, а война была прожорливой.
Проходили километров по тридцать пять – сорок в сутки. Еще там, за Волгой, при посадке, уже в вагонах и при выгрузке из них, когда на месте их короткого колесного жилья остались лишь утратившая свою свежесть и принявшая солдатский запах солома, клочки бумаги, тесемочки равные, уже остывшая и почужавшая для них печка, все испытывали прилив беспричинного и тревожного веселья, каким заполняется ожидание и гасится страх перед неизвестностью. Солдаты беззлобно поругивались, охотно отзывались на шутку, высказывали преувеличенную деловитость и заботливость ко всему. И вся эта предмаршевая суета, сухой хруст снега под валенками, готовность ко всему, какой одевались лица солдат перед тем, что их ждет, говорили об объединенности этих людей и привычности к своей нелегкой жизни. Однако недельный марш более чем в двести километров, режущее сияние снегов, распухшие глаза, непроходившее окаменение в плечах от пулеметов, минометов, плохое питание, усталость за три месяца уходящей зимы и вообще за всю ту войну, какая уже осталась за их плечами, переплавлялись в равнодушие и безразличие. Исчезали шутки, смех. Люди были поглощены конкретными сиюминутными заботами.
По горизонту все время дремотно погромыхивало, то удаляясь и стихая, то приближаясь и вновь нарастая, словно раскачивались огромные небесные качели. Люди поднимали головы на этот гром, оглядывали скрипучие, повозки, сани, равномерное до одурения колыхание рядов, дремавшие в синеве снегов села по горизонту и все это стылое царство под низким небом, успокаивались, уже совершенно точно зная, как они поведут себя, когда эта качели приблизятся к ним.
Попадались неубранные поля. Среди заснеженных крестцов пшеницы стояли подбитые пушки, минометы, танки, валялось разное военное имущество, характерными пятнами бугрились трупы. Иные сгоревшие танки так и стояли на черных островках без снега. Грузовики вытягивались цепочками по обочинам. В одном месте за баранкой тупорылого «фиата» увидели окоченевшего итальянца. Его, видимо, пробовали вынимать, но он ломался, и его оставили до весны.
В ободранных боках брошенных машин и кукурузных бодыльях в полях завывал ветер, устало вздыхала и шипела поземка над всей этой невидалью, хотела укрыть ее, но сил не хватало, и она, печально и заунывно шипя, вылизывала побелевшее на морозе железо, окостеневшие трупы. В щетину на щеках трупов набился снег, и мертвецы выглядели бородатыми, умиротворенными, постаревшими за время лежания на этих полях.
Ночевали по крестьянским избам, сараям. Ближе к Северскому Донцу все чаще вместо сел попадались пепелища с печными трубами, которые выглядели кладбищенскими памятниками. На одной из ночевок в таком селе два чудака забрались в печь, полагая, должно быть, что там должно сохраниться тепло, раз ее топили хоть когда-то. Наутро поночевщики вылезли из печки чернее сажи. Их и сегодня еще можно отличить по черным шинелям.
21 февраля вышли к станции Лозовая и в полдень остановились на дневку в слободе Александровна, километрах в двух северо-восточнее Лозовой. Казанцев со штабом и ротой автоматчиков занял школу (под навесом в углу двора были свалены засиженные курами парты). В пустых классах лежала перетертая в труху солома, валялись бинты, куски серого гипса со следами конечностей и крови, пахло отсыревшей побелкой, ваксой и еще чем-то чужим и раздражающим.
День выдался солнечный. На пригреве, в затишке, мокрели лужицы, капало с крыш. Над элеватором на станции потревоженным вороньем кружились «юнкерсы». Что уж им дался этот элеватор, но они непременно хотели разбить его. Тугие горячие волны докатывались до слободы, а элеватор, как заговоренный, стоял.
– Мудрят, окаянные! – Бурцев на приступках крылечка куцыми пальцами вычесывал линючую шерсть приблудному коту, старообразное с массивным раздвоенным подбородком лицо хмурилось. – Вчера на марше встретили одиночные, сегодня косяками ходят. Не иначе затевают что-то.
Школьный сторож шлепал подшитыми валенками по лужам, уговаривал солдат не бегать по двору. Молодежь, однако, задираясь друг перед другом, не слушалась, и немцы заметили движение, сделали круг над школой.
Вой пикировщика загнал Казанцева под навес с партами. Там уже сбились в кучу бегавшие по двору солдаты. Перед ними, освещенный со спины сиянием луж, смешно и жалко топырился старик сторож.
– Господи! Сыночки! Говорил – загубите! Пропали теперь! – выл он дурным бабьим голосом. Мочалистая серая щетина на скулах его мокрела слезами, пухла-расплывалась на глазах, будто раскисала.
«Жить хочет!» От причитаний и вида старика Казанцеву стало не по себе. Споткнулся взглядом о белые глаза солдата. Распахнутые до невозможности, они застыли в ожидании ужаса и боли. Тонкая шея былинкой тянулась из непомерно просторного ворота шинели.
– Перестань, отец! Стыдно!..
Пересиливая оцепенение и ватную слабость в ногах; Казанцев выглянул из-под навеса: девятка «юнкерсов» замкнула круг над школьным двором, головной уже входил в пике. «Все положат туда же, куда и первый!» – молниеносно озарила догадка. По пике рассчитал, куда упадут бомбы.
– За мной! Бегом!
В торцевой стене навеса зиял пролом. Казанцев бросился к нему. Пробегая мимо загаженных курами парт, успел подумать еще о хозяине кур. «Наверное, старик… Их съели немцы, и он не возражал. Боялся, как сейчас».
Воздух за спиною колыхнулся. Настигая бегущих, в проломе метнулось и застыло на миг рыжее пламя, поползла кирпичная пыль и удушливая гарь. Когда самолеты ушли, на месте навеса дымилась черная воронка, горели дворовые постройки и сторожка. На дороге, в первых лужах воды, тоже в нескольких местах зияли воронки. Слободу делил широкий лог, забитый осевшим снегом. Перебрались на другую сторону лога. Ночевали в просторной избе, крытой чаканом. Хозяйка, молодая, дородная женщина, подала на стол миску квашеной капусты, огурцов соленых, свеклу вареную, отошла к печке, скрестила руки под грудью.







