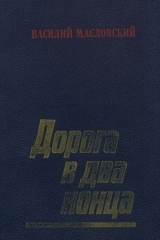
Текст книги "Дорога в два конца"
Автор книги: Василий Масловский
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 23 (всего у книги 32 страниц)
Глава 4
«Видя от крымских людей войны многие и помыслы, поставить по сакмам татарским города» – так повелел в 1593 году царь Федор Иванович, и по рекам Осколу, Севорскому Донцу, Дону в XVI–XVII веках легла цепь городов-крепостей, так называемая Белгородская оборонительная черта. На крутом изломе этой черты, на самом юге, и был сам Белгород, основанный еще в XIII веке и трижды менявший свое место, пока не закрепился на западном берегу Северского Донца. Много довелось повидать ему на своем веку. Видел он и татар, уводивших на сыромятных ремнях низки пленников. Мальчишек продавали в Турцию и превращали в янычар, женщин – в гаремы, мужчин – на галеры. Потом приходили шведы, литовцы, поляки. Но, пожалуй, никто не оставил по себе столько проклятий и слез, как гитлеровцы. Людей ловили, как зверей, жгли, четвертовали, насиловали, вешали, травили собаками, зимой на реках рубили проруби, а потом автоматными очередями загоняли людей в эти проруби. Изощрялись как могли, превращая страдания в наслаждение и потеху. Людей истязали и губили за то, что они хотели остаться людьми («Мстим за саботаж германскому командованию».); за то, что они хотели есть («Повешена за сбор колосьев».); за то, что не хотели превращаться в рабочий скот («За невыход на работу».). Людей лишали человеческого звания.
Вот выдержка из приказа оккупационных властей:
«3. Каждый гражданин обоего пола начиная с 12 лет должен регистрироваться в списке у местной комендатуры.
4. Каждый зарегистрированный гражданин носит на груди дощечку с надписью комендатуры в номером регистрации.
6. Кто этому распоряжению не подчинится, будет арестован в наказан по военному суду.
Командующий немецкими войсками».
С какой сладостью уже после войны Бенно Цизер, один из недобитых, напишет в своем романе «Дорога на Сталинград»: «Когда мы кидали им, русским пленным, дохлую собаку, разыгрывалась сцена, от которой могло стошнить. Вопя, как сумасшедшие, русские набрасывались на собаку и прямо руками раздирали ее на куски… Кишки они запихивали себе в карманы – нечто вроде неприкосновенного запаса». Ему и невдомек, кто же выглядит больше человеком в этой сцене. О том, как они сами приходили в Сталинграде в плен с конскими копытами под мышкой (про запас) или об очередях с консервными банками, мисками, кастрюлями, котелками солдатскими у русских кухонь по всей земле немецкой, он не напишет.
Вот на этой многострадальной серединной земле русской и зрело весной и летом 1943 года сражение. Немцы не могли не ударить летом. Им ничего больше не оставалось. На чужой земле в обороне долго не просидишь. К тому же наступала пора коротких ночей и отличной летной погоды – любимая пора немцев. Солдаты все это чувствовали и гадали, как все сложится, потому что в этих гаданиях крылась и их собственная судьба.
О чем бы ни говорили, о чем бы ни думали в эти месяцы, дни и солдаты, и генералы-все сводилось к одному: когда и кто?
* * *
Виктор Казанцев сидел на мостках, обрывал цыплячьи пахучие китушки с талового прутика, ронял их в воду, наблюдая, как они размокают и как к ним кидаются любопытные рыбешки. С полей к воде стекали запахи провяленных за день трав, вывернутой гусеницами танков и еще не остывшей земли. Они навязчиво будят в памяти иные запахи, иные картины… Вот они с отцом спускаются в балку ловить коня. За ними в темных следах их встает, прямится низкорослый молодой и потому шелковистый ковыль. Отец оглядывается, смеется: «Примечай, сынок, дорожку, примечай!..» – и ставит ногу уверенно, прямо. Голубоватый ковыль ручьисто смыкается, и за ними остается черная тропа… Воспоминание всплывает, как отлетевший сон. Да и вся жизнь на фронте заполнена тягостными и мучительными раздумьями и ничем не заглушаемыми воспоминаниями. На фронте люди не только жили, умирали, страдали, но и ждали, и добивались того, чего у них еще не было, но должно было появиться после окончания этой войны, Сами приказы на бой были иными, чем в сорок первом – сорок втором годах. Там они вмещались в одно слово. Времени на размышления не было, оставалось время только на то, чтобы сообразить и найти выход в данную минуту. А теперь вот на месяцы затянулось выжидание – копаем, учимся, выбираем наилучший вариант.
Поодаль от Казанцева, на расстоянии друг от друга, несколько солдат по колено в воде, без штанов, но в гимнастерках, удят рыбу. Полуночники, как и он. Меж кустов и на подъеме к землянкам – трава в окладе росного серебра со строчками следов. Туман оплывал в низину, парным молоком разливался над водой, застревал в кудрявом тальнике и изумрудных камышах.
– По всему, у рыбы выходной сегодня. У нее выходные совпадают с выходными рыбака.
– Сейчас выходные отменены всем. Значит, не по закону живет она.
– У нее свои законы. По средам хорошо ловится.
– Это почему же?
– Середина недели, и не знает, что у рыбака прогул на работе.
– Ох, Шестопалов, и брехун же ты!
Солдаты тихо переговариваются между собою, истово дымят, отгоняя комаров. В низине сладострастно надсаживаются лягушки. От крика их из безгрешного детства поднимаются новые видения.
От землянок по убитой дорожке, бухая сапогами и взмахивая руками, словно он на лошади ехал, сбегал ординарец Казанцева Плотников.
– Начальство, товарищ подполковник! Много! – доложил он, запыхавшись.
* * *
Через три часа на поляне против мостков у озера собрались командиры полков и дивизий всего корпуса. Выстроились, и началось представление. Вдоль строя впереди группы военных, заметно припадая в шаге на пятки, шел высокий, дородный, с родинкой на щеке и характерным прищуром добрых внимательных глаз генерал из Генштаба. Он шел, чуть занося правое плечо вперед, чтобы лучше видеть строй. Останавливался, кивал представляемым, кое-кому говорил по нескольку слов. Возле Казанцева задержался подольше.
– А-а рыбак?.. «Врид»? Что такое «врид»?.. Сколько командуете полком? Весь Сталинград провоевали? – Генерал нахмурился, повернулся к корпусному и армейскому начальству. – Не исполняете приказа товарища Сталина. Не надеетесь – не выдвигайте, справляется – утверждайте. – Обойдя строй, генерал вернулся на середину. – А теперь располагайтесь, товарищи, на траве поудобнее. – Подождал, пока все усядутся, сел сам.
Начались доклады.
Солнце истомно-лениво убирало туманы. Отлакированные листья ясеня и клена точили на головы сидевших росу, не видимые в камышах полоскали воду клювами и покрякивали дикие утки.
За докладами последовали вопросы, поначалу несмелые, потом все более напористые.
– Трудновато будет, товарищ генерал. Немецкие танки могут вести огонь на поражение с 1500–1800 метров. Прямой выстрел велик. Нашим нужно сблизиться до 500–700 метров, – голос полковника в комбинезоне.
– А что, если нам упредить их и самим начать?
– Сделать все можно, – усмехнулся одной щекой и глазами генерал. – Только какая выгода? Для нас сейчас главное – терпение и время, любимые воины Кутузова.
– А если ударить по лесам авиацией? Леса нашпигованы танками, солдатами, как свиная колбаса чесноком.
– Выбьем эти танки. Они еще наделают и спрячутся так, что днем с огнем не сыщешь. И главное, поймут, что мы догадываемся об их намерениях. Пусть уж думают, что мы ничего не знаем, собирают свои танки в кулак, а ты ройся повнимательнее в их мешке, чтобы точно знать, где и что лежит. А начнется – бей сколько душе угодно!
– А не получится, как уже было?
– Эту песню забывать пора: зима – наша, лето – немецкое. Немцы пускай думают так, нам нельзя. И солдатам внушайте. Сами должны понять, что после Сталинграда мы уже не те.
– Эт-то так, – голос сомнения и радости.
Взгляды, слова, движения сидевших на поляне наполнены волнением и желанием узнать и почувствовать как можно больше.
– Вы вот что, друзья… – Угадывая и читая в устремленных на него взглядах понятное всем нетерпение, генерал улыбнулся. – События, каких мы ждем, не за горами. Думайте не только о войске, порученном вам, но и о чести собственной. Лучшие представители русского офицерства всегда были на высоте. Будем мы стоять, и солдаты будут стоять. Самый лучший план требует исполнения…
После беседы смотрели атаку усиленного батальона на укрепленные позиции «противника». Генерал несколько раз возвращал батальон на исходные, пока атака не получилась стремительной и дружной.
– Запланируйте учения и отрабатывайте продвижение за огневым валом. Чем ближе будете прижиматься к своему огню, тем меньше потерь будет от чужого, – посоветовал генерал при разборе учений.
Когда батальон возвращался в расположение, генерал остановил отставшего солдата, узнал, в чем дело.
– Садись. Снимай сапог.
Уселся рядом, разул одну ногу, развернул и снова намотал портянку.
– Видел? Ну-к, теперь ты… Этому тоже нужно учить, – заметил генерал, вставая и отряхиваясь.
Перед обедом прошлись по землянкам. В землянках висели пучки трав, на бревенчатых столиках – полевые цветы в снарядных гильзах, плакаты-чертежи немецких танков с указанием уязвимых мест. Нары застелены плащ-палатками. В иных – шкафчики для котелков, сапожные щетки на подставках у порога.
– А это зачем? – генерал показал на часы-ходики на стенке блиндажа. Часы были с самодельным маятником, вместо гири на тесемках от обмоток висела граната без капсюля.
– Для уюта. Для домашности, – пояснил пожилой солдат. Он чинил гимнастерку, когда вошло начальство, и стоял теперь, прижимая гимнастерку к животу.
– Ну, ну. – Поднимаясь из землянки, генерал морщил бугристое межбровье.
Ему самому подчас не хватало этой самой домашности, хотя почти за тридцать лет пора бы уже привыкнуть. А солдат этот небось год-два как расстался со своими ходиками, по которым сверял свою жизнь, и, вычитав в календаре, ставил их по восходу или заходу солнца.
В другой землянке белобрысый узкоплечий солдат с завязанными глазами собирал замок «максима». Вокруг теснились в выжидательно-нетерпеливых позах солдаты. Руководил клещеногий старшина. Он так увлекся, что не замечал обильной осыпи пота на рыжем в конопинах носу.
Начальство уехало, а офицеры полков, почти все знакомые между собою, собрались у дома лесника, подкреплялись перед дорогой, делились впечатлениями.
Разговор вроде бы и настроенный на веселье, а на лицах такое выражение, что узнали они не все, на что рассчитывали сегодня, и, смеясь и слушая рассказчика, каждый из них прикидывал, как дополнить виденное я слышанное и сказать об этом в своих частях.
То же самое испытывал и Казанцев. Он наскоро простился с товарищами и пошел к клуне, где его ждали с лошадьми.
– Вас тут танкист какой-то спрашивал, – сказал ординарец. – Да вот он сам бежит.
– Думал, прозеваю тебя. Здорово! – К клуне подбежал майор Турецкий, в пыли весь, жаркий. – Ты говорил, у тебя брат есть? Андрей?.. У нас он. В саперном батальоне. Недели две как из госпиталя и, вроде, даже дома побывал. Хочешь – завтра на обкатку привезу его?
– Привози. Побалакаем. – Мгновенно запотевшая рука Виктора Казанцева оскользнулась по луке и крылу седла, скребнула ногтями по вороту.
* * *
Однако ни на другой день, ни через неделю братья не встретились.
Тишина на фронте никого не обманывала. Что там, за этими высотами? За лесом?.. Сверху требовали сведений, и разведчики ползали на передний край почти каждую ночь. 15 июня группа а шесть человек уходила в глубокий поиск. Передний край немцев был заминирован, и в группу включили двух саперов, Казанцева и Жуховского. Ночь была душная. В траве резко стучали сверчки, сухо электрическими разрядами потрескивал бурьян. На нейтральной полосе чуть ли не в рост человека разросся чертополох. Когда-то на этом месте была, должно быть, пахота. Ползти было трудно – не видно, что впереди, и мешало это потрескивание бурьяна-старюки. Ночь колыхали мертвые блики падающих ракет, с коротким чиканьем пули срезали махорчатые головки татарника, медово пахнущие метелки донника. Стреляли часовые, патрули. Стреляли вразброд, для острастки. Разведчики, вообще солдаты переднего края, привыкли к этим ленивым очередям, но все знали, что начнется после настоящего тревожного выстрела. Солдат чудом распознает этот выстрел в общей трескотне, и тогда надежда только на землю-матушку.
У растопыренных, как на пожарище, кустов боярышника залегли, пережидая обстрел. Андрей в изнеможении завалился на спину. Перед глазами все мелькало, качалось. Качалось и небо, бездонное, холодное, населенное миллиардами светляков. От этого качания мысли уплывали далеко-далеко, к самой молодости земли, когда ее давила непомерная тяжесть ледников. Потом на ней колосились дикие злаки и волнами ходили травы. На сторожевых курганах затаились скифы. У подножия курганов пырскали от сырости их длинногривые кони. Скифы тоже сторожили врагов и думали об этой земле, что она своя и что никому отдавать ее нельзя. И им тоже по ночам, наверное, мешали своим треском кузнечики.
С головки бурьяна, срезанной пулей, на затылок свалился какой-то жучок и запутался в волосах. Андрей выпутал его и пустил на землю. От руки, бравшей жучка, запахло вдруг устоявшимся, постоянным домашним теплом. Запахи дома и рук матери были одинаковыми. И сколько ни бывал он в других домах, ничего похожего не встречал. Обидно! Ну что у него было? Что успел? Что узнал? Зимой учился, летом колхозных телят пас или сено возил, тоже колхозное, на волах. Последнее лето работал молотобойцем в кузнице. Одежка, обувка – перешитое, перелицованное…
Ветер повернул справа от высот. Вчера там был сильный бой, и с запахами цветов и трав принесло запах горелого железа, тряпья и мяса, трупный смрад обгорелой земли. Земля эта последний раз слышала ратая, должно быть, в сорок первом году. С той поры распахивают ее снарядами и минами, засевают буйными головушками, вытаптывают копытами танков и пушек, и поднимается на ней не рожь-пшеница, а чертополох и тощий овсюг-падалица. И не злаком и травами пахнет здесь на зорях, а тленом и смертью.
– Шивой? Тут воронка где-то. – Жуховский шевельнулся, поднял запахи с земли. – Переполошились как. Заметили, что ли?.. Ага, поползли…
К утру перебрели неглубокий и холодный лесной ручей и по нему вышли на поляну. Впереди и справа при свете поздней луны угадывалась деревня. Поляна вместе с ручьем клином врезалась в лесной массив. В самом углу ее стояла сторожка лесника. На поляну из леса выкатывался туман, плотно прижимался к росной траве. Он затягивал собою дорогу к сторожке с ремнем травы посредине, искристый блеск ручья, кустарник, наливался молочной белизной, густел. На повороте ручья, у кустов, вытягивались космы расчесов. Разведчики брели вначале по пояс, потом по грудь и погрузились наконец в туман с головой. Из угла поляны, из низины тянуло близостью утра и сладковато-сочной бузиной.
– Дальше идти опасно. Обследуем сторожку, – шепотом предложил лейтенант Мелешников.
– Заглянем в сторожку. – Жуховский снял пилотку, вытер ею блестевшее лицо.
Напротив сторожки через ручей – кладка. На пряслах и траве белело белье.
– Живут, – кивнул на белье Андрей.
С час пролежали в кустах, потом Андрей с разведчиком Иваном, крадучись, вошли на широкий двор. На скрип калитки тут же ответил скрип двери, на низеньком крылечке показалась женщина. Увидев мокрых по пояс солдат в лесной паутине, она инстинктивно запахнула ворот рубахи, глазом кинула на нижнюю юбку и голые белые икры.
– Кто такие?
– Тихо, тетка. – Ступая по-кошачьи мягко, Иван в минуту пересек двор, через балясину перегнулся к хозяйке: – Здорово ночевали. В хате кто у вас?
– Хозяин. Детишки в Колодезном у свекрови. – Женщина одной рукой мяла ворот рубахи, под которой волновались полные груди, вторая – билась меж ног, удерживая от свежего утренника белую нижнюю юбку. От нее пахло теплой постелью и привявшими хмелинами.
В сухих сумерках сенцев мелькнула тень, на крылечко, пригнувшись в дверях, вышел плечистый крепкий мужик.
– Не маячь, Мотько. – Легким движением руки мужик подвинул женщину к двери, загородил собою и почесал кудрявую русую бородку. – Баба, она и есть баба, – извиняюще улыбнулся.
– Идем, растолкуешь нам, дядя, – пригласил Иван хозяина движением плеча в лес.
– В Колодезное идти не советую. Вчера только был, расскажу. А вот в Масловку стоит наведаться. Там каждый день до двадцати эшелонов выгружают. Половина с танками. Мосты укрепляют, дороги правят… Ко мне заглядывают редко. На отшибе. И дорога гусынком да овсюгом поросла. А та… не дай бог. Здесь, в Колодезях, учителя, старичок уже, повесили. Да повесили как… Собрали народ, отрубили руки, потом ступни ног железками жгли, про партизан спрашивали все… Огород? – Мужчина оглянулся на высокую и густую картофельную ботву в дымной росе за пряслами ограды. – Жить надо. Бог даст – вместе есть будем.
– Ну, иди, хозяин. Жена пусть не отлучается никуда. И сам тоже. Дневать у тебя будем.
Тепло, и солнечные лучи разогнали туман, быстро съедали росу. Воздух наливался тусклым рудым блеском. Спали по очереди в овраге метрах в пятистах вниз по ручью. В полдень неожиданно на просеке появились два немца на велосипедах. Остановились у неширокого развилка дороги, размялись. Один из них свистнул, и к ним из леса подошли еще трое.
Андрей с Жуховским переглянулись: случайность или пронюхали что-нибудь?
Немцы полопотали, закурили и разъехались. В воздухе на просеке остались висеть стружки зеленого дыма.
В ночь все вышли по своим направлениям. Лейтенант с радистом ушли к самой станции. Они должны были засекать прибытие эшелонов, а Жуховский с Андреем и Иван со своим напарником – сторожить дороги и считать, что по ним идти будет.
К вечеру другого дня, как и условились, Казанцев с Жуховским вернулись к домику лесника. С запада надвигалась гроза. Сизо-черная сплошная туча укрыла полнеба, прихватила уже край леса. Колодези скрылись за мутно-сизой пеленой. Казанцев молча шагал за Жуховским с настроением человека, который после трудной дороги подходит к своему дому, где его ждут еда и отдых, как вдруг уши резанул леденящий нечеловеческий крик. Привычная сила вмиг бросила их на землю. Крик повторился, весь пронизанный болью.
«Наши кто-нибудь?» – спросил глазами Жуховский. В желтой щетине лицо омывал липкий пот.
Андрей пожал плечами.
Дверь сторожки с треском распахнулась, и на крылечко спиной вперед вылетел Иван. За ним вышел черноволосый немец в распахнутом мундире, раскорячился, рукавом мундира осушил лицо, закурил.
На крылечко вышли еще двое.
«Сколько их?» – взглядом спросил Жуховский.
Двое подняли под руки Ивана, третий вернулся в дом. Голова Ивана безжизненно обвисла между плеч, болталась из стороны в сторону. Вывернутые внутрь носки сапог загремели по порожкам, заскребли по утоптанной дорожке двора. Немцы подтащили Ивана к рубленой стене сарая, примерились глазами и кинули его к сосновым плахам, которые стоймя были прислонены к крыше сарая. К ним уже спешил третий с ящиком в руке, в каком плотники носят инструмент свой.
– Бери черноволосого, я тех двоих. Не смотреть же. – Кадык Жуховского в желтой щетине дернулся, замер. – И покороче!
Отрывистые автоматные очереди слились с трескучими раскатами грома. Прясла ограды намокли, потемнели. Казанцев оскользнулся, перепрыгивая, упал. Черноволосый сгребал под себя щепки и серый куриный помет. По спине пробегали длинные судороги. Андрей метил ему прямо в пояс.
– Возьми у него книжку солдатскую и пистолет! – Жуховский уже успел вывернуть карманы своих двоих, помогал встать Ивану.
– Михайленко прикончили, – пробулькал Иван. На разбитых вздувшихся губах пузырилась розоватая пена. – Лейтенанта не видел… Потом перевяжете…
Хлынул дождь. Темнота быстро поглощала все вокруг. На мгновение лес озаряли ослепительные фиолетовые вспышки молний. Вырезывались деревья, потоки воды у корневищ, мокрые листья и хвоя, и снова все погружалось в еще большую темноту. Правились по компасу. На просеке Казанцев приостановился, потянул носом, повернул резко влево.
– Речка. Сквознячок, и пресной рыбой тянет.
Иван хватался за грудь, за живот, стонал. Хода однако почти не задерживал. От лесного воздуха и дождя могучий организм его отходил.
Свалились в песчаный карьер. Остановились осмотреть Ивана. Живот был черный, наливался снизу жирной сизоватого отлива опухолью. На груди и спине по три красных полосы в серовато-синем налете.
– Солью присыпали… Ох-х!..
В стороне сторожки одна за другою взлетели несколько ракет, захлебнулись враз автоматы, залаяли собаки.
– Собаки не помогут. Дождь, – круто повернул шею Жуховский, вслушиваясь.
Перебежали широкую наезженную просеку. Держались направления Казанцева. Он все время поводил носом, как гончая по следу. Иван задыхался, хрипел, икал, поддерживая обеими руками живот снизу, но бежал, не жалуясь.
Настигли немцы у самого Донца. Казанцев и Жуховский залегали, били из автоматов по рваным пульсирующим вспышкам. При всплесках молний виделись перебегавшие меж деревьев немцы, черные, как головешки. Сначала пульсирующие вспышки рвали темноту только сзади, потом появились слева и справа.
– Не уйти нам так. – Жуховский тоже выдохся, хрипел тяжело, с сапом, глаза горячечно блестели даже в темноте. – Бегите. Я прикрою вас…
– Прикрывать останусь я. – Казанцев отодвинул мокро блестевшую руку Жуховского. – Я моложе, легче уйду. И плаваю лучше тебя. Бегите… и не стреляйте.
Выждав, пока Жуховский и Иван уйдут дальше, Казанцев повел немцев в сторону от Донца, потом круто повернул к реке. Это была жуткая игра в кошки-мышки. Гроза неистовствовала над лесом, трескучие раскаты грома проходили над самыми верхушками. Молочно-синие реки вспышек заливали лес – хоть иголки собирай. Витым серебром горели ручьи, сине светились капли воды на листве, корнях, коре. Мелькали черные, похожие на картонных паяцев фигуры немцев. И снова могильная темнота. Обе стороны били по вспышкам. Немцы поняли, что имеют дело с одним человеком, и ловили живьем. Гон неудержимо и нежелательно для немцев скатывался к Донцу.
«Не может быть, чтоб не перехитрил. – Андрей чувствовал, как соленый пот заливает лицо, разъедает глаза, вслушивался в посвист пуль, зная, что стреляют по нему, как по зверю, и, по-звериному ловко плутая, прыжками несся к Донцу, прикидывая уже, как быстрое и лучше снять сапоги, одежду. – Только бы не ударили в лицо, только бы не было их у воды!..»
* * *
– Дело житейское, товарищ подполковник. Вернусь домой, возьму бабу поядренее, нарожает она мне детишек… Я мастеровой: что сапог, что кадушку, что раму оконную. Добуду кусок хлеба и им и себе. И на выпивку останется. – Шофер узловатой и широкой, как лопата, ладонью, огладил покатую грудь, одернул гимнастерку на мокрой спине, крупно зашагал к деревне над яром.
– Не задерживайся. Мы скоро! – крикнул ему вслед майор Турецкий.
Шофер, не оборачиваясь, согласно шевельнул широченными плечами. За золотистой кромкой горизонта ударило орудие – раз, другой. Над деревней, куда шел шофер, вспухло и зависло грязное облачко бризантного снаряда. Турецкий зевнул, кинул из-под ладони взгляд на голубые кущи садов, на облачко:
– Что ж, от семьи так ничего и нет?
Казанцев вабил волосы, потом опустил руку в уже нагретую солнцем, но мокрую внизу траву. Всякое напоминание о семье было для него болезненным. К нему все чаще и чаще стали приходить мысли о самом дурном.
Письма на Дон и с Дона шли теперь аккуратно. А толку! Отец как оглох! Если и нет Людмилы у них, она могла бы давно написать им. Значит…
Оба берега реки горели телками нетолченных трав. Пестрой мозаикой их мережили цветы ландыша, папоротники, лиловые колокольчики, лилово-розовая душица. «Пора покоса», – облегченно и с надеждой отозвалось в голове Казанцева. Дурное настроение рассеивалось. Взор его привлекла восково-желтая и плотная, как вода, пшеница за яром. Она шевелилась, нагибалась под ветром, обнажала темные у корней стебли. Казалось, шевелятся волосы старого человека.
Казанцев крепко, как от боли, смежил веки, лицо его застыло во внезапно прихлынувшей исступленности. Тысячелетняя земля русская, обильно политая потом и кровью, не раз топтанная чужими конями, столько веков кормившая людей русских!.. Эту землю защищал еще Илья Муромец от всяких идолищ поганых и соловьев-разбойников!.. Сегодня эта тучная, плодящая земля русская серединная гуляла холостой, обсеменялась, как и в те далекие времена, бурьянами и тощими дикими злаками – самостоятельно, без пахарей… «Тогда по русской земле редко перекликались пахари, но часто вороны каркали, деля между собой добычу…»
Степь за рекою то хмурилась, то прояснялась, ее накрывали своими тенями синевато-бледные по краям и пенисто-белые в середине облака. Облака были недосягаемы и недоступны в своей вышине, как неведомо было и то, что начиналось за линялой полоской горизонта, где были немцы.
Казанцев до колотья в груди вздохнул, потянул в себя носом медвяные запахи трав и цветов, жар накаленного солнцем песка. В тени крушинника по желобкам травы скатывалась ядреная, как дробь, невысохшая роса. Птицы с приливом зноя затихали. Одна кукушка надсадно кричала в вербах, считая кому-то годы. Казанцев попробовал было считать за нею, бросил – получалось обманчиво много.
Не глядя, Казанцев налапал шаровары, стал одеваться.
– Может, еще слазим? – Турецкий смотрел перед собою, и глаза его горели особенным радостным блеском. Ему было легко и хорошо. – Как хочешь, – принял он отказ товарища и кинулся с разбега в воду. Выкручивая трусы на песке, повернул мокрое сияющее лицо к Казанцеву. – А ты знаешь, Витенька, по какой земле мы ходим?
– По русской, Мишенька, по русской, – нехотя отозвался Казанцев, занятый своими мыслями, поглядывая на село с садами, куда ушел шофер.
– Темнота. На этой земле родились и жили Тургенев, Лесков, Бунин, Баратынский…
– Да. Говорят, где-то здесь подо Льговом князь Баратынский Шамиля принимал. – Казанцев потянулся рукой в траву на запах клевера, наколол палец. Ржавый, тонко иззубренный осколок. Подул на палец с высочившейся бусиной крови, закончил мысль: – После войны вместо генералов придут историки, Мишенька… Придут, подсчитают все вплоть до солдатских портянок и будут знать определенно, что, когда и как нужно было делать, а мы вот с тобою морды разбиваем, как кутята слепые.
– История, Витенька, проста: тогда-то и тот-то построил, а тогда-то и тот-то разрушил. Одни строят, другие разрушают. Просто! – Турецкий подошел к одежде, стал вытирать о траву ноги. Смуглое до синевы лицо раздвинула белозубая улыбка. – А ты морды!.. Вот черт их маму знает, чего они мудруют за этими буграми. – Сунул ногу в шаровары, запрыгал.
Казанцев улыбнулся смущенно, поскреб ногтем у рта.
– Живем мы, Миша, правильно, как это нужно сегодня. Но я еще думаю, что будет после нас? Кто сменит нас? Нужен ли наш крест? Когда ходишь в обнимку со смертью – такие вопросы задаешь себе.
– Мы все, Витек, должники у живших до нас. Ты сам говорил, что за эту землю всегда бились насмерть. Теперь мы бьемся.
– Всегда, Мишенька, всегда. – Казанцев вспыхнул и нахмурился. – Найди хоть клочок без крови. Вот потому она и дорога так нам.
Пришел шофер, высыпал из подола гимнастерки прямо на траву яблоки. В пилотке – ядреные пахучие вишни.
– Там этого добра, – почесал в затылке шофер. – Только солдаты иные ведут себя нехозяйственно. Ветки обламывают,
* * *
В машине молчали. Возвращались с командирских занятий. Отрабатывали оборону при массированном наступлении танков противника. Прослушали лекцию о текущем моменте.
Местность, по которой они проезжали три дня назад, была та же и не та. Внешне вроде бы ничего не переменилось, но опытный глаз мог заметить свежие морщины траншей, бугорки блиндажей, сурчиные отвороты орудийных двориков.
Казанцев вздохнул, сказал, будто сам с собою разговаривал:
– А про брата ты все же сообщи, если что.
Турецкий без удивления, но долго посмотрел на него и согласно кивнул.







