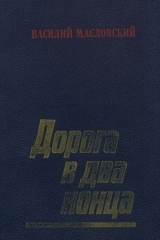
Текст книги "Дорога в два конца"
Автор книги: Василий Масловский
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 22 (всего у книги 32 страниц)
– Вот и я. – Блузка Ольги у ворота мокрая: спешила, лицо зарумянилось, посветлело, глаза и губы сияли улыбкой. – Хорошая?
Андрей встрепенулся. Не раз он потом будет вспоминать и этот взгляд, и слова, и выражение лица при этом. На фронте часто мучило желание увидеть ее хотя бы издали. Теперь она рядом – и ничего ошеломляющего, ослепительного. Просто тоска.
– Вечером вместе домой пойдем. – Горячие, черные глаза Ольги волнующе вспыхнули, в подглазье шевельнулись темные после бессонной ночи тени. – Хоть бы похвалил когда. До чего же ты сухарь, Андрюшка.
Солнце уже заглядывало в нахолодавшие за ночь глубокие вымоины, роса обсыхала и скатывалась в крупные капли, над яром и логами поднимался последний утренний туманец.
Ольга повязала платком волосы и взобралась на сиденье трактора, а Андрей опустился в балку, где, ноги в промоину, сидел старик Воронов.
– Тебя жду, – сказал он, оглаживая в кулаке рыжий лоскут бороды. – Садись, побалакаем. Курить так и не выучился? А я думал, все солдаты курят. – Старик закурил сам, прокашлялся. – Что ж скоро?.. Через три дня? И куда же?
– Солдат не выбирает.
– Казак на войне не выбирав и не жалее себя. Это верно. – Старик огладил мутным взором грудь Андрея. – Мы, донцы, народ особый. Поклепу и хвалы за нами немало в истории, а кровь в наших жилах завсегда русская текла. Татаров, шведов, турок, немцев – всех били. Турки нас, донцов, не иначе как шайтанами величали. Древнее имя у нас – казаки-порубежники [4]4
«Ко» – броня по-калмыцки, «зах» – межа, «козах, казак» – защитник границы.
[Закрыть]… Бог даст, кончится и эта. Не двужильная же она. Возвернетесь по домам, тольки по-разному. – Старик слегка улыбнулся, проводил оставшихся в камышовой заводи на выводок нырков, поинтересовался: – Жениться не надумал?
– Куда спешить. Да и зачем девке руки вязать. Война.
– И то верно.
Окаменелая после первых дождей дорога поверх балки загремела под копытами. Подъехал Петр Данилович на бедарке – двухколесной тележке. Кулаком разгреб разом усы по сторонам, остановился.
– Домой, сынок?
Дорогой Петр Данилович вздыхал, почмокивал на лошадь, поднимал голову, считал разметанные ветром облака.
– Виктор опять про жену с дитем спрашивает, – напомнил Петр Данилович о вчерашнем письме и глянул значительно на Андрея.
– Читал, – ответил Андрей на отцов взгляд.
– Что ж отписывать?
– А ничего. Не заметил, и все.
– А как еще спросит? – Отец круто повернулся к сыну, уперся взглядом в переносицу. – Еще спросит?
– Все одно правды не пиши, батя. Тяжко носить ее, эту правду, на войне. Пускай надеется! Зараз многие надеждой и живут.
Отец отвернулся, посопел, выражая не то согласие, не то протест.
– Что ж, подождем, посмотрим.
И больше до самого дома не обмолвились ни словом.
– Матери помоги. Она сегодня дома осталась, – придержал Петр Данилович маштачка у двора, подождал, пока сойдет Андрей, хлестнул коня кнутом. На ходу уже, откинувшись назад: – Матери скажи: вернусь к обеду.
За горячкой работ и беды вроде бы забывались, пока не голоснут во дворе каком: «Да на кого ж ты покинул нас, сиротинушек!..» Там где-то смерть метила солдат, придерживаясь непонятно какого порядка. Она имен не спрашивала. На полях оставались просто солдаты. Чьи они, узнавалось по таким вот крикам. И дворов, меченных этим криком, становилось все больше и больше.
Мать разбивала как раз грядку под лук. Разогнула спину, пальцами в земле поправила волосы под платок. Весна шла на пользу ей. Изъеденное морщинами лицо потвердело, оделось молодящим вешним загаром.
– Какая помощь? – возразила на предложение сына. – Иди отдохни. Сама управлюсь.
Андрей потрогал сапогом оголенный корень сливы-дичка у колодца. Просекались листья, одевали ветки махорчатой дымной зеленью, новили своим видом все вокруг.
* * *
Последнюю ночь сплошь до утра небо колыхали сухие летние варницы. Они как бы водили Андрея по следам детства, ставя зарубки в памяти, и напоминали, что его детство уже отполыхало. Бегал он когда-то в короткой рубашонке по улицам хутора, купался в речке и катался на конях вместе с ребятами, а в сумерках на задворках и за околицей хутора им чудилось много туманного и загадочного из того, что впереди у них. Теперь туманное и загадочное обернулось войной, с жестокостью и смертями.
Забылся на зорьке, и тут же разбудили соловьи, не смыкавшие глаз всю ночь. Первые теплые зори зевать грешно. Соловьи это тоже знали. Андрей потянулся всласть, вдыхая кислое тепло кожуха и чувствуя под собою сбитую в колтун одежду. Когда доведется еще так?..
Отъезд был тяжким. Провожали всем хутором. Мать пришлось отпаивать, натирать виски. Не таясь, навзрыд плакала Ольга, шатаясь и держась за грядушку брички. Знали все, куда провожают. Отец стоял без шапки, молчал, а по щекам, путаясь в щетине и морщинах, катились горошины слез. Хлюпали носами и хуторяне. Кто оплакивал уже известное, а кто терзался перед неизвестным.
Тягостно. Мать увели в хату, рвала на себе волосы, кидалась под колеса брички. Андрей не узнавал, не видел ее такой, и не приведи бог еще видеть когда-нибудь.
Старик Воронов ударил по лошадям, и бричка загремела.
Сквозь мутную пелену в глазах Андрей провожал уплывавшие за горизонт дома, вербы, тополя. Дальше всех провожал его лобастый курган Трех Братьев. Но вот старик гейкнул на разморенных ранним теплом лошадей, обрезало и его горбатым лезвием молодых яровых хлебов по косогору.
Глава 3
– Эй, зятьки! Шевелись!
В поредевшей темноте на земляных нарах в землянке заворочались, зарычали, стукнули сапогами о пол.
– Остальных поднял?
– Поднял, поднял, товарищ лейтенант. Машина ждет.
– В Ивняки?
– В Ивняки.
– Гляди, майор, и вправду зятьками станем.
Рдяное небо над лесом наливалось светом, по оврагам и у озера неистовствовали птицы. В зените опаловым озерцом застыло облачко. Весна была весною и в окопах, и в лесах, где хоронились и ждали своего часа солдаты и техника.
Поля Курщины, Белгородчины, Харьковщины подсыхали, топорщились бурьяном-старюкой в рост человека, голодно серели непаханые и несеяные. Второй год их вытаптывала война и засевала осколками и пулями. Крестьяне освобожденных деревень, истощенные и измытаренные войной, копали окопы, противотанковые рвы, строили дороги, мосты и, не имея тягла, семян, горючего, готовились сеять. Солдаты тоже зарывались в землю, готовились к своей страде, к тому, что будет, и помогали сеять крестьянам.
На ходу одеваясь и раздирая рты зевотой, на поляну, где стучала мотором полуторка, собирались заспанные танкисты. По желобку спины под гимнастерку затекала знобкая зоревая свежесть, сапоги чернила роса.
– Непорядок, лейтенант. – Скуластое рябое лицо Шляхова жирно блестело после сна. – Работаем в колхозе, а спим в лесу.
– Весной всякая тварь паруется! – гоготнули в зоревой тьме от землянок.
– А вот выложим тебя, бугая! – предупредили от машины.
В кузов полетели инструмент, ватники, поставили несколько канистр с горючим. Ноздри защекотало махоркой. Пролетел чибис к озеру, небрежно спросил мимоходом: «Чьи вы?»
– Мамкины, мамкины, – успокоил его Шляхов, поворочал круглыми, как у филина, глазами, толкнул Кленова в бок. – Подвинься.
У моста через овраг уже квохтали деды и неистово курили натощак перед работой. Вместе с саперами они укрепляли настил и ставили новые опоры. Машину бросило на объезде, загремело железо в кузове.
– Здорово, дед Карпо! – не мог проехать молча Шляхов, игриво крякнул.
– Здорово! – отозвался один из дедов. Солдатский ватник трещал под напором нестарческой спины и плечей. Кудлатая окладистая борода, как прорубь в морозный день, курилась дымом.
Километра за три до Ивняков, куда они ехали, Шляхов заметно заволновался. Ощипал, оправил одежду на себе, смуглые широкие скулы одел вишневый румянец.
– Ждет, Иван. Стоит.
На истлевшей колоде у поваленного плетня крайней избы стояла девчушка лет четырех. Босые ноги в цыпках обрызганы молозивом росы, в руках букетик бледненьких лесных фиалок.
Лейтенант забарабанил кулаком по кабине: «Останови!»
Шляхов перевесился через борт, подхватил девчушку на руки. Очутившись в кузове, девчушка кинула ему худые ручонки на чугунную шею, ткнулась холодным носиком в ухо, ойкнула, вспомнив, и протянула букетик.
– Тебе, папочка, – выдохнула шепотом. Глаза от напряжения повлажнели. Из углов выкатились две светлые слезинки.
В кузове зашевелились, задвигались. Лысенков отвернулся и полез в карман за табаком. Щетинистый кадык его подозрительно и странно задергался. Шляхов прикутал девочку ватником к себе, ножки старательно вытер полой гимнастерки, снял с головы танкошлем, сунул их туда: «Грейся!» Случилось так, что в первый приезд танкистов в село девочка выбрала именно балагура Шляхова, полезла к нему на руки, начала что-то рассказывать ему на своем торопливом детском наречии и назвала его папой. Шляхов дрогнул как-то весь, побелел даже. На Урале где-то своя такая же. Жена не выдержала, нашла себе тыловика. А все равно сердце, как голодная собака кость, огладывала тоска по обеим. И вдруг… Так и встречала девчушка Шляхова каждый день. В танковой бригаде все узнали об этом. Шляхова направляли только в Ивняки, и он каждый день вез дочке и ее матери какой-нибудь подарочек. Для подарочков старалась вся бригада – кто чем мог. Один раз Шляхов привозил ее даже в часть, в лес. Сбежались чуть ли не из всех блиндажей и землянок, смотрели на девочку, и добрее, лучше, красивее солдат в тот день, наверное, не было на всей земле. Целую неделю в лесу жили разговорами об этом событии, писали домой письма.
У двора с разинутыми, видимо, давно и надолго воротцами стояла высокая со светлыми красивыми глазами женщина. Качнулась на крепких, тронутых загаром ногах, шагнула навстречу машине, пожаловалась:
– Замучила она меня. С полночи не спит. Вы уж извиняйте. – Приняла счастливую и притихшую девочку на руки.
– Погодь! – Шляхов копнулся под собой, подал женщине узелок. – Разное. И Галочке есть. В обедях забегу.
– Женка небось в маковку зацелует. Папанька! – Жмурясь от бившего прямо в глаза солнца и дергаясь тонкой шеей при толчках машины, затрясся в смехе конопатый и рыжий до красноты Вдовиченко.
– Замолчи, зараза! Сука! – будто пружиной кинутый, враз придвинулся к нему Шляхов.
– Но-о! – сунулся между ними Кленов.
– Молодой ты еще, Вдовиченко!
– Дате по отцовской ласке тоскует. Заговорили в кузове.
– Дите по отцовской, а он по чьей?.. Тоже мне – праведник нашелся.
– Хватит! – оборвал всех Лысенков и отвернулся, стал смотреть на одряхлевшие постройки и заборы села.
На огородах и в поле за деревней в кострах горел бурьян. Белый дым, мешаясь с туманом по опушке леса, отстаивался озерцами. Солнце поднялось уже, и над туманом, лесом и полем воздух светился золотисто-сине. У самого леса лопатами и вилами землю ковыряли женщины и старики, ползали две коровьих упряжки.
Полуторка подошла к тупорылому немецкому тягачу. Лысенков выпрыгнул первым, разминаясь, обошел тягач кругом, потрогал ладонью пыльные подкрылки.
– Не выйдет ничего из нашего роя, лейтенант, – презрительно цыкнул через губу Вдовиченко, нагнулся, заглянул под капот тягача. – Плуг не выдержит.
Лысенков ногой попробовал лемеха тракторного плуга, покачал прицепную серьгу. Он и сам не очень верил в затею, но приказ есть приказ.
– У нас же отечественные тягачи есть в ремроте. Трактора даже.
– Дареному коню в зубы не смотрят. Садись, Шляхов. За камнями поглядывай. А ты, Костя, на плуг за прицепщика.
Бабы и деды у леса вскинули головы на голос тягача и с интересом стали смотреть на поле, где были солдаты.
– Можно пахать! – успокоил после первого круга Шляхов. – Помельче, но можно…
– Оставайтесь тогда с Кленовым здесь, а ты, Вдовиченко, к трактору вчерашнему с остальными. К вечеру чтоб готов был. Меня здесь ищите.
Перед обедом прилетел немецкий разведчик, развернулся над полем. Вид пашущего немецкого тягача, кажется, удивил и разозлил летчика. На втором заходе он ударил по тягачу из пулеметов, а на третьем из-под фюзеляжа его вырвалось вдруг белое облако и на деревню и поля метелью посыпались листовки. В лесу стояли воинские части, и над лесом разведчик выпустил еще одно облако. Часть листовок ветром вынесло к тягачу.
«Сейте, сейте, – наставляли немцы колхозников. – Убирать будем мы». Солдатская была составлена с претензией на остроумие и знание русского народного творчества. «Вас, сталинградские бандиты, мы загоним туда, куда ворон костей не заносил. А ивняковские леса поднимем на небеса!..»
Словесный текст был дополнен рисунками: русский солдат на маленькой гармошке играл «Последний нонешний денечек», немецкий – развернул мехи баяна: «Широка страна моя родная…»
– Мисяць у неби, год у кнызи, а день такый у нас, як и у вас, поцелуй за цэ ось куды нас, тай убырайся вид нас, бо будемо лупыты вас, – смачно и сладостно-зло закруглил Вдовиченко, пришедший за ключами.
– А ты дипломат, Степан. – Шляхов полюбовался взволнованно злобным лицом Вдовиченко, смял листовку в потном кулаке, полез в кабину. При обстреле он высовывался в дверцу, следил за косым падением немца, определяя линию огненной трассы.
«Завтра нужно будет пулемет взять», – решил Лысенков про себя.
Теплый ветер с юга расчищал гарь над полем, сбивал над лесом рудые дымные стаи облаков, гнал их на север.
Поля нежились в тепле, грели бока, дымились, впитывали ломкую тишину. Высветленная полоска у самой нитки горизонта, как в детстве, манила куда-то в невидень.
На огородах за деревней, в бурой ботве картофельника, маячили платки, перекликались ребячьи голоса, звенели ведра. Пониже левад, в вербах, гнездились с криком припозднившиеся грачи.
– А весна, лейтенант. – Лениво-затуманенным взором глядел Шляхов поверх леса, останавливаясь покурить. – Только запах у нее иной, чем дома. Какая-то чужая она: и греет, и холодит. – Легкие шадринки на лице его коричневели, маслились потом.
– Весна дома – праздник, – задумчиво отзывался Лысенков.
Привезли обед. Подошли старики и женщины от леса.
– Все целые? – пожмурился гривастый дед, обминая картуз в узловатых потных ладонях и поглядывая на термос. Парок из-под крышки термоса вышибал голодную слюну.
– Обошлось.
– Ну и слава богу. И немцу не воюется. Потишал. – Дед подобрал охапку бурьяна на меже, устроился поближе к танкистам.
– Доставай, дед, ложку. Подсаживайся.
Женщины развязали узелки, достали печеные картошки, луковицы, подозрительного цвета лепешки. Худобу и бледность их лиц скрашивал вешний загар. Теплый ветерок румянил щеки.
– Обедать с нами, – позвали танкисты и их.
– На всех не хватит.
– Сколько хватит.
С минуту только стучали ложки о котелки, чавкали рты, покрякивали.
– Значит, не собираетесь бросать нас, – выронил дед с набитым солдатской кашей ртом.
«Вон оно что! Вот почему вместе обедать пришли!»– усмехнулся про себя Лысенков, попридержал ложку на весу.
– А ты как думаешь, дед?
– Думаю, и убирать надеетесь, раз сеете. Тоскует земля, жалуется. Перепусти день-два – и хоть не бросай верно. А их ни людей, ни тягла, ни зерна… Это хорошо еще, ваше начальство додумалось, а то хоть в кулак свищи. Как-никак мы пальцы одной руки. Какой ни вырви – больно.
Просвистели крыльями заблудившиеся нырки. Дед проводил их незряче, облизал и спрятал ложку, засобирался.
– Пошли, должно, бабы, ковырять, – сказал он поевшим женщинам.
Бабье войско, почти сплошь перелицованное в армейский цвет – на ком гимнастерка, на ком фуфайка, на ком немецкий мундир, – гуськом поплелось за гривастым дедом к лесу.
Вечером немецкий разведчик наведался еще раз. Над свежей пахотью, в тени леса, густела хмельная пахучая синь воздуха. Разведчик вынырнул из-за пламенеющей узорчатой каймы леса бесшумно. Шляхов попил как раз воды и шел к тягачу. На руках у него щебетала что-то свое серьезно-детское Галинка. Она пришла покататься. В отуманенных лаской глазах обоих не погасло теплое, заговорщически-смешливое, что связывало обоих, когда они кинули разом взгляд в золотистую просинь предвечернего неба.
Синяя молния вошла Галинке в правое плечо. Галинка дернулась, будто вырваться хотела, и тут же обмякла.
– Ты что, Иван! – кричал Кленов и, спотыкаясь, бежал от тягача.
Лицо Шляхова медленно вытягивалось, стыло в крайнем изумлении.
Прибежал Лысенков. От леса, чуя беду, бежали пахотью женщины и старики.
– Машину, лейтенант! За Суровикиной! – Шляхов положил девочку на ватник, приставил ухо к груди, торопливо надорвал зубами и стал бинтовать индивидуальным пакетом плечо и выходное отверстие в левом боку.
Немец пролетел над полем еще раз. Косая тень его накрыла людей, сгрудившихся у девочки. Летчик отчетливо видел сбежавшихся и бегущих по полю стариков, женщин, солдат. Удобней мишени и не придумаешь. Но немец стрелять почему-то не стал. Наоборот, пролетел еще раз и как бы даже завис над толпой, но стрелять снова не стал. Видимо, остался доволен своей работой.
Часа через полтора приехала Суровикина, хирург медсанбата. С ней приехали еще два врача и сестра. Приехали они на своей машине, захватили все нужное для операции.
Шляхов уже перенес девочку на руках домой, уложил на кроватку.
Что сказали и что делали врачи, Лысенков не знал. Нужно было возвращаться в часть.
Суровикина потом рассказывала. Шляхов не спал всю ночь, сидел у кроватки Гали. Девочка хрипела, бредила. Мокрые тряпки на лбу тут же высыхали, сжигаемые внутренним жаром. Раза два девочка приходила в себя, узнавала мать, Шляхова, жалобно просила: «Папочка, ты же любишь меня. Сделай, чтоб не больно было». Шляхов хрустел зубами, не двигался. Затихла девочка в четвертом часу. Шляхов молча поднялся искать инструмент и доски на гробик. Голова у него была белая.
* * *
Помимо войны и сева хлебов на стрельбищах и полигонах по всей Курской дуге солдаты напряженно учились. Гремя гусеницами, к пехотным окопам подошли Т-34.
– Я тебе толкую, а ты снова, як Мартын из конопель…
На бруствере сидят солдаты. Пожилой дядько ожесточенно чешет желтую под пилоткой лысину, сердито втолковывает молодому белобрысому парнишке.
– Я ни бутылкою с гасом, – опасливо косит парнишка на волнистое марево над моторами танков и сглатывает набежавшую слюну. – Повлитрою…
– От дурень! – сокрушается дядько. – Это ж тебе не сусидка Явдоха, а танка. Ну!..
– Гранатою пид гусеницу, а пивлитру на мотор, – волнуется парнишка.
– Ну, что мне с тобою делать? Га-а? Что у тебя за терминология! Ты ж солдат и должен знать общий «отченаш»!..
– Что ты мучишь его, Сидоренко? Совсем задергал, – вступается за парнишку клещеногий помкомвзвода Шестопалов. Желтые глаза его по-кошачьи смежились в полоску, слезятся от дыма цигарки.
Бухая кирзовыми сапогами, подбежал лейтенант. Выпученные глаза застилает пот, левая рука поддерживает планшетку на боку. В стороне, у пыльных кустов боярышника, – начальство высокое. Впереди, сухощавый, подтянутый, руки за спину, командарм.
– Первый взвод! В траншею!
Парнишка засуетился, мелко подавился сухотой в горле, закашлялся.
– Лезь со мною, – положил ему руку на плечо сержант Сидоренко. Хозяйственно оправил на себе снаряжение, проверил оружие и спрыгнул в окоп.
Танки откатились назад, взревели моторама, в клубах белесой жгучей пыли ринулись на окопы. Над окопами на мгновение зависли, обрушились всей тяжестью вниз. В узкие щели поползла жесткая удушливая пыль, горячая вонь моторов, посыпалась земля. Когда танки сползли с окопов, вслед им полетели учебные гранаты и бутылки.
– Вот видишь, – торжествовал сержант. – Вот тебе и пивлитра с квасом.
Белобрысый парнишка кулаком размазал грязь по лицу, вымученно улыбнулся.
Отделение отошло в овраг. Горячее солнце купалось в голубом ветреном поднебесье. Солдаты с потными серьезными лицами, хмурясь и оглядываясь на голоса и пыль поверх оврага, снимали с себя амуницию, оружие, доставали кисеты. Сержант Сидоренко выкопал луковицу дикого чеснока, стал грызть эту луковицу.
– Удивить – уже победить, говорил наш батько Суворов, – поласкал он взглядом своего подопечного.
– Сынок! Хохол-мазница! – посмеялся тщедушный солдатик с хрящеватыми оттопыренными ушами.
– А кто ж он тебе и хоть бы мне: кум, сват? – Сидоренко выплюнул луковицу, отряхнул руки от земли. – Сказку знаешь? – спросил солдатика, – Было у батька три сына. Два умных… Ты хорошему научи (глазами на своего подопечного). Он живой останется, а мать его потом спасибо тебе скажет.
Наверху снова взревели танки, шепелявой скороговоркой залопотали гусеницы. Подопечный Сидоренко побледнел, вытянул тонкую шею. На одиночном окопе, где засели пулеметчики, Т-34 под номером 65 развернулся несколько раз, оставил на месте окопа бугор земли. Бугор раздался, из него выпростался по пояс солдат в каске, и в танк полетели дубовые болванки.
– Видел, – толкнул подопечного в бок Сидоренко.
– То ж сталинградец Кувшинов.
* * *
– Ты уж, Федотыч, по-правдашному зверствуешь. Давишь, будто фрицев, – попенял-Кленов хмурому и раздражительному Шляхову на перекуре. После смерти Галинки Шляхов всего один раз был в Ивняках. Поставил на ее могилке памятничек, сооруженный ремонтниками. Мать Галинки, светлоокая красивая женщина, приезжала несколько раз в лагерь танкистов. Но Шляхов встречал ее как-то холодновато.
Шляхов поморгал устало-сердито на Кленова. Под мокрой кожей на скулах, дрожа, вздулись и прокатились желваки.
– Привыкнут – выживут.
– Поостерегись все же, Федотыч. Кувшинов прошел Крым, Рим и медные трубы. А зелень?.. До беды недалеко. – Лысенков стянул с потной головы шлем, обмерил усталым взглядом распаханное гусеницами поле, зацепился за грядину синего, как снятое молоко, облачка.
– Самое подлое в человеке – трусость, – не сдавался Шляхов. – А немцы жалеть не будут.
– Там и игра другая, Федотыч.
Подходили от других машин, лезли в тень шляховского танка. По-стариковски покряхтывая, подсел и отощавший, как зимний заяц, комбриг. Даже весна не молодила его.
– Что ж получается? – Огнисто-рыжий Вдовиченко пришлепнул на шее муху, вытянул гудевшие от усталости ноги, кровяной, насеченный пылью глаз скосил на комбрига. – Немцы опять с новинкой – «тигры», «пантеры», а мы?
– А ты не лезь, как Егор на бугор, голубчик. – Комбриг снял фуражку, обнажил мокрый лоб с прилипшими косицами волос.
– Эх, товарищ командир! – Вдовиченко сокрушенно причмокнул губами, снял сапоги и стал вытряхивать из них песок. – Второй год на шуточках да на хитрости живем. Неужто на большее мы так и неспособны.
– Лыко-мочало!.. Ты где? Посередь России!
Шляхов надкусил конец изжеванной цигарки, выплюнул.
– В бою кто кого, Миша. Выскочил – и кто первый. Фриц, он тоже не железный. Ты – командир орудия. Вот и не зевай.
– Хочешь Марусю обнять – не хлопай ушами.
– Комбат наш под Тацинской пять танков в одном бою. У него прицел постоянный – девятьсот – тысяча метров. Меняет только точку прицеливания: под башню, потом под брюхо – и промашки никакой. «У «тигра» по полю ход два-три километра в час. Для стрельбы останавливается. Вот и лови его.
– Лавриненко под Москвой – семь средних танков в считанные минуты подбил.
– Ну, то бог стрельбы, метит же смерть хороших людей.
– Она всех метит одинаково. Два века никто не живет. – Лысенков, поднимаясь из оврага, причесывал и вытряхивал мокрые волосы. – Ну-к, хлопцы, кто из вас и не нюхал пороху? – Небритая щека в каплях воды дернулась, под солнцем вспыхнуло золото зубов. – Полюбуйтесь (глазами на грудь Кленова)! Иконостас. Никакая девка не устоит.
– Немцы как раз на страх и рассчитывают. – Комбриг разомлел на жаре, с трудом удерживал смыкавшиеся, красные от бессонницы веки. – Ты на своей земле, а фриц у тебя – гость незваный. Вот и толкуй с ним соответственно. Сейчас – рай, а в бою и недоспишь, и недоешь, а хвост трубой держи. Нехай сосед завидует твоему хорошему житью. Немца один черт, кроме нас с тобою, бить некому.
– С гостями нашими мы встречались уже, и не раз. – Правая щека Лысенкова запрыгала, задергалась. Он сердито потер ее ладонью. – Танковый корпус СС – дивизии «Райх», «Адольф Гитлер», «Викинг», «Мертвая голова».
– Сколько рубили ее, эту голову, а она, как у Змея Горыныча, отрастает, и все.
– Сволочь отборная. Их нужно драть, пока не обмочатся, а потом за то, что обмочились.
– Под Микитки, под Микитки норови, Вдовиченко. Плакатики посматривай.
– Без тебя ни одна вода не освятится. Куда конь с копытом, туда и ты, Шляхов. – Неулыбчивое жесткое лицо Вдовиченко собралось на лбу морщинами, стал вертеть цигарку. – Нюхать землю не собираюсь, но и достань его за 150-миллиметровой броней. Он тебя сорок раз угробит. Т-34 – музыка, но против «тигра» слаба.
– Боишься? – Глаза комбрига в синеватых мешках слезились от пыли и режущего блеска воздуха, мигали.
Старички бригады знали, что Вдовиченко дважды попадал в окружение и оба раза выбирался. Никто ни в чем и не думал винить его, но при одном упоминании об этих событиях Вдовиченко зеленел, приходил в бешенство.
– Боюсь! – выдохнул он с присвистом. – Боюсь! – И затих, млея от холодка, облившего спину, и подступившей к горлу сухоты. Верхняя губа запрыгала мелко, обнажая ядреный навес прокуренных крепких зубов. – Хватит с меня и сорок первого. В прошлом году в этих самых местах тоже как рябчик в силки!..
– Молодой больно объявился. – Голосок сомнения из-под кормы танка.
– Объявляются архангелы! – Вдовиченко одним махом содрал комбинезон с плеч, закатал рубаху к подбородку. От правого бедра наискосок к соску левой груди, на расстоянии четверти друг от друга, синели три пятна, будто пальцем ткнул кто. – А это выходные! – Рваные звездчатые круги на спине сливались вместе, образуя неровный широкий розовато-синий ремень. – Над яром ставили!.. Танкистов они не берут в плен!..
– Не горюй, Миша. Будет им здесь то, что в Сталинграде. – Сожженная солнцем рука Лысенкова легла на плечо Вдовиченко.
– Твоими бы устами, лейтенант, да мед пить. – Вдовиченко заправил рубаху в штаны. Конопины на его лице расплылись, накалили лицо докрасна. – Люди после нас, конечно, счастливее будут: узнают больше. А мы вот…
… А в садах набухала тугая завязь курской антоновки, бурела вишня, плети тыкв карабкались на плетни, жадно раскрывали рыльца цветов своих росе и солнцу. Пчелы по утрам пили холодную росу из их чашечек и до первого зноя разносили пыльцу, собирали нектар. Смуглели и молодели трудившиеся без выпряжки женщины, прижавшись щекой к теплой земле в короткие перекуры солдаты вдыхали пьянящий бражный дух земли, не заглушаемый даже устойчивым ароматом отцветающих фиалок и входящих в силу тюльпанов. Мир в эти минуты казался просторным голубым куполом, где все строго и справедливо распределено по своим местам.
В июньском небе безотлучно кружила «рама». Но много увидеть она не могла: дерн на землянках, блиндажах, окопах успел прорасти, остальное надежно пряталось под маскировочными сетями, в балках, лесах.
– Ничего, – провожали ее взглядами солдаты. – Побегает, побегает, как цуцик на привязи, и восвояси.
По вечерам солдаты собирались у землянок, на лужайках у озера. Появлялась гармошка, и земля гудела под солдатскими каблуками. Сапер Жуховский хриповатым баском пел «Синий платочек»:
Синенький скромный платочек
Падал, опущенный с плеч,
Ты говорила, что не забыла
Милых и ласковых встреч…
Ему помогали, втискивая в песню фронтовые вариации, где звучала тоска, застарелая ревность, предполагаемая обида и месть за нее. Каждый думал свое под слова этой песни. Дети за войну повыросли и спали в кроватях, а не в кроватках, а то и где придется. Сколько их, таких, встречали они на дорогах войны. Немало было и таких, чьи дети тоже воевали где-то. В мотострелковой бригаде, например, в батарее ПТО отец и сын служили вместе. Сын командовал, отец – подчинялся. У кого детей не было, думали о невестах, матерях, чьи лики время поистерло в памяти.
Днем в поднимавшейся ржи дрались перепела, а по вечерам в низинах стучали коростели. И странное чувство зыбкого покоя исходило от сыпучей земли, нектарной сладости входивших в силу хлебов. Пережитые тревога и радости сливались вдруг в одно чувство радости жизни, толкали залютевшее сердце к самому горлу, заставляли его биться чаще с силой первого откровения и молодости.
По опушке в тяжкой задумчивости стыли громады танков, их пушки сторожко нюхали воздух. По горизонту бродили безмолвные сполохи. Как в сухую летнюю грозу, ворковал орудийный гром. Там, за этими буграми, кончалось все нормальное и человеческое, а начиналась жизнь звериная, загнанная под землю, там была затихшая передовая.
Газетные сводки в эти дни сообщали: «На фронте ничего существенного не произошло». А фронт жил трудной, напряженной жизнью. Рыли окопы, ремонтировали танки в МТС, строили блиндажи, сушилки для портянок, бани, отводили места для курения. Солдаты в этих курилках говорили о боях, прошлых и будущих, семьях, как будут жить, когда вернутся домой. Об этом говорили все, хотя и знали, что доживут до того часа далеко не все.







