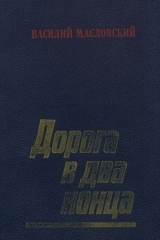
Текст книги "Дорога в два конца"
Автор книги: Василий Масловский
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 32 страниц)
И еще одно событие напомнило о войне прямо и всколыхнуло весь хутор. На третий день после рождества, под самый Новый год, уже в полдень, ко двору Казанцевых подъехала бронемашина. Сам Казанцев задавал корове как раз корм и шел от прикладка сена с вязанкой на спине, когда, проваливая зернистую корку сугроба и распуская пушистый на морозе хвост дыма, бронемашина подошла ко двору. Резко звякнуло железо, на снег, угадывающе озираясь, выпрыгнул кряжистый, прочного литья командир в белом полушубке. Казанцев опустил вязанку, разгреб рукавицей усы.
– Не узнаете? – Нетерпеливая и неуверенная улыбка раздвинула застывшее крупное лицо командира. Провалился раз, другой в сугробе, выскочил на утоптанную дорожку.
– Трошки вроде есть, – тоже, боясь ошибиться, состорожничал Казанцев.
– Июль… Майор Корнев…
– Так, так! – припоминающе зачастил и заморгал ресницами Казанцев, опустил вязанку к ногам. Лицо его прояснилось, задрожало, в синей клетчатке под глазами быстро копилась влага. – Цело, сынок, цело. Бог дал – все благополучно.
По тугим щекам командира, путаясь в проступившей на холоде щетине, тоже бежали слезы. Обнялись.
– Зараз, сынок, зараз. – Казанцев суетливо подхватил вязанку, занес ее в сарай, на скорах подавал корове и, сбивая рукавицей остья и шелуху колосьев пырея с одежды, тут же выскочил во двор. – Идемте в хату… что ж мы. И солдатушек зовите.
Проводив гостей в хату и все так же радостно суетясь, Казанцев достал из погреба лестницу, полез на чердак и минут через десять, в бархатных лохмотьях паутины на ватнике и шапке, с увесистым узлом спустился вниз. Сходя с лестницы, зацепился за гвоздь, распустил штаны – не заметил даже.
Гость набрякшими пальцами мял сдернутую с головы ушанку, вслушивался в возню на чердаке. На земляном полу кухни у его валенок растекались лужицы.
– В катухе зарыл было, да побоялся: сопреет.
Филипповна ничего не понимала. Старик бывал таким только в приезды дальних родственников. Особенно поразила торжественность его лица, когда он внес в хату этот серый от пыли и глины, весь в паутине сверток. Губы дрожали, и черные распухшие пальцы никак не могли развязать узелки веревок. При виде тяжелого кумачового полотнища с золотистой бахромой по краям и кистями Филипповна ахнула, уперлась взглядом в незрячие и пьяные от радости глаза старика: «Откуда это у тебя?»
– В сохранности, сынок. Все как есть цело. – Старик отступил к печке, загремел на загнете горшками, не в силах унять в перепачканных глиной пальцах трясучку. – Бог миловал, отводил руку.
Солдаты с бронемашины сомлели в тепле, переминались, молчали. Майор будто пристыл к лужицам, у своих валенок, негнущимися пальцами выщипывал мех из своей шапки.
– Спасибо, отец, спасибо. Век не забуду. Да что я…
Слух о случившемся с непостижимой быстротой разнесся по хутору, и вскоре у двора Казанцевых гудела, терлась полушубками и ватниками огромная толпа. Корнев вынес знамя на вытянутых руках развернутым. Сизо-багровое лицо его лоснилось морозным загаром, таяло умиленно радостной улыбкой. За ним следом – смущенный и тоже радостный Казанцев. Заговорили о хуторских делах, хозяйстве, фронте, раненых, убитых. Беседа затянулась. Люди слушали внимательно. В глазах Филипповны блестели слезы горделивой радости за старика, сыновей. Спросила майора про невестку, внучку. Тот только улыбнулся виновато.
– Ты скажи нам правду? – допытывались черкасяне. – Насовсем война ушла от нас? Не ждать нам больше?
– Насовсем. Не ждите. Живите спокойно.
– Ну спасибочки тебе.
– Привет сынам и мужьям нашим!
– Кончали бы вы ее скорее!
Неизбалованные событиями, черкасяне долго не отпускали военных, горячились, шумели, лица их цвели морозным румянцем, а потом толковали, дивовались скрытности и смелости Казанцева.
– Хитрюга, хитрюга! – цокал языком старик Воронов и турсучил в черствой ладони рыжий клок бороды.
– Казанцевы все одинаковые, едят их мухи. Я их породу знаю. – Галич тронул языком никлый ус и стал вертеть цигарку.
С крыши избы ветер сорвал стайку голубей и перебросил ее на сарай.
В подсиненном небе на юг бежали косяки облаков, а на солнце, у глиняной стены избы, копились лужицы талой воды. Золотогрудый петух сердито топтал в них свое отражение, квохтал, созывая кур.
Глава 8
22 декабря, взметая тучи сухого колючего снега, танки уходили в глухую морозную ночь. Был получен приказ перехватить большую группировку противника, которая рвалась на Миллерово. За спиною ночь колыхали мертвенным светом взлетающие ракеты, угрюмо бубнили пулеметы, рассыпали сухую дробь автоматы, винтовки.
Рейд начался с забавного приключения. Танки спустились в балку, миновали мостик. Вдруг в том месте, где дорога резала верблюжий горб холма надвое, показались бронетранспортер и несколько машин.
«Черт-те что, впереди своих нет вроде…» – засомневался Турецкий, беспокойно озирая призрачно-дымные от снега холмы и прислушиваясь к звукам боя за спиною.
– Ну-ка, Костя, помигай им фарой, – приказал механику.
– Как?
– А так, чтоб сам черт не разобрался.
Клюнуло. Бронетранспортер, а за ним и машины спустились в балку, подъехали вплотную. На борту бронетранспортера, забрызганный снегом, белел крест. Гитлеровцы поняли свою оплошность, но было уже поздно. За броневой обшивкой луснул выстрел. Автоматчики вытащили из кузова обмякшее тело генерала.
– Вот паразит нервный.
– Ну куда их, к черту? – В досаде чесал затылок Турецкий и поглядывал то на немцев, то на пустынную дорогу впереди.
– А посади в бронетранспортер своих, их – в машины, и пусть катят, – посоветовал командир десанта.
– Машины и самим пригодились бы, – вмешался молодой, но дотошный командир взвода Мельников.
Мысль Мельникова была верная, и Турецкий согласился с ним. Отправив пленных, колонна двинулась дальше.
На гребне холма встречный ветер засыпал снегом броню, автоматчиков, хлесткими струями сек лица и глаза механикам-водителям. Броня обжигала холодом. Несмотря на работу мотора, в башне было холоднее, чем снаружи, и танкисты, кроме механика, тоже вылезли наверх. Снег, как шерсть кошки в темноте, потрескивал пушистыми искрами, и его все густеющая синева уходила до самого горизонта, где сливалась с таким же мутно-синим небом в одно целое. Встречались заторы. Дорогу загораживали брошенные машины, минометы, пушки и другое армейское имущество. По сторонам подозрительно белели бугорки. Из них торчало что-то. Один из автоматчиков не выдержал, соскочил узнать. Догнал белый, перепуганный.
– Мертвяки! Это у них руки, ноги торчат. Попробовал у одного – отламывается.
– Пусть поковыряют землю рылом. За землею шли.
Кто-то из автоматчиков начал рассказывать про Среднюю Азию, какая там жара летом, сколько фруктов…
– Все это ерунда, – перебили рассказчика. – Сейчас бы в хату да штец с парком, горяченьких.
– Бабу не хочешь?
– Ты кобель, Ильичев. Видел, какие бабы? Жилы вяжутся в узлы от забот, а ты слюну пускаешь.
– Ничего я не пускаю, – обиделся Ильичев, – и ты не лезь с догадками.
Кленову очень хотелось спать. Несколько суток подряд он спал урывками, на морозе. Нажженное ветрами лицо горело, тело, промерзшее насквозь, томила неодолимая пьянящая усталость. Мертвецы лежали не только в поле, но и на дороге. Кленов вначале объезжал их, но устал и только вздрагивал от толчков и характерного хруста мерзлых тел. Меж снежных бугорков в поле беспризорно бродили лошади. И… у Кленова чуть глаза не лопнули, и сон как рукой сняло: меж чахлых кустиков полыни прыгал заяц. Белый, пушистый, с длинными ушами. Наверху тоже, наверное, увидели его. Там поднялся настоящий переполох. Даже выстрелили. Заяц сделал двойную скидку, исчез в мутновато-сумеречной мгле жировать, пока не вернутся охотники с войны. Наверху посмеялись и снова уселись так, чтобы меньше доставал ледяной ветер.
В широком логу миновали занесенный снегом хуторок.
Время позднее, но к танкам выбежали женщины, подростки, степенно пробивался вперед невысокий седой дедок.
– Ну как немцы? Давно удрали? – встретили их застывшие от неподвижности автоматчики.
– А вы чьи будете?
– Свои, дед, свои. Не признаешь?
– Та яки ж вы свои, як фронту немае…
Заскорузлые пальцы людей недоверчиво щупают, скребут броню танков, глазами находят на забитых снегом шапках автоматчиков звездочки, простуженно шмыгают носами, плачут.
– Та колы ж воно ще такэ будэ чи було…
– Чего ж плачете, тетко?
– Немцы, немцы давно ушли? – допытывались с танка.
– С вечера. Вы еще догоните их.
– Много?
– Ох, товарищ командир! – голоснула тетка в рваном ватнике и толстом платке.
– Ты не сепети. – Бойкий дедок оттер тетку плечом, поставил костылик между ног, налег на него костистым крепким телом. – Были, товарищ командир, машин с сорок.
– А можа, больше, – вмешался длинношеий подросток, в малахае с клочьями ваты из дыр. – Танков три, а пушек не то пять, не то шесть.
– А вы куда же зараз?
– Туда, где немцы, – осторожно отвечали танкисты.
– Полем нельзя вам: мины набросали, – предупредил подросток.
– А ты знаешь, где они?
– Знаю, знаю, дяденька. Покажу, – с готовностью согласился подросток и, цепляясь подшитыми валенками, полез на танк. Женщина в толстом платке поймала его за полу шубейки. – Та шо вы, мамо, – отмахнулся подросток.
За холмами впереди вырвалась и беззвучно поползла в небо ломаная строчка кроваво-красных и желтых угольков. Железный стук пулемета достиг слуха, когда трасса уже погасла.
– Ну что, дед, со всем хутором не выйдет, а с тобою можно. – Турецкий озорно передернул плечами, попросил, и из башни подали флягу.
Дедок шмыгнул носом в ожидании, весело кольнул глазами-шильями, принимая алюминиевый стаканчик с пахучей жидкостью.
– С наступающим вас, сынки. Дай бог вам живыми переступить порог родной хаты. Да поскорее.
* * *
Лиса выскочила из балки, постригла ушами. Сколько хватал глаз – ослепительно и сухо горела нетронутая целина снега. У белесой кромки горизонта снежное сияние гасло в высветленной синеве неба. Густой ровный гул заставил лису насторожиться. Гул падал, будто с неба, заполнял собою прозрачный, колючий от мороза воздух. Вдруг на гребень балки выкатилось огромное страшное чудовище, резко лязгнуло, качнуло длинным хоботом. Лиса сделала прыжок в сторону и, оставляя на затвердевшем насте едва приметное кружево следов, нырнула в овраг.
Турецкий выпрыгнул на снег, разминаясь, вышел на разбитую колесами и гусеницами дорогу. Греясь на ходу, от машин бежали командиры рот и взводов.
– Следы свежие. Не больше часу как прошли. – Турецкий пнул ногой брошенную на дороге канистру, тронул носком валенка втолоченный в снег колесами труп в мышастой шинели. Труп качнулся, мягко осел.
– Недавно бросили. Совсем озверели суки!
– Ты здорово за них не переживай. Пускай они сами совестью помучаются. – Турецкий встряхнулся зябко. В отяжелевшей голове мыслей никаких, кроме этой проклятой колонны. Заскочит какая-нибудь случайная и тут же теряется. Потянулся рукой за спину, достал планшет. – Думайте, как догнать их. – Поелозил пальцем по планшету. – По машинам!
След колонны помечен брошенной техникой и другим военным имуществом, и танки, оставляя за собою буруны снега, пошли целиной. Люк механика открыт, и лицо Кленова режет ледяной ветер, сечет снежная крупка из-под гусениц. Веки распухли, глаза слезятся, спина, руки, ноги от долгого сидения в одном положении деревенеют. На мгновение ослепительная скатерть степи меркнет, и в уставшем мозгу ворочаются неясные и короткие, как вспышки молнии, видения. И снова окостеневшие просторы, укрытые сияющим белым саваном. Провалы в сон и пробуждения так часты, что Кленов даже не замечает их чередований. Явь и сон плетутся, нижутся в одно кружево: большой, взбудораженный и потерявший свою устойчивость мир, покинутая людьми земля, обгоревшие трубы, скелеты домов, скрюченные трупы в снегу и похожие на привидения колонны пленных – примелькавшиеся картины последних дней. Не хватало тепла, не хватало горючего, приварка, боеприпасов. Порою при здравом размышлении напрашивалась мысль, что если все недостатки, неполадки и недоделки, начиная с нехватки времени на сон и мокрых валенок, собрать в одну кучу и представить старшему начальству, то выяснится, что при таком положении воевать дальше невозможно. Однако воевали, и воевали неплохо.
Миновав промерзший ручей и сотрясаясь от напряжения моторов, танки брали пологий подъем.
– Вот они! – донеслось, как сквозь вату.
Кленов очнулся, и первое, что он увидел – утренняя сверкающая синеватым снегом равнина, широкий лог, а по дну лога – коленчатая змея колонны. Колонна выбиралась из лога на юго-запад. В голове и хвосте колонны по взводу длинноствольных пушек, посредине – три танка.
Гортанный клекочущий крик ворона над яром окончательно снял дремоту. Кленов протер рукавицей глаза и последил за бесшумным полетом птицы. Над уползавшей в горловину лога колонной ворон каркнул и повернул на юг.
«Знает, где тепло», – расслабленно усмехнулся Кленов, чувствуя, однако, как при виде машин в логу у него холодеет в низу живота и наливается сухим горячим звоном голова.
– На наше войско вроде и многовато, – озабоченно поскреб колючий и черный кадык Турецкий.
Коленчатая гадюка колонны изогнулась, вытянулась на подъем.
– Перемогнем, крякнул дед, влезая на печку! – крикнул взводный Мельников со своего танка и хохотнул на морозе звонко. – Самое время напасть на них, товарищ капитан.
В Нижнем Мамоне в батальон пришли сразу три лейтенанта. Юнцы. Почти одногодки. Турецкий даже расстроился, когда на другое утро после появления лейтенантов увидел их всех троих во дворе дома, где они ночевали. Еще не зная войны в лицо и не думая о смерти, они, как кутята, барахтались в снегу, смеялись заразительно. Разве что Нарымов выделялся из троих. Пухлогубый, кареглазый, в ранних морщинах на лбу. В солдатском вещмешке у Нарымова Турецкий видел книги. Какие – постеснялся спросить.
Все это промелькнуло перед мысленным взором Турецкого, пока к его танку сбегались командиры.
– Ты вот что, Мельников, брось шутки. – Лицо Турецкого обметал румянец прихлынувшего волнения, упрекнул взводного: – Он, ум, имеет свои пределы, а глупость – нет. – Примерился взглядом к колонне: – Возьмешь, Нарымов, голову; тебе, Грачев, – хвост; нам с тобою, Мельников, – пузо, танки остаются. Из лога выпускать колонну нельзя. И старайтесь как можно быстрее добраться до нее. Ну! – Сбил танкошлем на затылок, нахолодавшие глаза в смерзшихся ресницах заблестели, придирчиво-весело оглядел каждого. – Удачи. Ни пуха ни пера!
– Лысому в светило! – не удержался и здесь Мельников.
Оставляя на склонах широкие следы и одеваясь в дымно-снежные облака, танки ринулись в долину. Немцы засуетились. В голове и хвосте колонны машины выдирались на обочину, отцепляли пушки. Танки развернули башни на бугор. Ища обход, иные машины полезли в целину и там застряли.
– Огонь! Разбивайте пушки! Разбивайте пушки! – Турецкий отпустил ларингофоны, взялся за маховики поворота башни, чувствуя, как тело покидает тяжесть и на языке появляется знакомый горьковато-полынный привкус железа.
Танки Грачева снежными шарами скатились в яр, репьем вцепились в хвост колонны. Первым делом Грачев раздавил пушки, вырвался на целину и пошел вдоль грузовиков, поливая крытые кузова из пулеметов. В кузовах дико взревели. Уцелевшие прыгали на снег, строчили по десанту из автоматов.
«Так вот вы какие! Ну ладно же!» – и, будто читая мысли командира, Шляхов вывернул танк на дорогу.
Из крытых фургонов сыпались прямо под гусеницы, ныряли под машины и там приседали, прятались.
– Так, так! Давайте, давайте! – пришептывая, уговаривал Шляхов немцев. – Гады! Суки приблудные!
От удара в лоб машины сбегались в гармошку, дыбились, зависали на миг и опрокидывались колесами вверх или набок, вспыхивали.
Проклятия, вопли! Снег быстро чернел и таял от копоти.
Грохоча без умолку, на расплав, пулеметами и пушками, Т-34 метались по дороге, разнося в щепки грузовики и круша все на своем пути.
Турецкий с Мельниковым опоздали. Немецкие T-IV открыли бешеный огонь. Зазвенело и запахло гарью в башнях. Фиолетовые вспышки по бортам фиксировали попадания.
– Мельников горит!
Турецкий оглянулся! башня мельниковского танка, будто в шубу, куталась дымом. В горловину командирского люка рвались и заворачивали по ветру лисьи хвосты огня. Из танка никто не выпрыгивал.
– Давай на всю железку, Костя! – крикнул механику.
Бой на дороге наконец гаснет. Десантники сгоняют пленных в одну кучу. Турецкий развернул башню, стеганул из пулемета по серебристо-белым холмам, где маячат кучки беглецов.
– Ну-к газани, Костя. Завернем их, – просит он механика.
Несколько кучек повернули к дороге и подняли руки. Две, особенно большие, скрылись за опушенной по низу чернобылом, в чешуйчатых блестках шапкой кургана, и по броне густо зацокали пули. Т-34 перевалил через бугор – броня продолжала бубнить, как железная крыша под дождем.
«Эх дурачье, богом проклятое!» – вздохнул Турецкий.
Стрекоча пулеметом, Т-34 стал утюжить распластанные и катающиеся на снегу фигурки. Уцелевших Турецкий завернул перед танком, бегом погнал к дороге.
Мельникова и его механика уже вытащили и положили на броню грачевского танка. Из-под плащ-палатки торчали тлеющие валенки не то Мельникова, не то механика Ларионова. Грачев отирал спиной кормовую броню, горбился и, не стыдясь, неудержимо и громко, навзрыд плакал. На обочине виновато топтались и опасливо косились на Грачева пленные.
– Он же письмо вчера домой отправил. Вчера!.. А они будут жить! – выкрикивал Грачев и рвался к пленным. Танкошлем слетел с него, и мокрое грязное лицо безобразно перекосилось. – Пусти-и-те меня! Пусти-те!
Картина жалкая и некрасивая со стороны. Турецкий отворачивался, думал о мертвом Мельникове. Мельникова успеют забыть здесь. Война подсунет новые заботы, новые смерти, а дома все будут читать и перечитывать его письмо и ждать живого. Вообще, дома, наверное, каждого, кто здесь, на фронте, хоронят и воскрешают по десятку раз на день.
В толпе пленных выделялся высокий офицер в длиннополой шинели с меховым воротом и без пилотки. Белые волосы трепал ветер, кидал их на бегающие, старавшиеся казаться спокойными глаза. Офицер что-то замороченно, как заведенный, шептал.
– Чего хочет этот тип? Что ему нужно? – обратил внимание Турецкий на офицера.
– Спрашивает, что будет с их городами и селами, когда мы придем туда, – пояснил молоденький парнишка-автоматчик в ушанке с обгоревшим ухом.
– Поздно думать взялся! – Покусывая губы, Турецкий отыскал глазами командира третьей роты. – А ты, Нарымов, опять ушами в ладушки сыграл. Три машины от тебя ушли.
– Пушки, товарищ комбат.
– А у Грачева дерьмо собачье! – Турецкий забыл, что Грачеву хвост достался, а Нарымову – голова. Но на войне отвечают не только за то, что сделал, но и за то, что мог, но не сделал. – У тебя два танка. Мог один на перехват послать. Философствовать любишь.
В полдень подвижный отряд Турецкого занял железнодорожную станцию. На юго-западной окраине ее остановились дозаправиться, пополнить боеприпасы.
Подошли бензовозы, обшарпанные, побитые. В одной цистерне дыры заткнуты ушанкой и шинельным сукном, другая вся белела оспинками пробок из боярышника. Срезы пробок сочились янтарно-желтым соком и газойлем.
– На немцев наскочил, – хмуро доложился уже немолодой интендант.
– Ну и что?
– Побили, – безразлично-устало пояснил интендант. Вместо шапки на голове у него красовался явно чужой подшлемник с большим рыжим пятном на правом виске. – Тринадцать в плен еще взяли да две машины прихватили.
– Далеко пойдешь. Храбрый и хозяйственный, – похвалил Турецкий интенданта.
– Горючее и боеприпасы я тебе доставил. – Серые обвисшие мешки под глазами интенданта дрогнули, зашевелилось, сбежалось морщинами все лицо. – Теперь спать пойду… Да… – Он ухватился за балясину крыльца, обернулся. – На путях вагоны с трофеями. Ты имей в виду. Там и спиртишко есть. Как бы не перепились твои. Поставь пока охрану, а я потом приму от тебя… Ничего не хитрый. Ты подумай, капитан, – зацепился укороченной полой шинели за гвоздь, оставил на гвозде клочок.
Через полчаса разведчики во главе с Лысенковым привели в избу итальянского офицера, коменданта станции. Смуглый, упитанный, совсем не похожий на собратьев-солдат, каких приходится подбирать по степи.
– Брешет, будто специально сберег вагоны и склады. Русских, мол, ждал, – слепя улыбкой, снисходительно цыкнул сквозь зубы Лысенков и, придерживая рукой чугун на лавке у порога, кружкой зачерпнул из него воды.
Потирая распухший красный нос, комендант мурчал что-то, злобно сверкал на старшину, жадно пившего воду.
– Чего он? – простуженно просипел Турецкий. В накинутом на плечи полушубке он сидел за столом, вымерял циркулем по карте.
– К нему, суке, с добром: бегом давай, требую, а он фордыбачится, головой мотает – не понимаю. Пришлось пояснить. – Старшина жарко оскалился, миролюбиво посоветовал итальянцу: – Ты поговори, поговори, сволочь. Не то придется еще вразумлять. – Не дожидаясь ответа, вытащил из-за пазухи изящную в черном переплете, тисненном золотом, книгу. – Вот чего я нашел у него.
Турецкий оторвался от карты, взял книгу, долго вертел ее в обмороженных распухших пальцах, не в силах стряхнуть с себя тревожную задумчивость.
– Марк Аврелий, издание 1675 года.
При виде книги итальянец задрожал. В косых оливковых глазах метнулось что-то простое, человеческое, похожее на стыд и внутреннюю муку. Под тугой смуглой кожей на скулах прокатились желваки.
– Марк Аврелий?! – Нарымов у печки ел. Отломил корочку хлеба, собрал крупинки жира на дне и по пазам Консервной банки, отправил в рот. Банку проверил взглядом, убедился, что пуста, забросил в подпечье. – Ну-к дай-ка сюда… Марк Аврелий «Миросозерцания», 1675 год. При Людовике Четырнадцатом издана. Хм!.. Марк Аврелий с философией о благе, мудрости мира и земных отрадах и фашист. Окрошка!.. Ишь сукин кот мордафон раскохал какой. Про склады брешет… Попался, теперь ври покруче.
– Зукин кот, зукин кот, – беспокойно заворочал оливково-синими белками комендант и оглянулся на Турецкого, словно ища у него защиты.
– Понимает, – хмыкнул Нарымов, повертел книгу, положил на стол рядом с картой. – Обидчивый. А книга ценная, комбат. Нужно сохранить ее.
– А тебе откуда известен Аврелий? – С каким-то новым чувством посмотрел на Нарымова Турецкий, вспомнив, должно быть, недавний разнос за упущенные три машины.
– Два курса германской филологии Московского университета, товарищ капитан. – Нарымов поправил на себе солдатскую амуницию, улыбнулся. Энергичный, уверенный в осанке, взгляде, словах, Нарымов помалкивал о своей учености. В разговоры с солдатами вступал охотно, пояснял многие диковинные и незнакомые для них вещи.
– Вот как. – В сенцах скрипнула дверь. Турецкий обернулся. Вошла хозяйка, поставила ведро на скамейку рядом с чугуном, запустила пальцы в узел платка. «Вот как!» – повторил еще раз для себя Турецкий. На войне они все вместе, а закончат ее, и каждый в свою сторону. В гражданке Нарымов обойдет его, Турецкого, уйдет вперед. Почесал ногтями зудевшую от грязи голову, спросил заинтересованно: – Кончим воевать – в ученые пойдешь?.. Ладно, налей ему полкрышки водки (глазами на итальянца). Может, и не брешет про склады.
Вошел Грачев. Глаза круглые, бешеные, дышит с сапом. Увидев, как Нарымов подносит водку итальянцу, кулаком вышиб у него крышку из рук, яростно выпалил:
– Нянькаетесь с ними, а они что делают!..
Оказывается, Грачев набрел на заброшенную клуню за садами и в глубокой яме, на гнилой подстилке из соломы, обнаружил скелеты в истлевшей красноармейской форме. В продранную крышу клуни их притрусило снежком. Безногий в дальнем углу, спасаясь, видимо, от холода, натянул на голую культю драный рукав ватника, на рукав надел пилотку.
– Там штрафные у них сидели, – пояснила возившаяся у печки хозяйка и рассказала, что пленные у немцев работали на укреплениях. Кормили их баландой из просяной шелухи. – Только и спасало неубранное поле подсолнуха. Намнут в карманы семечек сердяги и жуют. Не то женщины кукурузы, хлебушка подкинут. А заосеняло как, красноармейцы стали набивать для тепла в галифе и под шинелю соломы. Да и от ударов спасало, не по голым мослам. А били, – хозяйка прижала правую руку к щеке, горестно покачала головой, – чисто скотиняку. Жалости никакой… Штрафных, какие не покорялись, бросали в клуню и не кормили.
Круглые и тугие, как яблоки, щеки итальянца блестели жиром. Он что-то бормотал. Молитву читал, должно быть. Турецкий раздирал кожу под мышками, елозил циркулем по карте. Грачев стоял посреди кухни, бледный до зелени. Острый кадык дергался от сухих глотков.
– Ты отдохни поди, – посоветовал ему Нарымов.
– Я не пьяный, я не пьяный, – обессиленный переживаниями, расслабленно отбивался Грачев. Шатнулся и, задевая плечами косяки, вышел из хаты.
Турецкий проводил Грачева взглядом, кивнул Нарымову, чтобы тот последил за ним.
– Комбриг вызывает, – доложил из угла радист. Турецкий взял у радиста наушники.
– Говорят, ты разбогател? Ну хвались, хвались, что там у тебя?
Турецкий удивленно посмотрел на своих, погнал плечами: «Откуда, мол, там все известно?» Ответил, что пока ничего не знает точно: ни людей, ни времени для подсчетов.
– Горючее и продовольствие есть? – добивался комбриг.
– Кажется, есть.
– Кажется!.. Ладно, не расстраивайся и не подсчитывай: наше все одно будет. На отдых и профилактику часа три, не больше. Жми дальше! Понял?..
– Понял! – Турецкий передал наушники радисту, грязными руками потер лицо. – Ох-хо-хо… Доставай бритву, Нарымов. Помолодеем.
На дворе настоящая весна. В затишке на солнышке блестят лужицы. Пахнет бензином, горечью почек. В небе тугой надрывный звук бомбовоза. Из танков и из-под грузовиков тревожно выглядывают водители. Чумазые лица проясняются: бомбовоз станцию миновал, в другом месте будет бомбить.
– Высоко забрался гад!
– Ссадят и оттуда.
Пришла соседка, величественная и дородная старуха.
– Вы бы, товарищи военные, заглянули тут в один дом поблизу. Может, и пособили бы чем.
– А-что там такое? – спросил с башни старуху рябой Шляхов.
– Как тебе сказать, голубок? – Морщинистое лицо старухи нахмурилось, оттянула толстый платок, мешавший говорить. На валенках ее блестели зернистые капли растаявшего снега. – Вся семья их – как колесом перееханная. У Федоски немцы в лазарете кровь брали для своих раненых, так с той поры и не оклемается. Нюрку, девчушку ее, опоганили на глазах у деда, а тут еще двойняшками бог наказал…
На стук забухшей и покрытой изнутри плесенью двери обернулась и зверовато зыркнула бледная худая девочка, на вид лет тринадцати. На руках у нее был замурзанный, в разваренной картошке малыш. Из тряпья в корыте для стирки попискивал второй. За столом сидел дед в немецком мундире и с ребяческим неистовством лупил кулаками по столу. Увидев военных, дед хитровато подмигнул, хихикнул, потом вдруг вскочил и вытянулся. В выцветших глазах застыл испуг, мочалистую бороденку клеила обильная слюна.
– Немцы облили его водой на морозе, а потом били сковородкой по лбу за то, что он шапку не успел перед ними снять, – заворочалась на кровати в тряпье и зашлась кашлем женщина.
– Чем ты поможешь тут, – вздохнул Шляхов, с щемящей тоской оглядывая грязную горницу. По углам серебристыми бородами висела изморозь.
– Жратвы тащить.
– Дай людям сесть, дочушка, – не могла никак откашляться женщина на кровати.
– Это и есть самая Федоска. – Старуха уже сбросила платок и шубу, успокоила, усадила деда, хозяйничала, переставляя чугунки на загнете. – Белья какого, одежды принесите. Ребятенок в корыте голый лежит.
Замурзанный малыш на руках у девочки вскидывал ручонки, морщил старческое личико, улыбался танкистам, выявляя сверху два молочных зубика.
К вечеру мороз прижал с прежней силой. Снег стал жестким, хрустел. На траках гусениц и башнях кровянисто теплело закатное солнце. От чистоты и свежести вечера в голове звенело. Короткий отдых кончился, и лица солдат снова оделись в непроницаемую броню тревожного ожидания. Взвихривая серебристую пыль, танки обогнал бронетранспортер. Разведчики курили, завязывали тесемки маскхалатов. В рубчатых следах бронетранспортера копились лиловые предвечерние тени.
За раздетым ветрами песчаным увалом, в стороне от дороги, Кленов заметил черное пятно. Пятно вроде бы ворочалось. Кленов сказал капитану. Капитан приказал остановиться, послал автоматчика. Тот привел оборванную, в снегу девочку. Через плечо у нее висела холщовая торба. Автоматчик запустил в торбу руку, достал в снеговой каше мерзлые картошки.
– Ты что же прячешься? – спросил Турецкий, спрыгнул с танка и наклонился к девочке.
– А вы кто такие? – Из опушенного инеем рваного платка диковато стригли черные глазенки.
– Замерзла, курицына дочь?
От участливой родной речи девочка блеснула ровными подковками зубов.
– Вы свои, значит?.. А я вот на хутор картохи менять ходила. В ярочек присела. Тальянцы да немцы едут, думала.
– И далеко ты ходила?
– К казакам. Они живут добрее. – Вздохнула, пояснила по-взрослому: – Мамка больная, батяни второй год нету, а тут еще Гришка маленький. – Синие тощие щечки дрогнули, шмыгнула носом.
Автоматчики и танкисты развязали солдатские мешки, потянулись к девочке с хлебом, консервами, сахаром.
Глаза девочки разбежались, не замечала даже капли на кончике носа.
– Да куды ж мне это все. Мне и не унесть.
– А ты закопай часть. Завтра придешь, – советовали с брони.
– И то правда, – серьезно согласилась девочка. – Гришка кричать теперь перестанет. А то как оглашенный: исть да исть…
Постояла, пережидая машины и танки, не дождалась и пошла, загребая не успевший слежаться снежок валенками, из которых сзади торчали пучки золотистой соломы.







