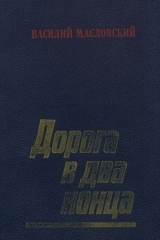
Текст книги "Дорога в два конца"
Автор книги: Василий Масловский
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 32 страниц)
Глава 12
Угрозами и посулами немцам удалось заставить черкасян выйти на поля. В первые дни вышли все от мала до велика. События оглушили, смяли, будущее полно неясностей, а жить надобно.
Между тем время шло, догорал в дымных закатах июль – на пороге август, уборочная страда. Уже где вручную, где лобогрейками начали валить ячмень, овес, на выбор – пшеницу, а немцы не спешили исполнять свои посулы. Угрозы расстрелов, угона в особые лагеря и саму далекую и пугающую Германию нарастали с каждым днем. На столбах и специальной доске у правления вывешивались все новые и новые грозные приказы и объявления. Проходившие части и те, которые задерживались на постой в Черкасянском, брали все подряд. Брали, не спрашиваясь, запросто, как свое. И еще оставались недовольными, если не находили нужного или находили мало. В первую очередь съели кур, уток, гусей, молодых телят, овец, обшаривали чердаки и подвалы. Наловчились отыскивать в самых потаенных местах. И никто их не удерживал, никто им не мешал. И у черкасян родилось сомнение. В поле выходили по-прежнему, но работали уже не так охотно, будто ждали чего-то. А слухов хватало.
Дальше Дона в среднем течении немцы не пошли. В Калитве, Галиевке, Монастырщине, Казанской, Вешенской, Еланской шли еще бои на восточном берегу. Переправлялись или держали оборону – неизвестно. Продолжали прорываться и отдельные части из окружения. Докатывались слухи о боях под Клетской, Сталинградом. Их приносили окруженцы, которым удавалось миновать рук немцев и которые рассыпались, растворялись по хуторам в примаках; беженцы, которых война повыжила из домов, и, сбитые с толку, растерянные, они искали приюта у родни и просто чутких к чужому горю в эти дни людей.
В один из дней стало известно, что наши ночью переправились у Галиевки и побили много немцев и итальянцев. Хуторяне ходили именинниками, с тайным злорадством поглядывали на своих обидчиков. А потом пошел слух, что почти всех переправившихся перебили, и недавняя радость померкла: «День меркнет ночью, а человек – печалью». Слухами жили, их ждали, о них допытывались. Слухи теперь были источником сведений обо всем, что делалось за пределами хутора. Отлучаться из дому боялись, да и не тянуло никуда, ничего не нужно было, будто та жизнь, какой они жили теперь, была не настоящей, и ее можно было пережить как-нибудь, а когда наладится та, другая, жизнь, нужда сама заявит о себе.
В районе появилась новая власть, гражданская. Чем она занималась, эта власть, никто толком не знал, да и не интересовались особо. Говорили о полицейском управлении. Звучало оно как-то неприятно, холодно, напоминало о том, о чем молодые знали только из истории и по газетам. А теперь оно было рядом. Появились и люди с повязками – полицаи. Сказывали, будто шли туда добровольно. Черкасяне, однако, голову не ломали. У них, слава богу, ничего этого пока не было. На работу ходили: боялись. Не знали, но чувствовали, что за их жизнью кто-то неусыпно следит.
Но однажды неожиданно для всех к правлению колхоза, где обретался теперь не то бургомистр, не то староста, черт его разберет, прошелся с карабином за плечами и повязкой на рукаве Гришка Черногуз. Тот самый Гришка, который ни добром, ни злом среди черкасян не выделялся, Гришка шел по пыльной, облитой зноем улице важный и смущенный. На нем были сапоги, жирно блестевшие дегтем, черный суконный пиджак, подпоясанный зачем-то широким командирским ремнем со звездой, и кожаная фуражка.
– Друзьяк твой пошел. Упырь.
– Где он, подлюга, так вырядился. У него ж ничего не было. Я знаю.
Старики Воронов и Галич сидели у плотницкой на сложенных в костер санях, провожали Гришку взглядами, курили и цыкали через губу.
– Какой черт надоумил его на эту бузу? – Глаза на монгольском лице Галича осуждающе сузились, пощупал пальцами жидкую бородку.
– Не веришь, значит, что немцы задержатся?
– Я, Севастьяныч, никакой власти сразу не поверю. Выглядывай да жди – золотое правило. Зараз жизня такая – и на шворку угодить недолго. – Галич кончиком языка облизал зачерствевшие губы, заправил обсосок уса в рот.
– Надеючись – и конь копытом бьет, – возразил Воронов. Обсыпанные, будто рыбьей лузгой, старческими веснушками руки старика подрожали, нагнулся пониже к уху Галича: – Надеяться на своих нужно. На чужом корню и полынь не растет. У немца на чужих душа коротенькая.
В серых отвалах балок одиноко треснул выстрел и тут же затерялся в немой глухоте зноя, Галич и Воронов переглянулись.
* * *
Алешка Тавров работал теперь в мастерских МТС молотобойцем. Кузнецом был все тот же Ахлюстин. Высохший у горна старик, редкозубый рот в оборочку, поверх очков в железной оправе голые бесцветные глаза. Электростанция не действовала, ток не подавался, и в мастерских фактически никаких работ не было. Но, как и раньше, рабочие собирались к восьми часам. Инженер Горелов раздавал наряды и исчезал куда-то. Трактористы, слесаря, токарь, получив наряды, прятали их в карманы и выбирали за мастерской местечко в холодке, в бурьянах, где бы их не сразу можно было найти.
Случалось, в мастерской появлялся сам староста. Горелов докладывал ему о ходе работ. Высокий, сутулый, по-прежнему всегда подтянутый, выбритый и брезгливый, Раич стал еще нелюдимее и замкнутее. Ни у кого не возникало желания поговорить с ним, как обычно люди говорят между собою. Да и сам он не стремился к этому. Как-то утром Горелов доложил ему, что ночью кто-то сбил замки на керосиновом баке и выпустил почти весь керосин на землю. Осталось литров двести – триста – на дне, на самые крайние нужды для электростанции и тракторов. Раич принял это известие безразлично. Все, кто был при этом, переглянулись: «Что он за человек?..»
А Раич принял известие о керосине потому так, что знал уже обо всем и успел пережить. Ночью ему сунули в разбитое стекло веранды записку: «Ты, сука продажная, зря стараешься донским хлебом немцев кормить. Грехов за тобою и без того хватит – русская земля не примет. Так что помалкивай да почаще оглядывайся!..» Угроза была не пустячная.
Раза два в него уже запустили кирпичом. А один раз ночью железный шкворень вынес целиком раму. Пришлось делать на ставнях внутренние болты.
В мастерской «случайно» исчезли все магнето, и трактора теперь, даже если бы и был керосин, работать не могли. Так же «случайно» пропали шестерни токарного станка, а в инструменталке вынули окно и унесли почти весь слесарный инструмент – работай, чем хочешь. Молоток да зубило – вся наличность. «Случайно» исчезло зерно из амбара и шкуры овечьи, выделанные и невыделанные, которые не успели сдать. И таких «случайностей» было хоть отбавляй на каждом шагу. Новые высшие власти пока не коснулись ни одного дела. И было непонятно: знают они или не знают о том, что делается, докладывают им или не докладывают. Раич же ходил по-прежнему угрюмо-спокойный, невозмутимый, недоступный. Провожая его взглядом, черкасяне пожимали плечами: «Кто он такой? Сознательно вредит или просто окостенел от страха и сплошных загадок?» Однако ничуть не смягчались от этих мыслей и ненавидели его в той же мере, что и немцев, итальянцев, если не больше.
Как-то под вечер Алешка ремонтировал лобогрейку у самой дороги, и тут к нему подошли два незнакомца. Потрепанные картузики и пиджачки не могли скрыть их военного вида. Один невысокий, плотный, лет сорока. Пиджачок на его плечах трещал по швам. Второй – молодой, ловкий, с веселыми и быстрыми, внимательными глазами.
– Здорово, парень. Стараешься? – не то в укор, не то в сочувствие сказал тот, что постарше, закряхтел и опустился на полок лобогрейки, от чего та присела едва не до земли. – Курить имеешь?
– Некурящий. – Алешка с зажатыми в руках ключами тоже присел прямо на землю, вопросительно замолчал.
– Курить к слову, кореш, – весело поиграл глазами младший и извлек из штанов толстый кисет. – Какой дурак курить будет спрашивать сейчас, когда на огородах и в поле табаку по ноздри. Хочешь?..
– Нам на хутор Покровский дорогу нужно, – перебил старший.
– А вы откуда идете, с какой стороны?.. Ну так Покровский вы не могли миновать. – Алешка полюбовался неловкостью старшего, поучительно добавил: – Зараз, дядя, врать умеючи нужно, не то как раз влипнешь.
– Ладно пытать. Поговорить надо. – Молодому не сиделось: лихой, видать, парень. На корточках придвинулся поближе, влажно замерцавшими глазами оглядел Алешку. – Неловко тут. Подальше куда-нибудь.
У полуразваленного колхозного овощехранилища, в густом полыннике и бодяках, присели.
– На глухие хутора правитесь? – спросил Алешка, морща губы в усмешке.
– Угадал, кореш.
– Навоевались. Теперь к бабам под юбки… ждать? Знаю. У нас уже есть такие.
Больно кольнув словами, Алешка нахмурился и посмотрел на желтую в закатном солнце стену мастерской, здоровых сильных людей перед собою. Трудно поверить, что они, бывшие солдаты, крадутся по своей земле, как воры, сидят сейчас в бурьянах, прячутся. «Жить хотят? – подумалось тоскливо. – Ну а кто не хочет жить? Что-то большее нашей тоски и боли должно быть. Земля, на какой мы прячемся. Кому вот они грехи свои понесут? Кто и где их ждет, таких? – Алешка поежился как от холодной воды, попавшей за ворот. – Ждут. Сколько окруженцев уже живут в хуторе с бабами. И бабы довольны. Устроились».
Молодой оперся спиной о струхлявевший столб в стене хранилища, вздохнул, заговорил рассудительно и зло:
– Как попали в хвост немцу – тебе не понять, кореш. Пробовали Дон перейти – ничего не вышло. У Галиевки пробовали, – облизал затвердевшие от злого упрямства губы. – Пустил гад в воду, а потом из пулемета строчку перед самым носом, и – цюрюк! Стою перед ним голый, а он, гад, смеется: «Иван буль-буль…» Хороши ночи донские: хоть глаз выколи, а куды…
– А под Монастырщиной?
– Пробовали и там. Вдвоем уже. – Парень тряхнул туго набитый пахучий кисет, оторвал косушку бумаги. – Сейчас главное – ждать. Ждать и делать, что можешь. И ты не рыпайся. Погибнешь – и только. – Прикурил, стиснул зубы, выпуская дым через ноздри. – Дон, что ты хочешь. Мы оба калачи тертые, а не вышло. – Икнул, прокашлялся. – Теперь в примаки. Бабе под подол. Ты угадал.
Длинная прохладная тень мастерской накрыла бурьяны. Было слышно, как из потаенных мест в мастерскую собираются рабочие, бросают инструмент, уходя домой.
Алешка встал, постоял, набычившись и поглядывая в сторону, посоветовал:
– Пробирайтесь на Крутяк, Сохранный, Богаев. Хутора глухие, дорог больших близко нет. Там и свои не сразу домой попадают. Идти вот куда, – указал на синеватую глубь широкого лога. В конце лога, на взгорке, мрели сады хуторка. – Это хутор Козлов виднеется.
Долго провожал взглядом по яру прочного литья фигуру старшего (при разговоре он только двигал бугристыми бровями и хмурился) и ловкую поджарую – младшего, пока оба не скрылись в логу. Сколько же их рассыпалось по хуторам только на Дону! И всё они солдаты.
«Как же так? – не понимал Алешка. – Как же воевать тогда? Этак каждый может устроиться и ждать. Где же набрать солдат? А может, они и нравы: к чему гибнуть зазря!» «Но ведь там, где продолжает идти война, рискуют ежечасно, ежеминутно, идут к чему-то, верят», – твердил другой голос.
Глянул еще раз на яр, отряхнул, размазал в пальцах желтую пыльцу полыни, ощущая ее щемящую горечь, и побрел в мастерские.
«О мерах наказания за нарушение населением приказов оккупационных властей:
1. Запрещается: хождение гражданского населения вне пределов места жительства без особого письменного разрешения (пропуска), выданного ближайшей воинской частью.
2. Запрещается: гражданскому населению находиться вне дома по наступлению темноты без особого…
3. Запрещается: принимать на жительство к себе лиц, не принадлежащих к числу местного населения.
4. Население должно немедленно сообщать старосте о нахождении в деревне чужих лиц.
5. За всякое содействие большевикам и бандитам и за причиненный германским вооруженным силам ущерб виновные будут наказаны смертной казнью.
Главнокомандующий германскими войсками».
– А вот гражданская власть что приказывает, – Алешка споткнулся о железный обод колеса на полу кузницы, вытащил из кармана другой листок. Лицо нахмурилось.
«Казаки и иногородние!
1. Тайный забой скота принимает недопустимые размеры. Этим вы наносите ущерб государству и самим себе. Тайный забой скота является саботажем и будет наказываться смертной казнью.
2. В последние дни многие покинули свои рабочие места и разбрелись по окрестным хуторам. Есть поздние выходы на работу и ранние уходы, Рожь, пшеница и другие культуры находятся в поле неубранными. Кто не будет исполнять требования немецких властей о работе в поле и других местах, будет также наказан смертной казнью.
3. Приговор за преступления, указанные в пунктах 1 и 2, будет немедленно приводиться в исполнение через публичное повешение.
Уездный комиссар Мойер».
– Хоть и не живи, туды его мать. За все повешение.
– Вот дождались, а-а!..
– А про какое государство там сказано? Кому ущерб?
– Немецкое.
– Так оно и мы теперь немецкие.
– Брешешь, упырь чертов!
– Сбреши лучше! – заспорили мужики, спозаранку собравшиеся в кузнице.
– Она и прежняя, советская власть не дюже миловала. – Землистое, в пороховой сыпи навеки въевшейся угольной пыли лицо кузнеца Ахлюстина сбежалось морщинами, из-под колючей щеточки усов желто блеснули корни съеденных зубов. – Кому двадцать пять процентов, принудиловка, а кому и тюрьма.
– А ты, Ахлюстин, слыхать, мельницу ладишь в Лофицком открыть свою?
– Надоело из чужих рук кусок выглядывать. – Ахлюстин снял с гвоздя дырявый брезентовый фартук, накинул лямку на шею, завязал концы за спиной. – Солнце в дуба, а вы все байки гнете. Какой же власти такая работа по нутру придется. Тащи, Алешка. Тащи полосовое железо.
Покряхтывая и матерясь, мужики неохотно стали расходиться, гадая, чем же занять этот длинный, только начинающийся день.
К обеду Алешка и Ахлюстин нарубили полос, пробили в них с обоих концов дырки.
– Будем конный привод делать. Молотить боле нечем, – пояснил Ахлюстин. Опаленные щетки бровей недовольно топорщились, он тяжело, с присвистом, дышал окалиной и угольной пылью. – У Гадючьего вроде ноне ночью Дон перешли. Не слыхал?
Алешка мотнул головой, на шее узлами вздулись жилы, поднял полосы и поставил в угол.
– Алеша! Алеша! – В двери кузницы стояла Ольга Горелова, инженерова дочка. Лицо бледное, воротничок старенького платья прыгал от колотившейся жилки на шее.
Толкаемый внезапным и неясным смятением, Алешка оттеснил Горелову от косяка двери, быстро провел через пустое и прохладное помещение для ремонта тракторов. За мастерскими, на солнечной стороне, остановились.
– Ну что у тебя?
– Андрея видели.
– Кто видел? Где видели?.. Что ты мелешь? – Алешка оглянулся, увлек Ольгу подальше за угол.
– Галиевский дед. У Варвары Лещенковой. Этой ночью разведка была.
– Какой дед? Какая разведка, Оленька? Говори толком.
– К Варваре Лещенковой только что дед из Галиевки явился. Родня. Так говорит, будто Андрея видел этой ночью. Андрюшку Казанцева. Разведка из-за Дона. Дед, на Галиевской ссыпке встречал Андрюшку раньше.
– Что он еще рассказывает?
– Ваш хуторец, говорит, сразу признал.
– Что ты заладила. – Рыбья лузга нескрываемых и загаром веснушек на лице Алешки потемнела, он в нетерпении покусал губу – Ты вот что, – коротко глянул через плечо, – передай этому деду – нехай здорово языком не треплет. Как бы дядька Петра, отца Андреева, не загребли.
– А правда это, Алеша?
– Что правда?
– Про Андрея в Галиевке. Тут же всего двадцать километров. – Ольга оттянула душивший ее ворот старенького платья и закрыла лицо руками. Меж пальцев высочились слезы. – Он там, Алеша! Там! – почти выкрикнула она и задохнулась в плаче. – Там, Алеша!..
– Ну что ты, что ты. Перестань. – Алешка обнял Ольгу за плечи, прижал к себе и по тому, как вздрагивали эти плечи, чувствовал накаты рыданий. – Перестань. – На душе вдруг стало невыразимо тоскливо и пусто. Это он и свел Андрея и Ольгу. Прошлой весной. Большой, неуклюжий Андрей был стеснительным. Никогда бы не подошел к Гореловой сам. Он пригласил их в кино и оставил одних. С того кино они и стали дружить. Высокая, по-восточному смуглая – смуглыми казались даже ее глаза и губы, яркие и свежие, – Ольга нравилась многим ребятам. Но в глазах и лице ее было что-то гордое, отпугивающее. Андрею она покорилась сразу и теперь вот плачет.
– Что же делать, Алеша? – Распухшие мокрые глаза Ольги сияли горячо и нестерпимо, припухлость, мысик на верхней губе, подрагивала.
– Не знаю, Оленька. Не знаю. – Взгляд Алешки задержался на сияющих глазах, припухлом мысике. – Не знаю, – повторил в отчаянии. Сам думал: «Значит, Дон одолеть можно!..» И сердце его билось гулко и часто.
Глава 13
Солнце перевалило за полдень. Косая короткая тень скирды передвинулась, и тощие ноги Гришки Черногуза оказались на припеке. За углом скирды, вытаптывая босыми ногами колючую стерню, толкались, спорили подростки, клацали Тришкиным карабином. Патроны высыпали Гришке в свалившийся с головы картуз. Красный муравей пробежался по желтому Тришкиному телу, выше засаленного пояска штанов, остановился, словно бы в раздумье, и сомкнул челюсти-кусачки.
– Что?.. Кто такой? – всхрапнул Гришка и сел, очумело озираясь. Ладонью вытер мокрый рот, поскреб мятую красную щеку. В картузе, блеснув жаром меди, звякнули патроны. – Опять, чертовы головы, карабинку. Вот я вас… – Привел себя в порядок, отобрал карабин, нашел Казанцева, Воронова, баб за другим углом скирды. – Прохлаждаетесь?.. Солнце на втором круге, а вы дрыхнете!
– У самого морда красная, распухла.
– Ему можно: он – власть.
– Подлюшную должность ты выбрал себе, Гришка.
– А вам что – лучше, если другого пришлют?
– И то правда. А смотреть все ж противно.
– Научила вас рассуждать советская власть.
– Ах ты, недоносок вонючий! – вскочила распатланная Лещенкова, налапала в соломе платок, накинула на голову. – А тебя кто учил, черепаха лысая? Да как тебя баба в постели терпит, такую тлю поганую. А что он мне сделает! – придавила Лещенкова шикавших баб огнем потемневших в гневе глаз, зажала шпильки в зубах, закинула руки за голову. – Да придут наши, загремит в Соловки как миленький.
– Зря кричишь, Поликарпыч, – примирительно вмешался тоже заспанный Казанцев. Раич, староста, все приневоливал его исполнять бригадирские обязанности. Но Казанцев умело уходил в тень. Вперед выдвигал недалекого и лядащего Черногуза. – Коней нет. – Казанцев поправил картуз на голове, поглядел в отножину лога, где были пруды. – Хлопцы поехали поить и до се нет их.
Разбуженные Черногузом, деды и бабы поднимались неохотно, размеренно. Над жнитвом и некошеными хлебами – сухой жар. Усталость и лень в самом воздухе. Над обгоревшей балкой черной точкой распластался кобчик.
– У бога дней много. – Старик Воронов отыскал в соломе свой пиджак и на карачках пополз от солнца в тень.
– Где вас черт носит! Время не знаете! – накинулся Гришка на ребят, пригнавших коней и мокрых еще от купания. Безбровое бабье лицо Гришки смешно и грозно нахмурилось. – А то я скоро найду на вас управу.
Володька Лихарев, плотный, гибкий в талии, спрыгнул с коня, усмехаясь криво, тихо, чтобы не слышали женщины, шепнул:
– Тебя уже шашель тронула, дядя Гриша, а ты все в дудку растешь.
Гришка раскрыл рот от изумления, задавленно посипел, икнул, пуча глаза:
– Да я тебя, сука паршивая, в труху, и в землю положить нечего будет.
– Сучись, да не больно. – Володька перекинул через голову коня поводья, зажал в кулаке, посоветовал на ухо: – Почаще оглядывайся, гад! Так-то вот!
– Григорь Поликарпыч! – вмешался Казанцев. Он присел у лестницы, обернулся к Гришке. – Ты помоложе чуток. Помоги поставить. Отрухлявел, не влезу без лестницы на скирду.
Гришка глянул в желтовато мерцавшие в хитроватом прищуре глаза Казанцева, помог поставить лестницу, ушел подальше от скирды к нетронутым копнам. На глазах вскипали слезы, вытер кулаком длинный, вечно сырой нос. «Откажусь, будь оно проклято все. Один черт никто не понимает, что я заслоняю их». Гришке не хотелось признаваться, что не чужой покой оборонял он, а утолял свое давнишнее желание пожить всладость, ни о чем не думая, ни о чем не печалясь. Одолели каждодневные заботы, как стачать два конца в жизни. Жена попалась не увертливая, с самого венчания мучится по-бабьему, трое детишек. Надоело маслиться на чужое счастье, захотелось самому пожировать.
Гришка оглянулся на скирду, где, спаянные чем-то общим, гудели, работая, бабы, подростки, старики, подкинул плечом ремень карабина и, чувствуя себя незаслуженно и кровно обиженным, стал спускаться к яру, на дорогу к хутору.
Казанцев проводил его взглядом до самой дороги, перекинул сноп поближе к краю.
– Человек он никудышный. От него и в колхозе проку мало было, а не трогать бы его. Зараз он на своем месте.
– В районе, слышно, лютуют эти самые полицаи. У нас бог миловал – и на том спасибо. Углы, углы выкладывай надежней, чтоб не затекла. – Желтоватое монгольское лицо Галича в степи посвежело, обуглилось, закурчавилось многодневной жидкой бородкой. – Клади, чтоб до наших достояли.
– Ты думаешь? – радостно оживился Казанцев и оглянулся мысленно на недавнее, а будто уже слинявшее довоенное время. – Так-то бы козырь в нашу масть, Селиверстыч. – Шевельнул плечом, отодрал приставший к рубахе репей.
Галич погасил улыбку в раскосых глазах, снизил голос до шепота:
– Зимой как пить дать. Верь олову. – Скуластое лицо, будто оттаивая, дрогнуло усмешкой. – Замах у них и широкий, да не рассчитали сук-кины сыны. Румынами да тальянцами фронт латают, а выше Калитвы мадьяр посадили. Говорят-то они и много, да брешут все. А от хорошей жизни брехать не будешь. – В косом разрезе из-под жидкого навеса бровей блеснуло злобное торжество.
– Ох, Матвей, Матвей. – Казанцев перекинул сноп, придавил вилами, глянул: ладно ли?
– Молчи, Данилыч, молчи! Не та собака страшна, какая лает, а та, что молчит. С бреху да ругани пошлин не берут.
– Они и коров запретили брать со двора и резать. А берут и режут. И что ты сделаешь.
– На Богучаровском шляху машины подрываться стали. – Старик Воронов пожевал сизыми губами, рукавом рубахи убрал капли пота с навеса бровей.
Подошла арба со снопами, и разговор оборвался.
Зной сник. Степь поблекла.
У далекого горизонта она сливалась с синью неба, круто обламывала края свои и вся дрожала и струилась в текучей мглистости.
У Козловского яра, где на арбы накладывали Варвара Лещенкова и Марья Ейбогина, низкий грудной голос запел:
Солнце низенько,
Вечер близенько…
– Как в старые времена, – вздохнул Воронов, задрал растрепанную бороду на скирду. – Что-то давно не слышно от тебя про козырь в нашу масть, Казанцев.
– Плохо слухаешь, Севастьяныч. – Казанцев уловил немой вопрос в глазах старика, снял картуз, обмахнул им градом сыпавший пот с лица, приставил было вилы к ноге, но тут же поплевал на ладони, нанизал молодцеватый, будто кушаком по шубе перехваченный, ядреный сноп. – Хорошие новости, Севастьяныч, зараз на ушко и шепотом. – В голосе прозвучало что-то безрадостное и предостерегающее. – А что ты будешь делать?
– И скажи, как доразу выцвело, слиняло все. – На костистого, в облипшей, мокрой на плечах и спине рубахе Воронова было жалко смотреть. – Боже ж ты мой, боже мой, – помотал головой и выронил он слезливо.
С затрушенной золотистой соломой дороги по дну яра на бугор неожиданно вымахнул и стерней погнал к скирде всадник. За вскинутой оскаленной мордой коня его не видно было: лежал на конской шее. У скирды, не выпуская повода, на землю скатился Сенька Куликов.
– В хуторе обоз немецкий! По хатам шастают! Беженку Гавриловны к себе потянули и дядька Пашу́ убили! – разом выпалил босоногий, в расхристанной рубахе хлопец.
– Ах, тудыть их мать! Бросай! – взвился крик.
– Мы тут надсаживайся на них, а они семьи наши!..
Груженые арбы опростали прямо на землю, разместились в них и галопом погнали к хутору. Все произошло быстро, слаженно. В несколько минут степь сиротливо опустела. На скирде, как вскинутая к небу рука, торчал черен забытых вил.
Часов около пяти вечера в хутор с бугра серой змеей спустился обоз. Втянувшись в улицу, обоз завернул к базам. Первыми к базам на толстозадых конях проскакали несколько верховых. Возы солдаты расставили быстро, распрягли коней и бросились по дворам. Над хутором резанул поросячий визг, как от лисицы или хорька, подняли гвалт куры. Теперь с этого начиналось появление хоть сколько-нибудь значительной немецкой части. Все они набили руку на грабеже, бойко лопотали: «Матка, млеко! Матка, яйка! Матка, шпек!» Переводчик не требовался. Непонятное втолковывалось кулаками, палками, прикладами, а то и как-нибудь похуже.
Попавших под руку подростков и мужиков обозники угрозами и криками пригнали к базам и заставили раскрывать еще желтую, только в прошлом году перекрытую соломой овчарню.
– Шнель! Шнель! – лязгало по всему хутору и у овчарни ставшее уже привычным слово.
Распоряжался всем багровый тучный офицер. Он, не умолкая, бормотал проклятия, наблюдая нарочито бестолковую, как ему казалось, возню русских мужиков, покрикивал на своих солдат.
Мужики знаками объяснились с офицером, сходили домой за вилами. Ейбогин – Паши́ – как раз краем выгона шел ловить телка, оборвавшегося в огороде. Боялся, как бы тот не угодил немцам в котел.
– Рус, ком! Ком! – окликнул его белобрысый немец с дороги и замахал рукой.
Паши́ сделал вид, что не слышит; размахивая рваным недоуздком, ускорил шаг.
Чтобы не бегать, немец выстрелил в воздух, а потом по кукурузе впереди Паши́. В кукурузе жалобно «мекнуло», и на выжженный выгон рывками, занося зад как-то вбок, вылетел пятнистый телок Паши́. Увидев человека, телок кинулся к нему, ревнул жидким баском, как это делают взрослые быки на кровь, но тут же взбрыкнулся, упал и быстро-быстро засучил ногами, соскребая гребешковыми копытцами с черствой земли чахлый степной полынок и жесткую жухлую щетину травы.
– Что же ты наделал, сволочь! – Паши́ теперь понял, что кричат ему.
– Сволош?.. Сволош? – удивленно повторил несколько раз, видимо знавший это слово немец. – Сволош! – Кожа на скулах его натянулась, побелела.
Переменил руки с автоматом на животе, поднял сапог, метя Паше́ в пах. Паши́ ловко уклонился, и, не ожидавший такого маневра, немец упал. Новая очередь лежачего немца сорвала с Паши́ картуз, и Паши́ от испуга тоже упал. Немец вскочил, ударил Пашу́ сапогом в живот, голову и, увидев кровь на разбитом лице, брезгливо плюнул и ушел.
Сенька видел все это с крыши овчарни, где орудовал вилами вместе с мужиками. Улучив момент, Сенька нырнул в пролом на чердаке овчарни, а потом по бурьянам – в забазье, где паслись лошади.
Немцы застелили снятой соломой земляной пол база, где недавно ночевали пленные, поставили туда своих битюгов и снова, пока светло, рассыпались по дворам. Беженку Гавриловны отделили от детишек и поволокли в сарай, где по переруб лежало сено. Бедная женщина голоснула, пока тащили через двор. В сарае зашлась криком, затихла. Оборонять никто не кинулся. Боялись. Да и своего горя хватало, хоть захлебнись.
У Лукерьи Куликовой пьяный фельдфебель вздумал поохотиться из автомата на гусыню с двумя гусенками. Гусыня, теряя перья, с криком металась между плетнями и постройками, немец палил длинными очередями и все никак не мог попасть. На пороге избы жались перепуганные насмерть детишки.
– Слава богу, – встретила Филипповна старика. – Забегали и к нам. Наши почеркотали что-то с ними по-своему, и те ушли. Сами, значит, трескают, а других не пускают. Черный старался особенно.
– Да нехай трескают, хоть полопаются, – в каком-то отчаянии махнул рукой Казанцев. В горле булькала и клокотала неизлитая злоба. – Куда денешься? – Он с ожесточением воткнул вилы у входа в сарай, повернулся лицом к огороду.
На пологих скатах кургана Трех Братьев в желтом закате млела нетронутая пшеница. На хутор ложились душные сухие сумерки, но огня никто не зажигал. Все хаты были темны. С того конца хутора донесся задушенный дикий и долгий крик. Казанцев вздрогнул. Спина похолодела. Крик повторился, отчаянием и ужасом повис над хутором.
– Над бабами смываются. О, господи! Мело им горюшка, бедным.
– Не квели душу! – скреготнул зубами Петр Данилович, снял картуз и в каком-то исступлении впился взглядом в сивую мглу яра.
Темнота южной ночи быстро крыла землю. За сухими отвалами балок слепо чиркали варницы.







