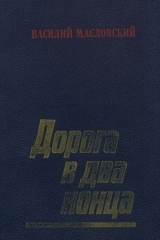
Текст книги "Дорога в два конца"
Автор книги: Василий Масловский
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 32 страниц)
Немцы заспорили между собою и долго что-то кричали друг на друга. Наконец ефрейтор подошел к Лихареву, рванул его за плечо и показал на Поповку.
– Рус, вэк! Шнеллер!..
Лихарев покосился на пистолет в руках ефрейтора, перелез через кювет и быстро пошел обочиной. Плечи зябко сводило судорогой. Только за кустами терновника почувствовал себя свободнее. У двора, где пили молоко, окликнула голенастая девчонка.
– Здорово они вас. Вам дать умыться, дяденька? – Нос у размета бровей весь в золотистых конопушках. Поморщилась.
Володька усмехнулся разбитыми губами.
– Пожалуй, давай, тетенька.
Девчушка провела его к колодцу во дворе, сбегала, принесла льняное полотенце, достала ледяной воды в бадейке. Володька вымыл лицо, окунул голову в бадейку. Не вытираясь, присел на дубовую колоду.
– А теперь попить зачерпни, тетенька.
– Я вам лучше молока и хлеба вынесу.
Подождала, пока тракторист прожует и выпьет, посоветовала:
– Вам уходить нужно. Кинутся искать еще. Вот так прямо и идите кукурузой, а потом подсолнухами. Вам на Хоперку?
– Черкасянский. – Володька помял в руках жесткий рушник, не мог оторвать глаз от конопушек на переносье. – Прощай. Спасибо тебе, тетенька. Авось встретимся еще. – Вздувшееся иссиня-багровой опухолью лицо тронула насмешливая улыбка.
Кукуруза расступалась и смыкалась за узкими мальчишескими плечами, буруном шелестела за спиной, как шелестит за лодкой вода.
Девчушка влезла на колоду. Нос в конопушках морщился. Светлые, как осенний родник, глаза теплели. Спрыгнула с колоды, выхватила изо рта у теленка брошенное полотенце: «Ох ты ж, идолюка поганый!» Еще раз обернулась на кукурузу, где поплавком мелькала вихрастая голова, и унеслась с полотенцем в хату.
* * *
Над Хоперским яром небо насупилось. Туча иссиза-черной ладонью просунулась до самого хутора, укрыла тенью курганы, неубранные хлеба в крестцах.
«Туды его в дышло! Как при Николашке», – говорили мужики, глядя на эти крестцы.
Старожилы давно не помнят такой уборочной. Лето на исходе, а хлеба на корню стоят в поле. Районное начальство немецкое посылало циркуляры, наведывалось салю, грозило. Но работы выполнялись только для виду. Главная беда: молотить было нечем. Сделали конный привод к молотилке, опробовали, но ночью кто-то заложил обломок железа между шестерен, и привод разорвало. Ахлюстин сконструировал ветродвигатель. Начал еще в июле, сразу после прихода немцев, когда не стало горючего. Больше месяца мучил Алешку и всех в мастерских: клепали, свинчивали. Итальянцы помогли машиной поставить вышку, а ночью вышка рухнула, и все труды – коту под хвост.
Частично все же удалось наладить обмолот. Немцы, не видя выхода, отпустили горючее. Но вместе с горючим прислали на тока и своих солдат. Обмолоченный хлеб тут же на машинах увозили. Хуторяне поняли окончательно, что с обещанной долей их провели, стали ловчить по-своему: при перевозках сбрасывали мешки в яры, просыпали верно в стерню, увозили с токов под видом отходов. Чтобы отвести глаза, поили охрану самогонкой, кормили салом. История с хлебом едва не кончилась печально: немцы раскрыли обман. Помог им Гришка Черногуз.
Вообще жизнь правобережных придонских хуторов текла внешне неприметно, глубинно, как первые ручьи нагорной воды под снегом. Люди вроде бы смирились и уверовали в несокрушимость и незыблемость «нового порядка». Однако то тут, то там что-нибудь да случалось. В Черкасянском сгорел итальянский склад с обмундированием, а на Васильевском – с оружием. И все при загадочных обстоятельствах. Склад с обмундированием итальянцы разместили в жилом доме, и огонь занесла кошка, которой кто-то привязал к хвосту паклю, облил бензином и поджег. На Хоперке сгорела конюшня с обозными мулами.
Ахлюстин пробовал было придираться к Алешке, Лихареву, но сам был в руках у Алешки: боялся, молчал.
Петр Данилович Казанцев за лето переменился крепко – обгорел в степи, ссутулился, заметнее обозначились под линялой рубахой кострецы ключиц. Переменился он и внутренне, но это не так кидалось в глаза. Многое передумал он и вспомнил за это время. Случалось, по нескольку раз на день мысленно встречался с детьми. Особенно с Андреем и Виктором. Остальных он видел каждый день за столом. Нянчил детей маленькими, припоминал за каждым что-нибудь. Особо прокудливым рос Андрей. Он был как распахнутый постоянно настежь. Все тянуло его к чему-нибудь незнакомому. Помнит, весною было дело, Андрюшке пять лет исполнилось, услышал под вечер крик из левад. Андрей увяз в грязи посреди огорода по пояс. Ходил в вербы смотреть, как грачи на ночь спать укладываются. Лет десяти решил вдруг грузовик смастерить (колхоз как раз полуторку получил). Притащил из совхоза за восемь километров руль с железяками пуда на полтора весом, перепортил заготовленные на хозяйственные нужды доски. А когда Андрей учился уже в восьмом классе, Петр Данилович сам предложил ему помощь в написании сочинения по роману А. С. Пушкина «Евгений Онегин». «В стихах напишем, сынок, – сказал он Андрею. – Пушкин роман целый написал, а мы сочинение…»
Настигали часто думки и совсем уже грустные. Всего перепробовал Казанцев за последние недели. Но горе – оно такое: от него и не убежишь, и не спрячешься.
Люди по-прежнему тянулись к Казанцеву за словом, но он часто сводил разговор на что-нибудь пустяковое, постороннее. И как-то так получалось, что и со старухой своей они делили горе молча. Сидели рядом, думали об одном и том же и тяжко молчали. Старуха ждала ободряющего слова, а оно, это слово, всякий раз застревало в горле, потому что ничего доброго вокруг не было. Особенно после одного случая Казанцев стал еще молчаливее и сдержаннее.
Как-то короткой июльской ночью Казанцев вышел на стук в окно во двор, и высокий, надежного сложения, небритый военный вручил ему тяжелый сверток. Сначала военный подробно расспрашивал про хутора у Дона, о переправах, немцах, итальянцах, семье. Узнал о сыновьях Казанцева, потом только извлек из-под гимнастерки этот сверток. В темноте на крупном зачерствелом в скитаниях лице блеснули воспаленные глаза. «Знамя полка. Из-под самого Харькова несу, отец. Сейчас опасно. Пропасть могу. А ему пропадать нельзя. Жив буду – сам вайду; нет – предъявишь старшему начальству, как вернемся». Зоревой ветер встревожил вишенник в саду. За древними курганами багровело небо – всходила поздняя луна.
В ту же ночь Казанцев, не разворачивая, закопал сверток в курнике.
В поле теперь работали по часам. Выходили в шесть-семь, шабашили тоже в шесть-семь. Сегодня по случаю надвигающегося дождя вернулись пораньше. Сизо-черная ладонь тучи с белым подбоем по краям укрыла уже полнеба. Потемнело, поднялся ветер.
Петр Данилович сидел у раскрытой двери сарая, встал, закрыл дверь, чтоб не задувало.
– Я, мать, должно, наберу оклунок да схожу на мельницу.
– У нас еще раза на два наберется испечь. – Филипповна обернулась от подслеповатого оконца в глиняной стене, где на вбитых в землю кольях был устроен обеденный стол.
– Смолоть, пока возможность. Сама знаешь, какое молотье зараз.
Наспех оборудованная мельница в скотном базу стала для черкасян чем-то вроде клуба, где можно было узнать самые свежие новости. Молоть теперь не возили, а приносили в оклунках, торбочках. Опасались немцев, которые не брезговали ничем и частенько обирали помольцев.
– Валяй сюда, Данилыч, – окликнул Казанцева краснорожий чернобородый знакомец с Хоперского. Сбил на затылок облезлый треух, достал кисет. – Власть у нас строгая зараз, не раскуришься. Чуть чего – норовит шлепнуть. Какие новости? – Косоватый глаз из-под малахая хитровато прижмурился, ожидая.
– Я здорово не прислушиваюсь сегодня, – сказал Казанцев, присаживаясь рядом со знакомцем и беря в руки протянутый кисет.
– А я слушаю. – Знакомец отвернулся, высморкался, вытер пальцы о полу пиджака. – На днях забегал мой квартирант Рудик-немец, или черт его как там. Под Сталинградом хватил, как Мартын мыла. По пальцам показывает – того нет, того нет: «Капут!» За голову схватился: «Папо, папо, Сталинград аллее капут!» Всем, значит, карачун. И показывает – земля горит. «Ой, папо, ой-ой-ой!» – Хоперец пыхнул дымом, прижмурился серьезно. – Слухать надо. Душа отходит. Заметил? Тальянцы потишали, добрее стали и на немцев – чертом. Чуть чего – про немцев: «О-о!» – и головой покачает. Нехорошо, мол, делают.
– Чего хорошего, – вмешался в разговор в замасленном ватнике, мелколицый, в жидкой бороденке, тоже, видимо, хоперец. – Зима в носу свербит.
– Тальянцы – какие из них солдаты, – махнул рукой знакомец. – Народ они квелый. На веселье – мастаки. Свояк из Филоново рассказывал. Сидят, сидят, в карты дуются, вскакивают в трусах – и к пушкам: «По Мамонам! По Мамонам!» Отстрелялись – и снова за карты. Убили не убили кого – не ломают головы.
– А какими они нас в газетах своих показывают! – Мелколицый утопил рыжевато-крапленые глаза в смешливом прищуре, покачал головой. – Наверное, ишо дореволюционные фотографии печатают. Тальянцы сами над ними смеются.
– Не завозно? – К кружку подсунулся рыжебородый васильевец. – Туды его в кочерыжку – на наших землях с оклунками.
– А ты что, кум, бороду отпустил? Да рыжая, в подпалинах. В попы собрался?
– Хе-хе. – Васильевец крутнул головой, усмехаясь, вытер кулаком рот. – У нас же церковь открыли. Ну, Андриан Федотыч, кузнец, огрядной такой мужчина, атаманского росту, и пригласил батюшку мать соборовать. Сам в хату пошел на мать взглянуть, а батюшку на крылечке оставил. И тут, как на грех, цепняк оторвался и на батюшку. Тому куда деваться – крестом и дюбнул. А рука у батюшки, видно, тяжелая, кобель не копырнулся даже.
– Крестом собаку убил? – изумилась баба.
– А то чем же, – задыхался сам от смеха васильевец. – А теперь вы, дуры, будете целовать тот крест.
– Оскоромился батюшка.
– Тай хай вин сказыця с тем крестом, проклятый, – заплавалась баба.
На смех выбеленные, они подошли от сусека с мукой. В широко разинутые воротца база по ту сторону яра желтело на солнце ржанище, темной полоской выделялась межа с обсеменившимися татарником, осотом, полынью. В щели под крышу затягивало горьковатой прелью мертвеющих полей.
– И жеребцы стоялые. Никакая власть на вас не действует, – кольнула взглядом разгоготавшихся мужиков Варвара Лещенкова, молодая солдатка, смелая и самостоятельная женщина. Красноармеец, какого она выручила из колонны пленных, жил у нее недолго. Выздоровел, поправился и исчез куда-то. Есть слух, будто он партизанит на Богучаровском шляху, а к Варваре приходит за харчами. Но о таких делах в хуторе громко не говорили.
Варвара присела рядом с мужиками, сняла с головы платок и, поправив волосы, выжидающе глянула на успевших отсмеяться мужиков.
– Попридавили задницами оклунки и довольны?
– А сегодня, Сидоровна, властя ругать нельзя. А то на шкворку и через перекладину.
– Мне можно, – сама себе разрешила Варвара. Одежка не скрывала ее дородности и женской привлекательности. В глазах мужиков забегали веселые огоньки. Варвара погасила их, сказав: – Да и что за жизнь, ежли у носа все время дуля.
Над крышей проревело, рвануло. От грохота посыпался птичий помет с балок и штукатурка со стен. Из мельницы выскочили. Над хутором низко-низко, чуть не задевая крыши, пронеслись два краснозвездных истребителя. К домам с криком бежали итальянцы.
– Вот они вояки!.. Макаронники!..
– Брали бы давно до рук, раз такие храбрые.
– Придет время – возьмем.
– Ох, дай-то бог ведром по жнитву, дождиком – по посеву!..
На мельнице повеселели. По углам голоса взвились до крика.
– А ты слыхал? – Знакомец зыркнул по сторонам, разгреб пальцами черную бороду, нагнувшись, подался к Казанцеву. – У Осетровки что-то там завязалось. Вторую неделю не затихает. Наши будто на этом берегу укрепились, в Красное Орехово, Гадючье уткнулись.
– Слух был. Их, слухов, зараз как репьев в собачьем хвосте. – Казанцев кашлянул, наклонился пониже.
– У немца под Сталинградом неуправка. А на итальянцев немец не дюже полагается. От Калитвы до Вешек – одни итальянцы, ниже – румыны, а сюда, за Калитвой и до Россоши, – венгры.
– В Галиевке и Перещепном немцы.
– Сколько их! Они все под Сталинградом. Чужаки в заслоне. Я так понимаю: у Гадючьего наши плацдарм держут… Зима наша будет.
Казанцев нетерпеливо шевельнул бровями-крыльями, засопел. Знакомец придвинулся вплотную:
– Как вспомню их, проклятых: летом пьяные, голые у колодца, по хутору, а тут же бабы, детишки. – С хлюпом потянул воздух носом, из угла глаза выкатилась и пробилась меж морщин, сквозь пыль мучную, заблестела на подбородке слеза. – Горланили: «Вольга, Вольга – немецка река!..» А-а… Волга – немецкая река. Як в оморочном сне…
– Нарвут шерсти из них.
– Под Сталинградом будто хвост прищемили им.
– Да вы, Казанцев, ячмень убрали? – стряхивая мучную пыль, от сусека подошел рыжебородый васильевец.
– В скирды поставили.
– Ас нашего пива не попробуют. – Васильевец тяжело опустился на ящик, потянул из кармана кисет. – На корню и зараз. Скотина вытолочила.
– Дурак! И-и, дурак! – махнул на него знакомец с Хоперского.
– Казанцев, очередь прозеваешь! – крикнул мирошник.
– Нам распоряжение – корову сдать с десятого двора, семьдесят штук овец, сало, яйца…
– Ну да, попервам кур сожрали, теперь яйца им давай… – Хоперец такое загнул в адрес немцев с их налогами на яйца, что мужики грохнули смехом, а женщины, отплевываясь и морщась, поотходили в сторону.
К вечеру дождь брызнул, прибил пыль. Полыхая зарницами, тучи ушли по-над Доном, неся над полями и немолочеными хлебами влагу, такую нужную озимым. Но озимых никто в этом году не сеял.
Казанцев, вернувшись с мельницы, поставил оклунок на скамеечку у двора, прислушался. С той стороны, откуда всходила луна, со стороны Осетровки, докатывался гул, будто огромные жернова перетирали что-то. Прошел патруль. Знакомый итальянец в каске выглядел чужим и строгим. Казанцев хлопнул ладонью по оклунку, выпустившему мучную пыль. Итальянец мотнул головой, залопотал что-то товарищу, и они пошли дальше. Казанцеву показалось, что и они поворачивали головы туда, где работали жернова.
Улицы хутора будто вымерли. Только эти двое в касках и с винтовками за плечами разбивали немоту и глушь предосеннего вечера. Сумно, моторошно – хоть кричи! Жизнь и днем шла суетливая, бестолковая, будто люди, веками жившие на этих землях, перезабыли вдруг все, растеряли все свои привычки и умения, не знали, куда девать свои силы и самих себя. Ночи же пугали темнотой, шорохами, безрадостными и неотвязными думками.
В линялой недоступной вышине неба ветер гнал над хутором табуны вспененных, обремененных влагой облаков. Под этими облаками почудился вдруг журавлиный клик.
Казанцев по-молодому вскинул оклунок на плечо, поправил, шагнул в калитку: «Брешете, проклятые! Не жить вам на этой земле, не топтать наши травы!..»
Натемно похлебали теплый постный кулеш. В сарае пахло сухими кизяками, перепрелой соломой. Но все перебивал дух степного разнотравья. Наверху, на сене, шелестели голосами Шура и инженерова дочка. Ольга Горелова часто бывала у Казанцевых. В июле она принесла слух, будто Андрея видели на этой стороне, в Галиевке. В разведку переплывали. Ходят такие слухи по хутору и сегодня. Только все их не переслушаешь: «Зараз кто как хоче, так и лопоче».
– Батя, можно, Оля у нас заночует? – Шура перевесилась через балку, смотрела вниз на отца.
– Мне как знаете. Дома не будут беспокоиться?
– Я сказала маме, – отозвалась инженерова дочка.
После ужина Казанцев вышел позатыкать дыры под застрехой сарая, чтоб не дуло. О брошенное посреди двора ведро вызванивал редкий дождь. Над Острыми Могилами крылом недобитой птицы трепыхались молнии. За этими молниями работали жернова. Гул их то замирал совсем, то прорезался яснее. Напрягшись, можно было различить даже отдельные толчки.
Часть вторая
Глава 1
1942 год разменял последнюю четверть. Теперь степь по ночам одевалась голубым сиянием. Красным волчьим глазом из-за обдонских бугров выкатывалась луна. Жухлая трава, плетни, лопухи по углам двора, колодезный журавель в ее скупом свете дымились курчавым каракулем инея.
Люди жили потаенной скрытой жизнью, вынашивая под сердцем надежды на перемены к лучшему.
Зима пришла неожиданно. Когда 14 ноября Петр Данилович вышел утром к корове, двор белел синевато и мягко. Ветви деревьев в саду прогибались под тяжестью хлопьев снега. Над сумеречным мерцанием яра зябко мигала одинокая звезда.
Петр Данилович постоял на порожках, потянул носом воздух, порадовался, как в прежние времена. Прошелся по двору, подобрал укрытую снегом лопату, отнес ее на погребицу, надергал ключкой из приклада соломы. Сено давно стравили итальянцы своим мулам.
Жили итальянцы в школе, правлении, а больше – по домам. У Лукерьи Куликовой потешный такой постоялец. На русского больно смахивает. Бабы Гаврилой прозвали его. На гармошке хорошо играет. Вечером соберутся у Лукерьи бабы, солдатки, девчата – он играет им. Женщины слушают, слушают его и плакать начнут. За войну отвыкли от песен, музыки, а тут еще немцы, итальянцы, свои неизвестно где. В свободное время Гаврила возился с Лукерьиными ребятишками. Снимет с себя через голову образок на тонкой цепочке, покажет Лукерье: «Молишься, мама?.. Молись, молись!» Доставал из кармана карточку детей. Четверо старшеньких с образками на шее и жена с гладко причесанными волосами. Тоже похожая на русскую.
«Бурунчуки, бурунчуки!»– тыкал пальцем Гаврила в фотографии и затуманенным взором смотрел на разнокалиберных Лукерьиных детишек: «Папо фронт. Война, война!..» Иной раз приносил детишкам по куску пресной галеты, а Лукерья наливала ему глиняную чашку щей.
Длинными предзимними вечерами итальянцы играли в карты, приглашали или силком затягивали к себе девчат, кого-нибудь из парней с балалайкой, устраивали «руськи посидушка». На одной из таких посидушек у Казанцевых Шура стала читать им Пушкина. Итальянцы смеялись, вырывали у нее из рук книжку.
Под застрехой вздыхал и ворочался ветер, хлопали голызины веток в саду за глиняной стеной, боязливо жалась к стеклам окон крутая, как осенняя грязь, темнота.
Но вот уж близко. Перед ними
Уж белокаменной Москвы,
Как жар, крестами золотыми
Горят старинные главы.
Ах, братцы! как я был доволен,
Когда церквей и колоколен…
– Москва капут! – дурашливо оборвал чтение курчавый с бараньими глазами постоялец Казанцевых Марчелло-Мартын и выхватил книжку.
Руки Шуры, дрожа, упали на колени. По неподвижному лицу ее градом покатились слезы. Итальянцы тоже неловко замолчали. Мартын положил книжку на стол.
– Тикайте, пока холода не прихватили вас. – На кухне заскрипела кровать, и на итальянцев глянули строгие, налитые во впадинах чернью теней скорбные глаза Филипповны. Петр Данилович только зубами скрипнул (лежал на кровати, ворочался – мучился без сна) и потянул на голову полу кожуха.
Мартын вздрогнул от скрипучего голоса Филипповны, зябко передернул плечами. Общительный и ловкий, он довольно свободно лопотал на смеси украинского с русским.
Кормили итальянцев плохо. У немцев было все: и консервы разные, и хлеб, и масло, и приварок, и грабили они больше итальянцев. Брали что на глаза попадало. Вверх дном все ставили. А этим – в полдень полкотелка макарон, а утром и вечером «кава» – кофе, значит, да галета черствая, пресная. Пока в огородах были разные овощи, а в садах – фрукты, итальянцы держались. А с холодами они стали ходить по домам, меняли на хлеб мыло, рубашки, ботинки. С холодами итальянцы приуныли. Летом и они, и немцы смеялись: «Москва капут, Ленинград капут, Сталинград капут!» На губных гармошках играли, песни пели. Теперь и те, и другие тихомолком кляли Гитлера и Муссолини: «Гитлер, Муссолино – кукуруза!» – и вертели пальцем у виска.
Как-то утром Мартын показал Петру Даниловичу советскую листовку (по ночам их частенько разбрасывали с самолетов). Петр Данилович вопросительно посмотрел на листовку, на Мартына.
– Муссолино, Гитлер – инзоцаре, мерда! Дерьмо! – На небритом лице Мартына синевато блеснули зубы. – Сталинград! – Он закрыл глаза и схватился руками за голову…
Кусочки медленно и томительно-нудно уходящей жизни снеговой круговертью мельтешили перед глазами Казанцева, сшивались в безрадостный серый холст, пока не окликнула его Филипповна:
– Ты, никак, уснул тут, дед? – Филипповна выплеснула на свежо пахнущий снег помои, бросила ведро к запушенному кусту смородины. – Я думала, ты и корову попоил уже.
Петр Данилович как-то зачужало-странно глянул на Филипповну, поднял вязанку приготовленного корма и пошел в сарай.
Корова встретила Казанцева жалобным мычанием. Обнюхала брошенную в ясли солому, повернулась к Петру Даниловичу, обдала теплым дыханием.
– Не нравится? – Петр Данилович отвел слюнявую морду, вздохнул. – Благодари бога, что живая. От многих подруг твоих и копыт не осталось: итальянцы да немцы слопали, а тебя все бог милует.
Корова, должно быть, согласилась: жива, и на том спасибо. Разгребла мордой в яслях, захрустела нахолодавшей соломой, а Казанцев взял вилы, стал вычищать навоз.
– Подтопки взять. Опять картохи требуют, – застряла в дверях сарая Филипповна.
– Да вари, нехай трескают. – Петр Данилович переложил вилы в левую руку, высморкался. – Санька встала?
– Спит шло.
– Ты вот что… – Петр Данилович шевельнул куцыми бровями, глянул строго на Филипповну: – Скажи ей: ежели еще раз увижу вечером у итальянцев – закатаю.
– Да ты что, отец, Христос с тобою. Когда она ходила к ним.
– А третьего дня с Шалимовой да Стрелкиной. Эти суки как хотят. А я не хочу потом перед своими глазами хлопать. Так и скажи: закатаю, убью, и точка.
Филипповна глянула робко на широкие в кости, в бугристых узлах вен руки старика, поверила: убьет. Набрала в запол поджижки, заправила печь кизяками. Теперь они все жили на кухне, итальянцы – в горнице. Загадили, прости господи, нос не навернешь. В углу на ночь ставили ведро, а утром: «Матка, убирай!» Жеребцы бессовестные.
На скрежет чугунов по кирпичному поду печи выглянул лохматый Марчелло-Мартын. Залопотал бойко.
– Картохи? – повернулась от печи на его лопотанье Филипповна.
– Так, так. Картохи, мама, – белозубо оскалился Мартын и зябко поежился. – Холодно…
Филипповна наклонилась к печи, передвинула ухватом чугуны.
– Обезьяна и только, прости господи!
– А Шура и где?
– Шура спит, Мартын. – Филипповна распрямила спину, поправила концы платка и, глядя прямо в глаза Мартыну, продолжила: – Папа сказал: Шура – итальянцы и папа Шуру – капут.
– О-о! – выпучил глаза Мартын.
В хату вошел Петр Данилович, и Мартын, собрав в морщины черную рожу, исчез.
– На бригаду пойду зараз.
– Что там делать, на бригаде?
– Немцы овец понагнали черт-те откуда. Нагнали немцы, а кормить нам. Скотиняка не виновата. – Повесил на гвоздь фуфайку, малахай, пригладил ладонью, пахнущей навозом, вихры вокруг лысины. – Шуре скажи: вечером за снопами на салазках поедем.
– Хай им черт, снопам этим. Беды не оберешься с ними. Варвару Лещенкову, слыхал, батогами стегали за них.
– Не пропадать же корове. Соломы на месяц от силы. – Насупившись, помогая себе руками, Казанцев посунулся за стол. – Что там у тебя поесть?..
В бригадной избе дымили самосадом Воронов, Галич, Паша́ и еще несколько стариков и подростков с того конца хутора.
– Немцы на Россошь овец приказывают гнать, – встретил новостью Воронов.
– А мне хоть на Воронеж, – с ходу чертыхнулся Казанцев. Снял рукавицу, отодрал сосульки с усов. Умные глаза щурились на всех из морщин. – Из меня чабан хреновый зараз.
– Сами обтрескались, в Германию везут теперь.
– А они везли и не переставали. Овцы вакуированные, мороженые, в чахотке все. Новых заводить нужно.
– На завод у них свои есть, а энтих на мясу.
– Пуп треснет – мяса-то столько.
– С голоду скорее треснет. Прикажут – погонишь: куды денешься.
– Ну я им не бычок на оборочке.
– В Мамонах наши силы копят. Слыхали?
– На каждый роток не накинешь платок. – Казанцев прижал Галича взглядом в угол.
– А ты, паразит, что уши развесил? Крутишься тут, как вор на ярмарке, – понял Галич Казанцева и зыкнул на Гришку Черногуза в новой заячьей шапке и грязной повязке на рукаве. – Иди яйца собирай на немцев. Как у тебя глаза не полопаются у проклятого?! – Галич притоптал цигарку, повернулся к мужикам. – Приходит, о тебя, грит, три сотни, яиц да сало. Я ему: итальянцы да немцы, мол, кур стрескали, а баба моя не несет яиц. А сала на мне, говорю, как на коту мартовском. Забирай. А он, сучий сын, не хочет, карабинкой в морду тычет. Я те, грю, так ткну зараз, что инженер Горелов с Раичем за неделю не соберут.
– Один гайки будет закручивать, а другой считать, – тыкнули от двери.
– Это ихнее дело. – Галич вновь достал из кармана кисет. Гришка кашлянул в кулак, потянулся к кисету. Прижженные морозом монгольские скулы Галича блеснули матово, усмешливо скосил глаз на Гришку. – С длинной рукой под церкву. Ты теперь хоть и подлюшная, а власть. Свой иметь должен.
Гришка проглотил обиду, оглядел всех исподлобья, ближе придвинул карабин.
– Горелов болеет все, – разминая бороду в кулаке, сказал старик Воронов. – Никуда не вмешивается. В мастерских Ахлюстин всему голова.
– В три горла жрет – не нажрется.
– После того как немцы поправили ему салазки в мастерских, бухгалтер притих, верно.
– Говорят, сын у него под Сталинградом отличился. Героя присвоили.
– Слых был. В газетке будто пропечатано. Газетка с той стороны, из-за Дона. И мне разок попала в руки.
– Все может быть.
Набухшая дверь хлопнула, впустив Алешку Таврова и тугой клубок морозного пара.
– Володьку Лихарева взяли, – сказал Алешка, отопывая валенки у порога, и снял шапку.
– О господи! Что он натворил там опять?
– Газеты нашли у него из-за Дона, гранаты и ключи от итальянских машин.
– Отчаюга парень. Сломает он себе башку.
– Будешь отчаюгой. Отца забрали, и ни слуху ни духу.
– В Богучар уже увезли. Сам видел.
– Ну там немцы решку наведут ему скоро.
– Вот, туды его мать, жизнь пошла. – Воронов нагнулся к низкому окошку, глянул во двор. – Правитель наш идет, Раич. За кормами овцам посылать будет.
* * *
Степь под снегом выглядела покинутой. Мертво шелестели оледенелые бурьяны под ветром. Рядами чернела неубранная былка кукурузы и подсолнуха. Сиротливо горбились копны тоже неубранного хлеба. И дымы хутора издали тоже казались чужими и ненужными.
– Солома старая. Новых скирд не наготовили, едят его мухи. Вот какие мы хозяева. – Галич приставил вилы к ноге, поправил шапку.
– Хозяева такие. – Казанцев тоже воткнул вилы в солому, как и Галич, скрестил ладони на черене и уперся в них подбородком. В заснеженном поле стояла глубокая и пронзительная тишина. Казанцев попробовал было вслушаться в эту тишину. Но чем больше он напрягался, тем сильнее становился звон в ушах, и ничего не было слышно. – Хозяева мы такие, – повторил Казанцев, – следует знать, что нам нужно.
– Aral Нам, а не тальянцам?
– Нам, нам… Я так думаю: пора прикидывать, как своих хлебом кормить. Кубань, Дон в самую страдную пору под немца попали.
Старик Воронов повертел тощей, посиневшей на холоде шеей в вороте полушубка, тоже воткнул вилы в солому.
– Бросай к черту с соломой. Давайте покурим.
Над немолочеными крестцами пшеницы, будя предзимнюю тишину, пролетел грач. Свежий пахучий снег заставлял жмуриться.
– Ты что-то там про Мамоны начал на бригаде, – напомнил Казанцев, раздвигая спиною солому и ища затишок.
Галич накинул на себя полушубок, поправил его движением плечей, тоже поудобнее и поглубже зарылся в солому.
– Позавчера у меня свояк ночевал. Правился на хутор Покровский к брату, а живет в Гадючьем. Рассказывал: неделю назад в Мамоне был, так будто переселяют мамонцев в Переволошное, Журавлев и другие хутора от Дона подальше. А в самих Мамонах, грит, сибирские полки стоят. Техники, мол, плюнуть некуда. Там же километра полтора-два лес по-над Доном… Ждут, пока сало пройдет.
– Шустрый свояк у тебя: туда-сюда через фронт. – Ветер выбивал слезы, и старик Воронов завозился, прикрываясь воротником шубы.
– Да там такой распрочерт – никакая сила не удержит, – сморщил затвердевшие от холода губы Галич.
– Про Мамоны в хуторе поосторожнее, Селиверстыч, – предупредил Казанцев и с горечью подумал при этом, как часто люди обмениваются слухами, а не мыслями. Проще, безопаснее.
* * *
На другое утро привезли Володю Лихарева из Богучара.
Мороз на ночь отпустил. С крыш зачастила весенняя звонкая капель. Солнце весело играло в лужах у порога, ослепительно резало глаза снегом. Солдаты, как и вчера, когда тревога выжила их из теплых хат на мороз, выглядели отчужденными и алыми. Они сгоняли черкасян на выгон. Посреди загона пугающе чернела перекладина на столбах с веревкою посредине. Черкасяне всю ночь прислушивались к стуку топоров и скрежету лопат, а наутро увидели эти страшные ворота. Вокруг виселицы квадратом, лицом к хуторянам, стояли солдаты с карабинами.
Из правления колхоза, где был штаб итальянцев, вышла группа офицеров. Впереди шел немец в очках, шинели с меховым воротником и в фуражке с такой высокой тульей, что сухонькое, с кулак, лицо его было почти незаметно. За немцем выступали итальянцы. Последним процессию замыкал Раич. Высокий, худой, в собачьей дохе выше колен он прятался за спины щуплых итальянцев, старался не смотреть на хуторян.
Тут же подошла машина. В кузове с откинутыми бортами стоял Володя. Черкасяне узнали его с трудом: похудел, вытянулся за одну ночь. Пальто и шапки на нем не было. Лицо синело кровоподтеками, левый глаз заплыл совсем. При остановке машины Володя качнулся, но удержался на ногах. На груди его болталась фанерка с надписью «Бандит-партизан».
– Молчать, слюшать всем! – закричал переводчик-немец, хотя на выгоне царила гробовая тишина. Слышно было, как пофыркивает мотор машины, на которой стоял Володя.
Переводчик стал читать бумагу, выкрикивая особо громко в отдельных местах. Но люди его не слушали, смотрели на Володю и страшные, грубо оструганные ворота. Никто не мог, не хотел верить, что это для него. Не верила этому и мать Володи. Она стояла возле Варвары Лещенковой, прижимала к себе двух младших. Зимнее солнце било в глаза ей, но она с какой-то истовостью смотрела на сына не жмурясь.
Переводчик кончил читать. На площадку грузовика вскочил привезенный из Богучара немец-солдат, и грузовик стал медленно пятиться задом под ворота. Чтобы не сбить столбы, из кабины «фиата» выглядывал хорошо знакомый хуторянам Марчелло-Мартын.
– А-а! – прорезал жуткую тишину животный крик.
Осторожное поталкивание машины под ворота и испуганные глаза солдата в кабине вывели Лихареву из оцепенения. Бросив маленьких, она рванулась вперед, подстреленной птицей забилась на молодом снегу. Ее подняли, схватили за руки.







