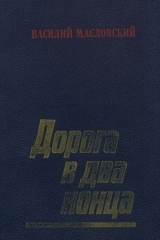
Текст книги "Дорога в два конца"
Автор книги: Василий Масловский
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 24 (всего у книги 32 страниц)
Глава 5
Летняя пора настигает одна другую. Хлебороб в этой гонке поспевал с трудом и раньше, теперь особенно. Кончился сев, поднимались травы, начинались покосы, силосование. А на буграх уже выкидывал колос ячмень, восково желтела пшеница – спела жатва. На прополку рук не хватало, и земли плодили осот, сурепку, молочай, лебеду. Не забывали и свое хозяйство. На него вся надежда: в колхозе писали одни палочки. Жаловаться не жаловались, понимали, что к чему, но жили трудно, голодно.
Лето выдалось сухое, жаркое. Майские дожди подняли хлеба, подмолодили картошку в июне и заглохли. Уже с утра горизонт обкладывали легкие, летучие тучки, сторожили солнце, прицеливаясь, с какой стороны накрыть его лучше, но близко подходить опасались, грудились бледно-голубыми глыбами по краям. Над дорогами волнистым жаром мерцал раскаленный воздух; хутора, балки затягивало текучее марево. Только курганы высились над его мглистым блеском. В широких развилках логов оседала и отстаивалась густая синь.
Черкасяне любовались полями, радовались и сокрушались.
– По такому году да по нашим силам технику бы сюда.
– Она и какая есть плачет оттого, что ума нет.
– Нет, так где ж ты его возьмешь?
– Девчатишки. Что взять с них? Калмыков Михаил – от то мужик был. Крепкий…
– Эге ж…
– А что, правду кажуть, будто Хоперку к нам припрягают?
– Все одно что бабу с чертом спаровать.
– У них тягловой силы – баба Алаторцева. Андриан Николаевич произвел их до ума. – Галич огладил вислые усы, покачал головой, хмыкнул. – Балакают, Юрин на бюро райкома вызвал его. Он же какой… У бабы Катри кизяки конем потоптал. Кличет ее на работу, а она с кизяками возится. Он и пошел конем потоптом по ним. А у Соловьихи чугун с борщом перевернул… «Что ты возишься с ним, проклятая?! Иди в поле. Я тебе пшеницы лучше дам».
– Гнедой – председатель по нужде.
– Он и Казанцев по нужде.
– За Казанцевых ты-ы, едят тебя мухи! – Галич погрозил пальцем, лизнул обсосок уса. – Ты за них не балакай. Они природные все. Жила в них особая. Липучие, как черти, до всего. Не он с его башкой – нас бы куры давно заклевали.
Дохнуло жаром. Горячий ветер сгребал с косогоров зной и пыль, кидал их на хутор. Воробьи, обессиленно распустив крылья, лежали в дорожной пыли напротив плотницкой.
Воронов снял картуз, потер ладонью красный след от околыша, прищурился на яр.
– Скоро и хлеба косить.
– Да сегодня какое число?
– Двадцать третье по старому.
– Пятое июля, значит.
Протарахтели колеса. У плотницкой остановилась телега с досками, запряженная итальянским мулом. С передка спрыгнул Сенька Куликов. Сунул кнут под сиденье, глянул на мужиков, доски, мула.
– Ну что, привыкает к колхозной жизни мула, едят его мухи? – кинул косой взгляд на животное Галич. Монгольские скулы его лучились смехом, блестели медно.
– Привыкает, – по-мужицки лениво ответил Семка, поддернул армейские штаны, оттопал пыль с кованных железом альпийских ботинок и подсел к мужикам на бревна. – Куда их, доски?
– Посиди, занесем.
– Да твой батька где зараз?
– Последнее письмо из-под Курска где-то… не то Боянь, не то Прохоровка.
– Ну да, оно ж нельзя и писать точно… Человек военный.
Воронов бормотнул что-то во сне, вздрогнул, опираясь ладонями о колени, встал, пошаркал к телеге.
* * *
Бабы с чистиками-секачами выходили из пшеницы, усаживались в тени кустов боярышника, доставали узелки с едой. Ольга Горелова села вместе с Филипповной. Филипповна расстелила завеску, выложила на нее молодую картошку, малосольные морщеные огурцы, кукурузные лепешки.
– Тут недалеко в балке родничок есть, дочка. Сбегай, ополосни руки и мне зачерпнешь в бутылочку. В баклаге степлилась. – Филипповна черными от осота руками поддернула, затягивая, концы платка на голове, накрыла еду тряпочкой. – Я подожду.
– В невестки обхаживаешь, Филипповна? – Лещенкова кольнула взглядом развеселых глаз, вышатала кукурузный початок из бутылки с молоком, стала полдничать.
– Обхаживают корову, а Ольга – девка стоящая, – вступилась баба Ворониха.
– После войны этого добра хватит, – вздохнула Дарья Мишки Крутяка, бабенка внешне неприметная, но удалая и бойкая. – Любая в примы возьмет.
– А ты знаешь, как в примаках привыкают?.. И курам ногти чистить, и кота три года на «вы» называть. А то скажет – я хозяина в дом брала. Самой, мол, лучше, без хлопот. Пустила, переспала, и ни стирки, ни жратву варить ему. Как говорится – зад об зад, и кто дальше. – Болезненно полный Тимофей Калмыков с сочным хрустом прожевал луковицу, запил из баклажки Квасом, закончил одышливо: – Примак – не хозяин.
– А ты не забыл, как твой братуха с дрыном гонялся за тестем вокруг хаты, заставлял кричать: «Хозяйство Сережкино!»
– Правильно и сделал Сережка. – Выпученные бараньи глаза Тимофея округлились, вспотели от перехвата в горле. – Он же, гад, и козе хвост заставлял расчесывать.
– Ну и что ж, кричал тесть?
– Куда денешься. Глаза на лоб, Сережка вот-вот настигает… Как сто бабок пошептало с тех пор.
– Эх-х, и чего только этой бедной бабе не достается. – Бесстыжие разящие глаза Лещенковой оценивающе обмерили тушистого Калмыкова, поскучнели. – Вот и ты мужик, Тимошка, а какой толк в тебе?
– У него своя баба ногами мелко перебирав.
– Будет, срамницы, – остановила разгоревшихся баб Ворониха.
За кустами в ярочке хрустнула ветка, показалась Ольга Горелова. Подошла, придерживая на коленях подол платья, села у завески Филипповны. Перемены, особенно после отпуска Андрея, произошли в ней разительные. Загрубела лицом, закрутела, раздалась, вся ядренее и зрелее стала. С тревогой и любопытством прислушивалась она сама к себе. На распутье ступала: и о девичьей порой не распрощалась и бабья пока не приспела. Приходили на побывку раненые человека два-три из молодых, приударяли за ней, не давала покоя и доармейская молодежь. Она как не замечала никого из них.
Ранней весной она скороспело закончила десять классов. Отец посылал в Тбилиси на учебу. У него там родня дальняя. Отказалась наотрез: «Не время!» Села на трактор и всю посевную отработала на тракторе. Большую часть времени проводила у Казанцевых. Сдружилась с Шурой, старикам давно пришлась по нраву. На работу в поле ходила с Филипповной. Письма из армии шли с перерывами. Особенно напугало и обрадовало письмо Виктора, где он писал, что нашел Андрея, но свидеться сразу не довелось: Андрей ходил в разведку в тыл к немцам. Вернулись из этой разведки всего двое. Андрей двое суток отсиживался в волчьей яме, на третьи, ночью, переплыл Донец.
«Виделись мы после того через неделю, – писал Виктор. – С виду и веселый вроде, а точит тоска его. И понял я, что махнул он на все рукой и лезет что ни на есть куда погорячее. «На страх, мол, не нажмуришься». Оно-то так на войне, а все ж пропишите ему, нехай сдуру не кидается…»
Андрей в своих письмах вспоминал апрель – май, вынужденный отпуск свой. О службе скупо. И ни слова о будущем. Под сердцем холодило от таких писем. Бессонными ночами грызла углы подушек, ловила шепоты по углам. Не будет больше ни ломающих косточки объятий, ни захватывающих дух поцелуев, ни горячих, сильных рук его, от которых все замирало в ней и сердце падало куда-то в пропасть… Ничего не будет больше!..
Вчера в газетах сообщили, что под Курском идут страшные бои. Газеты опаздывают на четыре-пять дней.
Что там сейчас, вот в эти минуты? Этими думками, должно быть, и были заняты все. Игривая перепалка, затеянная Лещенковой, утихла. Приморенные зноем и думами, ели лениво, безаппетитно.
– Опогодилось как, – прервал общее молчание Тимофей Калмыков, сыто облизывая ложку. Ему жена каждый день давала в поле двухлитровый кувшин борща и солдатский котелок толченой картошки с луком. – На уборку в самый раз.
– Он и бог зараз малость придурковатым стал. Его просят, посылай дождик туда, где земля черна, а он посылав туда, где был и вчера, – пожаловалась баба Ворониха.
– Забалакала ты, Павловна, я и вспомнила, – встрепенулась Лукерья Куликова. – Вечером надбегу к тебе, нехай Севастьяныч какую ни есть мельничку сделает. Кукурузу на кондер драть нечем. Семка склепал, да что-то не то.
– Надбеги, надбеги, голубушка. – Сухое бурое лицо Воронихи собралось морщинами, покачала головой. – Ох, дед – враг мой. Сил нетути уже, а не получается, так аж затрясется иной раз.
Убрав посуду в сумки, женщины устраивались в кустах вздремнуть. Лицо от мух прикрыли кто платком, кто завеской. Мухи перекинулись на голые ноги и руки. Так и мучились короткий час, а потом разобрали чистики и снова пошли рубать осот.
«Чап-чап-чап» – сочно выговаривали секачи-чистики. В такт им шерухтели из итальянских плащ-палаток юбки на женщинах. Редко какая баба на хуторе имела матерчатую юбку, а то из плащ-палаток. Ноские. Пока привыкли к их жесткому шороху, сами себя боялись, оглядывались.
Ольга старалась не отставать. Работала наравне со всеми в поле с сева, но все равно у нее не было еще той привычки, сноровки, какие были у остальных. Саднили разбитые руки, ныли плечи, звенела укутанная в платок от зноя голова. Жила воспоминаниями, прошлым. Они были яркими, эти воспоминания, не тускнели. Но все прежнее выглядело уже не таким, каким оно было тогда. Сейчас оно было другим, постарело вместе с нею. Чаще остального вспоминалась побывка Андрея. Она не боялась последней грани. Задыхаясь, в последнее мгновение, мучительно растерянный и злой, будто опомнившись, останавливался он. И тогда голова его была занята другим, и тогда не отпускала его Она. Что скрывалось за этим «Она», Ольга и сама не знала толком, но что-то страшное, жестокое и безжалостное, то, где он был и сейчас. И все же Ольга жила постоянным ожиданием счастья, жила словно накануне чего-то.
– Круче, доченька, чистик держи, – подсказывала Филипповна. – Вот так, так.
Прошлась по ее полосе сама.
– Зачем вы, не надо. – Ольга любила мать Андрея и боялась ее.
Боялась ее доступности, грустноватых, умных, все понимающих и все знающих глаз. Не знала, как говорить с ней. «Мама», как это делали хуторские невестки, – не имела права, по имени-отчеству – не принято, и сама выбрала среднее – «вы», от которого ее постоянно заливало краской стыда и неловкости.
– Ты, Ильинична, – женщины иной раз Ольгу называли по отчеству, напоминая, что она чужачка в их работе, – берись за все двумя руками. Привыкай доразу. Нехай работа тебя боится, а не ты ее. На удалуху и у нас наскочишь – борща не сварит.
– Они с Андрюхой в столовке будут есть.
– Опять ты, Варька, за свое!
– Да что ж и они будут жить по-нашему? И у нее бабий век наш будет?.. Тогда и воевать не стоит. Сегодня же напишу своему – нехай кончав, туды ее…
– Тю, сдурела!
– А ты спроси Павловну аль Филипповну: чем бабья доля переменилась? – разошлась Лещенкова.
– Что ж, за баб тольки и воюют? – Филипповна поймала за махорчатую синюю головку бодяка, срубила его и отбросила назад. – Кажись, и зараз воли у бабы хватает.
– Погоришь ты, Варвара, за язык…
Зашли на целину. Горячий ветер расчесывал, делил серебряные пряди ковыля, как по воде, гнал по нему рябь. Между балками пробежала косая тень облака, на миг переменила степь. Над балкой парил степной подорлик, пониже кругами ходили коршуны.
– Вот кому житуха! – Сквозь дым цигарки сощурился на птиц Калмыков. – Недаром мужик все в казаки просился.
– Да, Мандрычихина родила, не слышали?
– Она ж ходила – ничего не видно вроде.
– Родила. Муж на побывку приходил, приголубил.
– А не немчонок? Ее таскали летом в сады. Кричала…
– Молчи, непутевая! Человека родила. На весь хутор хоть один дитенок, а то и голос позабыли их.
Переполошила всех Дарья Крутяк. Она бежала из балки, спотыкалась, падала.
– Рука! Рука!..
Побежали к ней. Заикаясь и захлебываясь, повела к теклине вниз. В промоине, обметанная паутиной корешков, из суглинка торчала кость. На ней висели фаланги пальцев. Большой и соседние два – в щепоть, как для молитвы сложены. Вода и песок обмыли их, отшлифовали, выкрасили в желтый цвет.
– Тальянец. Должно, зимой замело где-нибудь, а зараз вымыло.
– А как наш?
– Наши не молятся, а этот, видишь…
– Тьфу, господи, спаси, Христос, меня, грешницу. – Баба Ворониха истово и торопливо перекрестилась. – У тебя, Варвара, одно греховное на языке. Наши-то рази нехристи какие!
– Несите чистик, бабы. – Тимофей спрыгнул в теклину, притронулся к кости, фаланги рассыпались.
– Да не тронь ты его, господи!
– Тут оставить?
Принесли чистик. Тимофей полапал у руки, по сторонам – пусто.
– И земля цельная. Не видишь?
– Похоронить бы все же.
– А что ты хоронить будешь. Его сама земля похоронила уже.
* * *
– Эх! Хозяин из тебя, Тимошка. Коту хвоста узлом не завяжешь.
– Все жиреет да думает, кто б еще брюхо ему поглаживал.
– Заводи вороную. Вот так!..
У конюшен стояли три запряженные конями лобогрейки и немецкая сноповязалка с мулами. У колодца кричали и дымили мужики. Женщины-вязальщицы сидели на бревнах у бригадной избы и тоже лаялись и ладились, хотя все уже давно, недели за две, было решено – и кто с кем, и кто за кем, и кто на чем.
– Крутяка на мулу посади, Данилыч!.. Да какой он больной, едят его мухи! – Галич, не выпуская вил-тройчат из рук, почесал пониже спины, прокашлялся. – С речки не вылезае. У него и стерляди, и осетры. Вчерась при мне сазана на пуд вынул. Какая ж к черту ему работа на ум пойдет.
– Правда, Данилыч. – Обливаясь потом, Тимофей Калмыков потеснил плечом Галича. – У него и сети, у него и самоловы сотни на полторы крючков. Мы тоже не дурее его. Утром вынул улов – и на базар… Надысь мне стерляди ломоть соленой наделил… Детишки аж передрались за нее.
– У Крутяка деньги́ зараз: вдарь – на медяки рассыплется.
– Лепи подороже – серебром.
Выехали в поле часам к восьми. Первый день такой уж.
Уломали и Мишку Крутяка. Не пойдет, мол, снасти в колхоз, а самого с осетрины на кукурузный кондер посадить: «Нехай тальянскую мулу поводит. Загребтится – укорот сделаем…»
С бугра увидели васильевцев и хоперцев. Каждый на своем яру. Впереди хоперских лобогреек красовался всадник со знаменем.
– Андриан Николаевич выкомаривает.
– Иного размаху человек.
– С его размахом – с сумой под окнами. Это он зараз герой и на конике.
За Максимкиным яром косилки и жнецы свернули на целину, остановились перед желтым разливом созревшей пшеницы. Пшеница шепталась доверчиво и ласково, протягивала колосья. Петр Данилович сорвал один, размял, пересчитал зерна. Двадцать восемь. Попробовал другой – сорок два. Сердце зашлось в радостном перестуке. Поднял голову – степь тепло дымилась. Оглянулся назад. Курган Трех Братьев застыл в мудро-задумчивой ухмылке. «Что будешь делать, Казанцев? Справишься?» – будто спрашивал он. Он-то знал, что предстояло Казанцеву. Недаром столько веков назирал он эти степи, знал всю их жизнь. «Справлюсь, – мысленно ответил ему Казанцев. Оглянулся на притихших хуторян. Глаза застлала туманная дымка прихлынувших слез. – Надо!» Выпустил вышелушенные зерна из ладони, отдал их полю. Всей грудью вдохнул пряный запах отмякшей по росе полыни, кивнул.
– В добрый час. Становитесь по загонкам. Давайте, девчатки, – поклонился женщинам-вязальщицам.
– Господи, поможи!
– По-людски сбрасывай, дядя Тимош!
– Зоренька, Олюшка, за дядей Петром…
– Покрой голову, шалава! Кондрашка хватит!
– Становись!..
Суетливо-радостно задвигались, заговорили мужики, бабы. Казанцев влез на полок, опробовал сиденье, вилы, украдкой перекрестился, кивнул погонычу:
– С богом, Семен Трофимыч!
Семка Куликов подобрал вожжи, чмокнул губами. Лошади дружно взяли с места. Весело застрекотала косилка, с покорным шелестом колос к колосу ложилась на полок пшеница. Засвистели по железу вилы-тройчата, сгребая ее в валок. Вязальщицы шли, отсчитывая свою долю. Последней нагнулась над валком Ольга. Казанцев ободряюще улыбнулся ей, сам не замечая, сбрасывал для нее аккуратнее, чем другим. И подбивать по срезу не нужно. За Ольгой встала Лещенкова. Напрашивалась и Филипповна, да какая из нее вязальщица уже.
На втором круге Петр Данилович заметил, что Ольга отстает и Лещенкова прибавила себе на два снопа из ее делянки.
После трех кругов плечи одеревенели, облитая потом грудь чесалась, в висках чугунным звоном отдавались удары сердца. Лошади тоже заметно потемнели от пота, серели от пыли и остьев. Посвистывали погонычи, посвистывали суслики, в выцветшем небе кругами парили коршуны, на месте стояли кобчики. Степь жила своей, выверенной и привычной, жизнью. Петр Данилович несколько раз оглядывался на курган. Зной набросил на него дрожащее покрывало. Казалось, курган поднимается, дышит. «Ну как?» – спрашивал у него Казанцев. Курган мудро в ответ усмехался, дергая покрывало на своих пологих скатах: «Молодец, Казанцев! – Вздыхал и добавлял угрюмо: – Всякое довелось мне перевидать. Ты еще и неплохо справляешься!»
Перекуры делали, ориентируясь на баб. Им труднее всего приходилось. Попробуй, не разгибая спины, да еще на такой жаре: свежая стерня ноги колет, а духовитый сноп обдает тебя веленью и остьями.
На первый перерыв Ольга не покинула свою делянку. По совету Варвары Лещенковой поставила три снопа, спряталась в их короткой тени. Руки горели, а в налитых прихлынувшей кровью глазах плавали зеленые и желтые круги. Спина будто окостенела – не разогнуться.
– Поначалу тяжко, потом обвыкнешь, – утешала Лещенкова. Встречала тяжкий блеск черных глаз в синих кругах под ними, завидовала: «Для него старается. Самой ей это не нужно… Может, она, такая-то любовь, и сладкая?..» Вспомнила, как начинали они с Петром. Ничего похожего. Тихий, тихий, а считай, в первый же вечер потребовал строго, не то, мол, другую найду. Не стала судьбу пытать, уступила. Потом уж отыгралась. Научилась, с чего начинать. «У этих будет не так…»
В очередной перекур Ольга подошла к дрогам с бочкой, стала в сторонке, ждала, пока напьются. Рядом задержался Казанцев. Рубаха на спине – хоть выжимай. У ворота отопрела, обнажала непривычно белое тело. Выбил куском напильника огонь, раздул трут, прикурил, посоветовал:
– Много не пей, дочко. Пополощи рот, и буде.
– Не могу больше, – сипло и жалобно ответила Ольга, потерла ладошкой горло.
– Ну, ну, – поглядел на исколотые руки, повздыхал. – Терпи, дочко. Завтра и Шуру заберу сюда.
* * *
Обедали в балке, у криницы. Вода бьет из глубины, отдает горечью корней. Погонычи поехали лошадей поить и купать в ставок на Козлов яр. Мужики всласть дымили самосадом, бабы рядом с кухаркой голодно поводили носами.
– Ну что, Мишка, мула по-русски понимает? – хмуря желтоватый глаз от дыма и косясь на мужиков, поинтересовался Тимофей Калмыков у Крутяка.
– У них согласие: ползком, где низко, босиком, где склизко, – дрогнули в ухмылке монгольские скулы Галича. Снял картуз, прилег, накрылся им от мух. – Ты перекрести их в православные.
– Да он крестил их там. Видишь, бурьяны от стыда повяли на его загонке.
– Гля, и правду – у него чистая загонка. Давай, переходи в мою после обеда, – предложил Калмыков. В горле у него свистело, пело, потел и задыхался от полноты и табачного дыма.
Мишка помигал короткими белесыми ресницами, плюнул со злостью.
– Я вот после обеда тебя самого повенчаю с мулой.
– Ты расскажи, Миша, как дед Павле Крамарь тебя здороваться учил, – пристал Калмыков, налегая мягким животом на подтянутую ногу. Мокрые бараньи глаза Тимофея заморгали в ожидании.
– Он забыл. До войны было. Женихался как раз, – тыкнул, из-под картуза Галич.
– Подурили старички.
– У дураков родителей умные дети росли, зато зараз…
– А что зараз?.. Ты их видишь, где они?
– Гу-у! Да какого ты черта! – Галич надел картуз козырьком назад, чертыхнулся, поправился. – Заели старики его.
– Ну-ну! Сцепились… Пошли обедать – подобреете.
Пошабашили с заходом солнца. Синь в логах и отрогах балок померкла, выцвела. Все стало мягче, нежнее. Скошенное поле изменилось до неузнаваемости, оголенное, жалкое. От лошадей, людей, копен вытянулись длинные тени. Ольга к дрогам с бочкой подошла последней. Черные сухие глаза и круги под ними слились в одно темное пятно, меняли все лицо. Лещенкова зачерпнула, подала ей корец. Казанцев вертел цигарку в стороне, перехватил Ольгин взгляд. Оба улыбнулись глазами.
– Не устала… Не очень, – отряхнула капли о подбородка, кофточки, опустила корец в бочку, повесила.
– Так как, Данилыч? – скружковались мужики и бабы у дрог.
– Как и договаривались. Косилки и кони остаются в поле. Остальные домой. Пешком… А что делать? С конями на ночь останусь я с Трофимычем. Вот так…
– С дежурством повремени. – Из балки, где обедали, никем не замеченный, поднимался Юрин, секретарь райкома. Прямоплечий, грузный, он с трудом одолел крутой подъем, одышливо хватая квадратным сазаньим ртом воздух. У бочки без передышки выпил корец воды. Его тут же обступили. Вернулись поспешно и с дороги. – Вести добрые, друзья. Увяз немец под Курском. Увяз – и ни с места, – понял Юрин молчаливое ожидание. – Наши начинают…
– Вот так чертовому сыну. И лето не помогло.
– Третье лето наше, а значит, и остальное все наше.
– Да и далекая же у нее дорога, проклятой.
– Не удержался за гриву, за хвост не удержится.
– То-то и слава богу…
– Ну а на нас, Роман Алексеевич, будь в надежде. Солдаты и мы – упряжка одна. Они тянут зараз добре, не отстанем и мы. – Воронов почесал тощий живот, переменился весь вдруг, зачастил скороговоркой: – Да после того, что мы повидали, пережили и зараз так бьемся, не спихнуть нас с пути. Люди мы свои, не раз на излом пробованные.
– Я, Севастьяныч, и не сомневался в вас ни на минуту. – Юрин посипел с перехватами в горле, кинул круговой взгляд по людям. – Домой? Пешком? Дорогой и поговорим. – Снял картуз, махнул кучеру на той стороне балки: «Езжай за нами!»
У ветряка косарей встретили детишки. Заждавшиеся, голодные, они давно уже выглядывали родителей. Мышкой нырнула к матери младшенькая Лихаревой. Тощенькая, глазки в темноте блестят, как у зверька, белые волосенки склеены вишневым соком. Обвила мать холодными ручонками, непонятно и быстро стала выкладывать домашние новости.
– Жалюшка ты моя, голодненькая небось, – простонала черная от солнца и усталости Лихарева.
– Катошки, катошки, мамочка…
Юрин зашмыгал носом, дернул Казанцева за рукав, отстали.
– Найди старух, Казанцев. Разбейся, а найди! Картошку, кулеш пусть детям варят. Нельзя! Нельзя!.. Им жизнь новую строить. И вот что. – Землистые мешки под глазами Юрина подрожали, посоветовал: – Дай список многодетных, попробуем приодеть детишек. Девчушечка Лихарева, а Куликовы?.. Да узнают отцы, а они узнают, думать что будут…
– Баглаенко с Васильевского осудили. Для внучек два пуда прелой ржицы в заброшенной скирде раздобыл, а ить у него шесть сынов воюе, их детишек от голода спасал.
– С Баглаенко просил прокурора разобраться. Что-то не так там.
– Я и говорю – не так. Народ переживает: а ну, мол, как меня так поддедюлят, а я, мол, кормлю и тех, кто воюе, и тех, кому жить да строить. В одном государстве все.
– Оставим этот разговор, Казанцев. Сегодня все живут через не могу и жаловаться некому. – Юрин не мог справиться с одышкой, совсем убавил шаг.
Казанцев понимающе вздохнул, покашлял в кулак.
– И ты нас дюже строго не суди, Роман Алексеевич, не железные. Люди понимают. Они, и Галич, Крутяк, на словах только…
По горизонту безмолвно и слепо полыхали зарницы, кричали вспугнутые кем-то кряквы в камышовых заводях за левадами.
– Дождик будет.
– Не должен, – возразил Казанцев. – Молоньи сухие.
– На все-то у тебя свое присловье, Данилыч, свои присказки, приметы.
– Без них у земли делать нечего. Земля сама учит, чтоб легче было. Ить она тоже страдает от нашей глупости. Что до присловий, примет – они не мои. Да и никто тебе не скажет, чьи они.
– Подумай, как женщин с поля возить. Они зараз управляться кинутся – стирка, детишки голодные, коровенка у кого, а через час-другой и вставать снова.
– Не на чем, Роман Алексеевич.
– Подумай.
– Эх-х!..
Небо по краям полосовали орудийные вспышки молний, точно угольки пригасшего костра, тускло помигивали и задыхались в бездонном просторе звезды.
* * *
Война была разборчивой. Потребляла только здоровое и добротное, а оставляла за собою страшные озадки – пустыри и калек. В окрестные хутора приходили отвоевавшиеся. Пришел и в Черкасянский Чалый Корней Назарович, без ноги, чуть не по бедро надкусила война, и левую руку по плечо отхватила. До войны он не то в Глубокой, не то в Каменской работал бухгалтером в какой-то артели. Семья все время жила в Черкасянском. Хатенка над кручей покосилась, вросла в землю. Править ее было некому. Баба Чалого, женщина здоровая, крепкая и на глаза броская, переносила свою долю стойко, с чужими мужиками не трепалась.
Хуторские бабы, как и в приход Ивана Калмыкова, осаждали хатенку Чалого, будто верующие церковь в престольные дни. Казанцев выжидал, пытаясь окольными путями разузнать планы Чалого. На третий день потел к нему сам. У порога в мешанке из дикого овсюга и проса – курица с выводком, рядом к кряжу для колки дров был привязан за ногу кот, сам Чалый на ведре вверх дном подпирал спиною поваленный, истлевший в прах плетень.
– Добрый день, Корней Назарович, – приподнял Казанцев картуз над забуревшей лысиной. – Живой?
– Живой – раз перед тобою сижу, – приветливо осклабился во все плоское крупное лицо Чалый, качнул дохнувший пылью и прахом плетень. – Ты тоже прыгаешь?..
– Прыгаю, – подтвердил Казанцев и прицелился глазами к чубаку, к которому был привязан кот, раздумал, отошел к почерневшему пеньку сливы и присел на него. – Кота зачем привязал?
– Воробьи одолели, проклятые. С кормишком сам знаешь как…
– А если кот на цыплят заохотится?
– А это на что? – Чалый поднял костыль. – Ты, Казанцев, вовремя. – Тугая бритая щека Чалого дернулась в усмешке, качнул головой. – Баб только проводил. Проходу не дают… «Куды наших подевал?» А куды я их девал. Самому весу поубавили. Сорок семь лет был на двух, а зараз вот на трех ногах (брякнул костылем по коленке). Думал, быстрее бегать стану… Какой черт, не приспособлюсь никак. И еще морока (подвигал куцей культей).
Покурили, потолковали о том о сем, пожаловались на тяготы.
– Ты сам-то как дальше думаешь? – начал издалека Казанцев.
– Как тебе сказать? – Чалый поскреб за ухом, поправил холостой рукав гимнастерки. – Пооглядеться хотел да пообвыкнуть малость на трех и с одним крылом.
– Оглядываться зараз некогда, Назарыч. – Казанцев выдернул из плетня прутик, обломил кончик, растер, процедил меж пальцев труху. – Садись на мое место, а я в поле. Бумажки – не моя работа.
Чалый осторожно, будто ощупывая, почесал культю ноги, отбросил шутливый тон.
– С бумажками, может, у тебя и не получается, не спорю, а с людьми получается. Третий день слухаю про тебя. Сердцем к тебе люди. Талан у тебя на людей. Ей-богу.
– Секретарь райкома постоянно ругается, мол, всякий раз тебя в поле ищи… Оно так и есть. Где хлеб, там и я… Ты привычен к бумажкам, Назарыч, Уважать и тебя будут. Не то советом помоги.
– Нет, Казанцев. Ученого учить – только портить. Да на леченой кобыле далеко не уедешь. Бухгалтер есть у тебя?.. Счетоводишко?.. Ну вот, мы и поделим с тобою: тебе – поле, мне – бумаги. Подходяще?
– Можно и так, – не сразу, после раздумья сказал Казанцев, с кряхтеньем поднялся и отряхнул с коленей желтую труху.
– Может, по рюмашечке. А-а?.. Баба разгорилась кувшин где-то. Почал, но ишо хватит. Так, так… Пахучая сволочь, так и шибает духом… На стрече ты у меня не был… А то откажусь от бумаг.
– С дорогой душой, Назарыч, но ты сам прикинь: от тебя да в поле. Людей от жары да работы качает, а меня от дымки. Негоже.
– Хозяин – барин. А все ж обижаешь ты меня, будто и не рад моему приезду.
– На этом мы помиримся с тобой. – Казанцев тряхнул протянутую руку, отвязал от тополины повод кобылки.
Кобылка часто сбивалась с дороги, лезла в овсы. Казанцев отрывался от своих думок, выправлял ее на дорогу и снова отпускал поводья. Вчера пришло письмо от Виктора. Ждут перемен. С Андрюшкой больше не видался. С теперешним начальством его знаком давно и через начальство это знает, что Андрюшка в части на хорошем счету. Про семью спрашивать перестал. Понял: не об чем спрашивать. Письмо помечено четвертым июля, а сегодня восемнадцатое. В газетах пишут, будто наши в наступление перешли.
– У-у, проклятая, и оголодала как! – Казанцев погорячил кобылку удилами, выбрался на дорогу, зарысил.
На полевом стане у Максимкина яра обедали, сидели за столами под навесом сшитых вместе и растянутых на кольях итальянских палаток. Бабы завистливо покалывали жену Чалого. Та, кумачово-красная, виновато и молча принимала намеки и, как ни старалась, не могла скрыть своего бабьего счастья.
– У меня, бабоньки, уже все подушки круглые, – пожаловалась молодуха одного из Калмыковых. – Все углы на зорьке пообгрызла.
– Она, зорька, зараз – не успеешь перевернуться.
– У бабы она завсегда короткая.
– Жизнь сегодня такая: кради не кради, а приворовывай где можно, иначе свихнешься, – вздохнула Лещенкова, вышла из-за стола, огладила юбку на крутых боках, отряхнула с нее остья, лепестки повители. – Опять ушивать придется.
– Ох, вернется Петро, обрубит хвост по самую репицу.
– Ой, ды скорее бы кара такая-то, – простонала Лещенкова.
– Тише вы, бабы. Послухаем председателя. Как там хлебом кормить нас думают? Убирать – убираем.
– С обмолота по сто граммов авансом.
– По сто на день?.. Мать твою!.. Хлеб называется! – чертыхнулся Галич, вылез из-под навеса на жару, стал закуривать.
– И по полпуда в месяц на иждивенца многодетным.
– Ну да, они наплодили, едят их мухи, а мы корми их! – почесал потный кадык и снова чертыхнулся Галич.
– Цыц ты, подлюка! – Рыжая борода Воронова стала торчком, задохнулся, трясущимися руками зашарил, ища карманы. – Ах ты ж, господи! – Старик никак не мог попасть на карман, совался по грубо сколоченной скамейке. – Вот, скажи, дурак так дурак, да не какой-нибудь, а природный. Каждый день у ветряка детишки встречают. А день – год!.. Тфу, сатана проклятая! Как язык поворачивается на такое!..
– Полпуда – выдумка моя. Из района таких указаний нет. – Казанцев сдвинул густой намет седых бровей к переносью, прислонился к столбу навеса.
– Завалишь, Данилыч!.. Фу ты, господи, напужал как, – ахнули бабы, косясь на затрещавшие палатки.
– Примете выдумку – будем кормить детей, нет – воля ваша… Мне самому в поле поспокойнее будет.
– Никак, пужаешь? – Крутяк сыто отвалился от стола, поигрывая глазами в насмешливом прищуре, стал вертеть цигарку.
– Нет, не пужаю, Михаил Иванович. Не пужаю. – Казанцев обломал Мишкин взгляд, тоже достал кисет. – Думаю, как в глаза отцам их гляну… и мимо ветряка ходить не могу…







