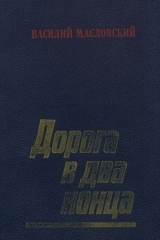
Текст книги "Дорога в два конца"
Автор книги: Василий Масловский
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 32 страниц)
Глава 17
Эх, чебатуха, чебатуха,
чебатушенька моя!..
Солдатские каблуки дробью гремели по доскам вагона-платформы. Рыжий, густо крапленный ржавчиной веснушек гармонист лихо растягивал меха затрепанной «хромки». На танках, крытых брезентами, гроздьями сидели зрители и слушатели.
– Эх, откалывают! – восторженно восклицали с перрона.
– Сибиряки!
– И в самом деле, выручательный народ.
– Костя, захвати и мой котелок!
– Не бегайте! Скоро тронемся!
Лязгнули буфера. Эшелон с танками дернулся, загромыхал на стрелках. С перрона пассажирской станции и перекидного моста через пути танкистам махали руками женщины и дети. Гармонист лихо перешел на барыню. Танцор выхватил из кармана мятый платок, чертом прошелся по свободному пространству платформы.
За эшелоном с танками открылся поезд с ранеными. На окнах вагонов висели тюлевые занавесочки. По путям сновали щеголеватые в белых халатиках и косынках сестры.
– Курносая! Айда к нам! Всей ротой беречь будем!
– Братцы, она мне всю ночь снилась! Ей-бо, всю ночь не спал!
– Хоть взглядом подари, золотко!
Кричали санитаркам истосковавшиеся по женской ласке фронтовики из эшелонов на путях. Медички привычно улыбались. Иная нахмурится для порядка, погрозит пальчиком.
– Господи! До чего ж хороши кралечки! Удавиться можно!
– Хлопцы, пощупать пустите! Неужто живые!
– А у самого небось семеро по лавкам.
Стоял благодатный август, и почти все окна вагонов санитарного поезда были открыты. С нижних полок выглядывали сидячие, махали руками.
– Где попались, землячки?
– Из-под Клетской!..
– Серафимовича!..
– Морозовка… А вы?
– Калитва – Вогучар! На переформировку!
– Эх, хлопцы, танки ваши где?
– Пожгли, за новыми едем!
По вагонам раненых разнесли термоса с пахучим гороховым супом, и поезд их тронулся.
– За ними и нас пропустят. – Капитан Турецкий (месяц назад присвоили очередное звание) уцепился за скобу, впрыгнул в вагон, разделенный нарами. – Наши все в сборе?
– Костя Кленов за кипятком побежал. – Лысенков разделался с селедкой, расстелил рядом на ящике газету, высыпал из котелка сухари.
– В Балашове горячим кормить будут, – обрадовал Турецкий и стал выкладывать новости, какие успел добыть на вокзале и у военного коменданта. Веселого мало, порядка тоже. – Форс давят, сволочи, – высказался о станционном начальстве. – Туда бы их, а то окопались тут… Ага, а вот и Костя, – увидел капитан Кленова.
Дневальный, принял у Кленова котелки с кипятком, помог ему забраться в вагон.
– Сколько калек здесь – безногих, безруких, – возбужденно заговорил Кленов. – Нигде столько не видел. И каждый приспособился к чему-нибудь: тот на картах гадает, тот политинформацию солдатам читает.
– А где ты их еще увидишь? – Рябоватый Шляхов выплеснул из котелка в дверь, коротко глянул на облупленные стены станции, вернулся к ящику с сухарями. – Здоровые на фронте нужны. А они свое сделали, отвоевались, теперь промышляют, чем могут.
Только уселись за чай, как эшелон тронулся и потянулся на северо-восток, на Балашов – Ртищево – Пензу. Танкисты Турецкого, потеряв машины в боях, оказавшись «безлошадными», ехали на Урал за новыми танками.
За станцией в открытые двери пульманов была видна уплывавшая назад перемежаемая мелким редколесьем степь. На западе, на багровом полотнище заката, вырезалась зубчатая синяя стена уже настоящего соснового леса. Нары от перестука колес выбились. Зыбились, спотыкались и путаные мысли.
Кленов повозился, отодвинул локтем мешавший смотреть чей-то мешок, положил подбородок на кулаки. Бурые, сквозившие осенней наготой степи не хотели отставать от вагона. На покинутых пашнях бродили угольно-черные грачи. Они взлетали, косо проносились над поездом. В их криках было что-то тревожно-грустное, невысказанное и понятое не до конца. Вдали медленно поворачивались деревни и бежавшие к ним дороги.
Внизу заговорили громче. В вагонные двери задувал встречный ветер, и на нарах стало прохладнее.
Тормоза заскрипели. Снова какая-то станция. В окна, двери плеснулся вокзальный шум. Пробежали бабы с мешками. Зло вколачивая деревяшку протеза в доски перрона, прошел инвалид.
– Орешков кедровых не желаете? – В вагон сунулась огромная голова в лисьем малахае. Из дремучей бороды желто блеснули лошадиные крепкие зубы. Зыркнул туда-сюда, обшарил взглядом все углы, доверчиво замигал маленькими медвежьими глазками и потише: – Медовуха есть. Жбанчик. В телеге под соломой. Тут рядом, мигом. – Огреб горстью бороду, подмигнул: – У вас, может, мыло, спички. Или шаровары, гимнастерка.
– У нас женихов, дед, хватает, а шаровары и мыло все продали, – встретил Лысенков крестьянина шуткой.
– Как хотите. – Интерес и доверчивость в медвежьих глазах мигом погасли. Крестьянин подкинул плечом мешок за спиною, пошел к следующему вагону.
У покосившегося палисадника за путями бойко торговали кедровыми орехами, калеными яйцами, запотевшим салом с желтинкой, огурцами, помидорами. Предлагали даже налитых жирком жареных куриц. Но танкисты поиздержали деньги на первых же станциях и теперь выскакивали из вагонов больше из любопытства.
Толпились около какой-нибудь солдатки, только мешали торговать ей.
Поезд стоял недолго. На нарах, подбородок на кулак, с Кленовым рядом устроился Шляхов. После остановки он был не в духах. Широкие скулы его в мелкой сыпи оспинок, как зеркало пруда в осенний день, то темнели, то светлели. Перегона два они молча смотрели на бревенчатые усадьбы, на рыжие мочалистые луга, залитые водой картофельники.
– Я со своей развелся перед самой войной, – неожиданно выжал из себя скрипуче Шляхов, продолжая думать, наверное, о женщинах, которых видели на станции. – Дочка осталась. Жалко.
Кленов заглянул в налитые чернью тоски глаза Шляхова, сказал:
– Может, она и не стоит, твоя бывшая, чтобы о ней убиваться так?..
– Эх, парень! – Глаза Шляхова налились слезой. Оказывается, они у него добрые, доверчивые, только кажутся свирепыми. – Может, мне боль эта сладкая. Может, у меня и помнить-то больше нечего. Может, она, эта боль, самое лучшее, что у меня осталось и забывать не хочется. Дочку во сне вижу часто. Дурные с бабой мы, а наказали ее, человека, какой и постоять-то за себя не может. Вот оно как. – Шляхов тяжело засопел, привстал, долго крутил цигарку. – Я монтажник. Учился малость. Есть наука такая – сопромат, о пределах прочности железа, дерева. А вот о человеке такой науки нет, и предела прочности человеку, видать, тоже нету. Неси, сколько навалят… Только ты, – выбеленные солнцем ресницы Шляхова запрыгали часто-часто, отвел взгляд в сторону, – молчок. Война несчастливых не любит.
Кленов вспомнил свое безотцовское детство, посоветовал:
– Дочке пиши. Ждет небось отца.
– Смышленая она у меня…
Шляхову хотелось выговориться, теснил плечом, бубнил что-то на ухо. Но его слова, как неживые, сплывались с бесцветным скрипом дерева и мерным покачиванием вагона.
На другой день после прибытия в Челябинск Кленов, капитан Турецкий и еще несколько человек с утра пошли на завод. Несмотря на сизую рань, в цеху, похожем на огромный станционный зал ожидания, грохотало и гремело железо. У стен в два ряда гуськом стояли обутые в гусеницы корпуса Т-34. Над ними, визжа стальными тросами, проплывали краны с башнями на крюках. В разбронированные, обнаженные корпуса ставили моторы, коробки передач, тянули по бортам электропроводку. Черными муравьями ползали рабочие.
Перед танкистами остановился желтолицый сухой старичок; бородка клинышком, на носу очки в железной оправе. Точь-в-точь как в кино старый рабочий.
– Приемщики от части?
– Так точно.
– Подбрось, людей, капитан.
– Много?
– Сколько можешь.
Прошли двое-трое рабочих, поздоровались чинно со старичком: «Панкрату Артемичу».
Загорелые, свежие, сытые, танкисты выгодно отличались от грязных, изголодавшихся рабочих, в большинстве подростков или стариков.
Под черными сводами сборочного цеха плескались синие молнии электросварки, гулко отдавались удары кувалд, на разные голоса звенело и пело железо.
Старичок мастер все так же носился по цеху, никуда не уходил. Жирно блестели мазутом и копотью его впалые щеки, мешки под глазами набрякли, потемнели.
– Заходи в гости, – пригласил он капитана, с которым успел сойтись за день. – Я тоже живу в землянке по соседству с вами. Почитай, харьковские все в землянках. – Лихорадочно блестевшие глаза улыбнулись поверх очков. – Копченая сохатина есть. Угощу…
* * *
Одним махом – приехать и получить танки – не вышло. Застряли до осени. Начались дожди, морозы, лег ранний на Урале снег. От случайной помощи в цехах перешли к посменной работе. Не хватало сил смотреть, как валятся с ног от усталости полуголодные подростки и женщины.
Капитан Турецкий вернулся после очередного похода к начальству, швырнул танкошлем на грязный неоструганный стол, с треском уселся на длинную скамейку.
– Что пасмурный такой? – Из-под шинели на нарах в углу высунулось опухшее лицо Кленова. Мучился, не мог уснуть после ночной смены. – Что-нибудь слышал?
– Все старое, – выпрямил спину и уныло отмахнулся Турецкий. Усталые глаза сверкнули зло, дернулся на скамейке. – Нашему сидению тут конца-краю не видно. Осень на дворе, а танки отправляют все куда-то в иные места. Я уже никаким словам не верю. – Снова повернулся к столу, удивленно пожал плечами. Смуглый лоб собрался морщинами. – И на кой ляд нам эта формировка. Дрались бы как люди.
– Сам рвался хоть на недельку.
Кленов выпростал ноги из-под шинели, совком подвинулся к краю нар, поежился от холода. В мутном маленьком оконце у самой земли умирал чахоточный осенний день. От темноты и запаха прелой соломы было еще холоднее. На нарах храпели усталые ребята.
– На Дону все ныли, – заворочался и раскашлялся у печки Лысенков.
– Выспаться хоть разок досыта хотелось. – Турецкий привстал и, повернувшись лицом к Кленову, уронил чугунно-веско: – Ты хоть в госпитале отоспался. Почти год целый. А я от звонка до звонка без смены.
Кленов с треском отодрал лоскут от фуфайки, бросил его к печке. Скулы, как ветром облизало, побелели; канатами вздулись, набухли шрамы на виске.
Турецкий виновато засуетился и, тоже белея в скулах, грубовато и тяжко кашлянул в кулак.
– Ну, извини, Костя. Глупость брякнул. – Вскинул голову, предложил всем: – Давайте к девчатам маханем, что ли? Закисли совсем. Что на завтра откладывать. Одевайтесь. – И потянулся к танкошлему на столе.
– Они тоже дрыхнут. По шестнадцать часов в цеху.
– Вот тудыть твою любовь…
Турецкий сгорбился за столом, слушал, как шуршит солома на нарах, стонут и кашляют спящие. Отмахнулся от плотного полотнища мохорочного дыма.
– На заводе ленинградские есть. Слесаря. – Прикурил, плюнул к захоженному порогу. – А что они могут сказать? Их в декабре прошлого года самолетами в Кущевары вывезли, а оттуда сюда. Год, считай. Да и город такой. Ты где жил в Ленинграде?.. На Обводном?.. Напротив Балтийского вокзала?.. Завтра сходим к ним. Их семеро, что-нибудь да скажут. – Поскреб небритую щеку, вздохнул: – А нас, наверное, все же вышибут скоро. На заводе что ни день – новые планы, и Сталинград с языка не сходит.
– Сталинград сейчас у всех на языке.
На нарах сухо, рвуще закашлялись, и на свет коптилки выдвинулась лохматая голова старшины Лысенкова.
– На ужин опять картошка мороженая. – Лысенков ожесточенно поскреб в затылке, под гимнастеркой на спине. – Костя, кинь портянки. На трубе сушатся.
Кленов подал старшине портянки, набросил на плечи шинель и вышел из землянки. Густая вязкая темнота ударила по глазам. Глухо шумели свою думу сосны. У самой земли полз холод, перекинутый ветрами от полярных льдов через Уральские горы. Вместе с холодом снизу к сердцу поднималось и знобкое сосущее чувство тревоги перед наступающими событиями и полной неизвестностью о доме, матери.
Дверь землянки скрипнула, выпустила Лысенкова (по кашлю угадал).
По лесной просеке заметались желтые снопы света, рассыпались мелкое тарахтение и тяжелые вздохи на ухабах: с завода за ночной сменой танкистов шла полуторка.
Глава 18
В линялой синеве неба глухо прострекотало, будто кто громадный разодрал одежду по швам. С Хоперского шляха, из жгучих облаков пыли, злобно стучали скорострельные пушки, захлебывались крупнокалиберные пулеметы. Небо расцвело черными бородатыми бутонами, блескучий воздух искрестила паутина огненных нитей. Пятерка краснозвездных машин неуклюже ныряла между этими черными бутонами, пробивалась к танковой колонне на шляху.
– Собьют, проклятые. – Галич облизал кончики обсосанных усов. Из-под грязного щитка ладони зверовато блестели суженные монгольскими скулами зрачки.
– Низом бы им.
– Будто низом не стреляют.
Самолеты приближались к шляху удивительно медленно. Они отвернули чуть вправо, заходили с хвоста колонны. Неожиданно у одного из них отделилось крыло и, кувыркаясь, полетело вниз. Обгоняя обломок, камнем рухнул и весь самолет, и через минуту до стоявших на хуторской улице докатился из-за холмов тяжкий гул взрыва. И почти одновременно с этим взрывом задымил второй самолет. Он круто развернулся и потянул к Дону, но клюнул вниз. И теперь тяжкий гул над хутором поплыл со стороны Лофицкого леса. Оставшиеся три самолета выстроились в цепочку, прошлись над колонной. На шляху выросли колючие рыжие столбы дыма и пыли, вспыхнули пожары. На втором заходе задымили еще два самолета. Один неправдоподобно легко развалился в воздухе, второй развернулся было и лег на обратный курс, но тоже упал где-то у Лофицкого леса. Последний из пяти взвыл моторами и растаял в молочно-дымной синеве. Все произошло удивительно быстро, на глазах у толпившихся на улице хуторян.
– Накаркали, вашу мать! – Галич в сердцах плюнул в пыль, по-над плетнями направился к своему дому.
– Русь капут! Сталинград капут! – кричали ему в спину голопузые итальянцы, тоже высыпавшие за дворы и наблюдавшие за боем.
– Подожди, образина проклятая, придет и твой капут, – на ходу запальчиво огрызнулся Галич.
Итальянец с черной, аккуратно подстриженной бородкой, в ботинках на босу ногу и в трусах растерянно пробормотал что-то себе под нос, проводил Галича злым взглядом.
– Не задирай их, окаянных, Селиверстыч, – посоветовал наблюдавший сцену от своей калитки Воронов. – Будь они неладны.
– Нехай они ублажают меня, а не я их. Я у себя дома, на своей земле, – по-петушиному вскинул голову Галич и локтями поддернул штаны.
Итальянцы послали к упавшим самолетам несколько машин. Машины вернулись на заходе солнца. Но хуторяне ничего не знали о судьбе тех, кто был на сбитых самолетах.
В душной темноте горниц долго не спали в эту ночь.
Утром Алешка Тавров, Володька Лихарев и еще несколько ребят пошли к Лофицкому лесу. У Острых Могил, на седых от мелкой полыни солончаках, нашли небольшую обгоревшую воронку. Метров на пятьдесят в окружности от нее валялись дюралевые обломки. Два круглых шестнадцатицилиндровых мотора откатились еще дальше. Никаких следов, ни живых, ни мертвых летчиков ребята не нашли.
– На парашютах вроде и не спускались, – усомнился Володька.
– Это тот, у какого крыло отбили. Ишь где оно.
У самой макушки Могил, в колючем татарнике, на солнце серебрилась дюралевая исковерканная плоскость.
У Лофицкого леса оба самолета упали почти вместе. Один из них скользнул по скату балки и сохранился довольно хорошо. Стеклянный колпак был разбит и сдвинут назад. Навалившись на приборный щиток, в кресле застыл летчик. Алешка потянул его за плечо назад – и тут же отшатнулся: лица у летчика не было. Была кроваво-синяя маска, успевшая вздуться за ночь.
– Итальяшки его обшарили. Карманы повывернуты.
У второго самолета Володька Лихарев нашел в промоине кусок гимнастерки с орденом Красного Знамени и карманом. Алешка достал из кармана пачку писем и комсомольский билет на имя Евстигнеева Валерия Эрастовича, 1922 года рождения.
– Всего на три года старше тебя, Алешка.
Из комсомольского билета выпала фотография. Светловолосая девушка улыбалась смущенно и радостно, словно стыдилась и не верила своему счастью. Фотография по углам была затерта. На тыльной стороне присохла кровь. Алешка попытался отскрести пятно ногтем, но ничего не получилось. Кровь успела впитаться в бумагу. Ребята молчали, будто чувствовали свою вину перед мертвым парнем и его живой и еще ничего не знающей невестой. Они стыдились своей беспомощности. Он дрался, а они только стояли, смотрели и ничем не могли ему помочь.
– Надо сохранить это все. Отошлем, может? – сказал Володька.
– Кому отошлем? Адреса нет.
– Война закончится – отыскать можно.
– Отыскать?..
Ребята переглянулись. Володька говорил о времени, когда уже ни немцев, ни итальянцев у них не будет и все будет как раньше. Говорил просто, как о чем-то давно и окончательно решенном.
– Давайте походим. Еще найдем чего, – предложил Алешка.
Минуя кусты разросшегося бодяка и стрельчатого молочая, в балку к ребятам спустился пасечник дед Матвей.
– О чем сумуете, хлопцы? – кашлянул он, подойдя ближе.
– Твоя пасека так и стоит в лесу, дед?
– Так и стоит.
– И ни немцы, ни итальянцы не трогают тебя?
– Пока бог миловал, не заглядывали. Я в стороне от дорог. – Дед Матвей повернулся к самолету, где в кабине сидел мертвый, насупился. – Вчера итальянцы взяли одного с собою.
– Живой?
– Должно, живой, раз взяли.
– Про остальных ничего не знаешь?
– А что не знать… – Желтовато-мутные глаза деда Матвея налились слезой, коричневые скулы дрогнули. – Так все и погибли.
Над балкой в небе возник тугой вибрирующий звук. Купаясь в лучах утреннего солнца, в сторону Воронежа медленно плыл серебристый крест самолета.
– Немец, – сказал Алешка, вздохнул и почесал затылок. – Неси, дед, лопату – на пасеке у тебя должна быть. Похороним.
На обратном пути Володька отстал, задержал Алешку.
– Куда мне с магнето тракторными деваться? Ахлюстин уже несколько раз спрашивал у меня про них. Не верит, что нет. Вы их, говорит, с Тавровым попрятали. Я, мол, знаю.
– А ему что за дело? – Алешка нахмурился. Под кирпичными плитами скул прокатились желваки.
– Ахлюстин с немцами в дружбе. Поддерживает новую власть. Он же в Лофицком мельницу ставит, а немцы собираются осенью хлеб сеять, и им трактора нужны будут. Я сам слышал, как они спрашивали у Раича про трактора.
– Подождут. Они где у тебя, магнето?
– Пять штук закопал под яблоней в саду, а три дома за печкой лежат.
– Те, что за печкой, закопай тоже.
Ребята, ходившие вместе с ними, ушли далеко вперед, о чем-то оживленно толковали. Володька посмотрел на них, потом на Алешку пытливо.
– Юрин Роман Алексеевич, секретарь райкома, о той стороны приходил. Не слыхал?
– Ты откуда знаешь? – встрепенулся Алешка. На сорочьем, пестром от обилия веснушек лице его вспыхнула и угасла улыбка обиды, задетого самолюбия. – Откуда знаешь? – переспросил. – Может, это неправда.
– Правда. – Черные девичьи глаза Володьки внимательно смотрели на Алешку. – Газеты и листовки приносил. У меня есть «Правда». Прихоронена. Вскорости должен еще придти.
Обида и зависть вновь кольнули в сердце Алешки.
– Так, может, с ним туда можно?
– Спрашивали. Нельзя, говорит. Делайте, говорит, свое дело на месте. Главное – обмолот хлебов не допустить.
– Может, пожечь хлеб в скирдах?
– Хлеб нужно застоговать и так оставить. Как обмолоту помешать – подумай. Роман Алексеевич так и сказал: «Хлеб – Алешкино дело». – Лихарев помолчал, потом тронул Алешку за рукав. – О нашем разговоре – ни-ни-ни. Ни одна душа.
– Об этом мог и не говорить, – обиделся Алешка, – «Правду» дай мне, сегодня же зайду.
* * *
В конце августа немцев в хуторе сменили итальянцы. Черномазые, подвижные, веселые, они разительно отличались от высокомерных, строгих и чопорных немцев. Немцы покидали тихий хуторок неохотно. Черноволосый последний вечер долго сидел у Казанцевых в сарае, вздыхал, цокал языком.
– Плехо, плехо! Шлехт! – И показывал пальцем на бархатные полотнища паутины по балкам, на дыры под застрехой сарая, на свой мундир. – Война плехо! Сталинград плехо! – Встал, сделал вид, что снимает мундир и бросает его под ноги, топчет, хлопнул ладонями себя в грудь. – Гамбург папо, матка, швестер… сестра, сестра. Гитлер капут! – И показал, как он идет домой. Заслышав шаги у порога, поспешно застегнул мундир. В дверь просунулся ефрейтор с воловьими глазами, сказал что-то, и они вместе вышли. На пороге чернявый оглянулся, грустно покачал головой и махнул рукой. – Сталинград…
Теперь немцы на хуторе стали бывать только наездами, если им что-нибудь требовалось.
Алешка был в токарном, когда у мастерских остановилось несколько машин и на них повыскакивали солдаты в черных мундирах с двумя серебряными змейками на петлицах. Алешка слышал про отборные войска СС, но видеть пока ни разу не доводилось.
– Петролеум! Петролеум! – резко жестикулируя руками, издали залопотал коренастый плотный унтер, сизо-багровый от жары, с муаровой ленточкой в петлице.
– Чего он хочет? – высунулся на шум из кузницы Ахлюстин.
– Ты якшаешься с ними – должен знать. – Галич, с утра крутившийся в мастерской, почесал желтую жидкую щетину на щеках и подбородке, сощурился на борта машин и маскировку, покрытые известковой пылью. – Откуда-то из-под Галиевки. Там мелу хватает. – Нырнул от греха подальше в темный закуток.
– Петролеум! Понимайт ду? – жестикулировал сизо-багровый унтер перед лицом Ахлюстина.
– Алешка!.. Момент, пан, момент! – Ахлюстин гнилозубо улыбнулся, прогнулся в спине от усердия. – Алешка, поговори с паном. Чего он хочет?
– Петролеум! Петролеум! – повернулся багровый немец к Алешке.
– Ему керосин нужен, – перевел Алешка Ахлюстину.
– Где ж он, у черта, тот петролеум? Якась же сатана и подонки выпустили из бака. – Ахлюстин спустил на нос круглые очки, глянул выразительно исподлобья на Алешку. – Скаты, шестерни от токарного станка, магнето куда подевались?
– А что вы меня спрашиваете? – шепотом сквозь зубы ответил Алешка. – У вас в курятнике три бочки керосина по двести литров закопаны. Откуда он?
– Ох, сукин сын, и падкий ты до брехни. Комендант давно по тебе плачет…
– Командант зукин зын? Командант зукин зын? – побагровел до синевы унтер. Пухлые надбровья и верхушки скул сблизились, утопили маленькие свиные глазки. Не размахиваясь, унтер ткнул Ахлюстина кулаком в живот. Тот икнул, переломился, упал седой головой вперед. Немец брезгливо отступил назад, ударил кованым сапогом в эту голову, бок, живот. Кузнец при каждом ударе сипло вскрикивал, дергался. – Командант – зукин зын! Сволош! – ревел расходившийся немец. – Где старост?
Немцы с машины зашли в холодок, расселись на верстаках, курили, равнодушно наблюдали, как управляется их старший.
Вадим Алексеевич прибежал сам. Он уже успел привыкнуть, что всякое появление немцев требует его присутствия. Холеный, длинный, сутулый, в сером шевиотовом костюме, белой рубахе и галстуке, Вадим Алексеевич обычно производил впечатление на немцев, которые, видимо, ожидали видеть старосту в окладе смоляной бороды и смазных сапогах.
– Что случилось? – Раич скосил глаз на корчившегося на полу у кладовой будто в коликах Ахлюстина, потом на коротконогого багрового немца. Правая щека Раича запрыгала в нервном тике. – Чего они хотят?
– Им нужен керосин.
– Керозин! Керозин! Унд тракто́р! – подхватил немец и показал на разбросанный и уже успевший покрыться краснотой ржавчины трактор в мастерской.
– Нейн керосин, – хмуро сказал Раич.
– Керозин унд тракто́р десят минут здес. – Немец ощерил мелкие зубы, постучал грязным ногтем по решетке часов на запястье, отошел к своим. – Десят минут. – Он обернулся и постучал еще раз по часам.
– Нужно что-нибудь сделать, Алеша.
Алешка не выдержал просительно-жалобного взгляда бухгалтера, опустил глаза. На шум стали собираться люди.
– Вы же сами знаете, Вадим Алексеевич, что горючего ни капли, а трактора раскулачены вчистую.
– Они этого не поймут, Алеша.
От свистящего просительного шепота в душе Алешки незнакомо и болезненно перевернулось что-то. «А ить мы с его сыном совсем недавно гуляли, спорили. Друзьями были…» Алешка поднял взгляд – больные, одинокие, тоскливые глаза бухгалтера налиты слезами. В них проступало что-то пронзительно беспомощное и по-человечески простое.
– Не знаю, Вадим Алексеевич. Сведите их к бакам. Нехай сами убедятся.
Углы губ Раича дернулись. Он понимающе хмыкнул, ссутулился еще больше. Вокруг баков земля на много метров, как блин промасленный, сочится керосином. Немцев нельзя туда вести.
Немец проговорил что-то своим, подошел к Раичу, раскорячил толстые ноги, сунул к его носу часы.
Раич решительно поджал губы, подобрался, готовый ко всему.
– Нейн керосин.
– Ты болшевик, не старост! – Унтер брезгливо покривился, изловчась, коротким ударом, как и Ахлюстина, ткнул Раича в живот, потом в зубы. Раич деревянно стукнулся затылком о косяк, оступился и упал через порожки в кузницу на кучу угля. На дряблую в клеточках морщин шею изо рта сгустками побежала рудая кровь.
Коротышка-унтер постоял, набычившись и подрагивая ляжками, ткнул Лихарева пальцем в грудь.
– Тракторыст?
– Нейн, нейн, пан, – испуганно отшатнулся Володька.
– Тракторист, тракторист! – Ахлюстин успел умыться из кадки, где калили железо и замачивали клещи, стоял у наковальни с молотком на ней и разминал пальцами шишку на лбу. – Тракторист он. – И для верности пнул Володьку в спину, подталкивая к немцу. Тот рванул Володьку за плечо, толкнул к машинам.
Трактористы, комбайнеры подождали, пока немцы толчками загнали Лихарева в кузов машины и развернулись, разошлись ворча.
– Зачем же парня губите? – спросил Алешка Ахлюстина.
– А ты как думал?! – Безбровое, с выгоревшими красными веками лицо Ахлюстина озлобленно ощетинилось. – Властя́ обманывать?.. Подожди, и до тебя доберутся.
– Это еще посмотрим, – тихо пообещал Алешка. – Вы и про скаты не забывайте, какие немцы спрашивали, а вы их в Лофицкое сплавить успели.
Сухие, синеватые от угля, изморщиненные щеки Ахлюстина затряслись. Алешка бросил клещи в кадку, где только что мылся Ахлюстин, вышел на солнце.
* * *
Немцы коротко переговаривались между собой, курили. Чаще других упоминали Богучар, Миллерово. «Если вздумают гнать туда, пусть на месте убивают, не поеду», – слушая немцев, решил Володька.
У спуска в Лофицкую балку грузовик остановился. На обочине стояли ХТЗ и тяжелая, крытая брезентом машина с антеннами. Возле нее валялись полосатые арбузные корки. Над ними роились мухи. Ив машины с антеннами выглянул белобрысый ефрейтор. Он усмехнулся, показал на подсолнухи. Из зарослей лебеды и донника торчали ноги в больших солдатских ботинках. Воробей потрошил созревшую шляпку подсолнуха, и желтая пыльца осыпалась прямо на ботинки.
– Партизанен пук-пук! – вытянул палец и прищурился ефрейтор.
– Работать, работать! – Коротышка-унтер подвел Володьку к трактору, щелкнул портсигаром.
Володька покачал головой: «Не курю, мол», осмотрелся: вроде все в порядке. Попробовал бензин, керосин – есть. Крутнул заводной рукояткой – никаких признаков жизни. Нашел ключи, вывернул свечи. У двух усики отогнуты слишком далеко, и искра не пробивала. «Значит, парень сделал это нарочно, не хотел везти дальше», – мелькнуло в голове. В затылок, задыхаясь от зноя, сопел немец.
– Момент, момент, пан, – кивнул Володька. «Что же делать?» Подогнул усики, поставил свечи на место. Мотор заработал.
– Гут! Гут! – Немец подал из грузовика канистру, показал, что нужно долить горючее. Потом сунул Володьке полплитки шоколада, взглядом показал на сиденье.
У Лофицких меж повстречался дедок с холщовой сумкой на боку. Володьке дедок показался подозрительным: больно плечи прямые и грудь крутая. Прикрываясь щитком ладони, дедок долго подслеповато щурился на машину с антеннами, трактор, тракториста. Володька затылком ощущал его цепкий взгляд. На крыле трактора трясся и неистово ругался на своем языке и по-русски худой долговязый немец в кепи. Белобрысый то и дело высовывался в окошко фургона, что-то кричал ему, скалился.
«Что же делать? Что делать? – жарким звоном не утихало в голове. – Нельзя провозить их в Богучар. Тот парень не захотел».
Становилось страшно. Обсыпанные желтой пыльцой из зарослей донника и вьюнка мельтешили тяжелые солдатские ботинки.
В Писаревке белобрысый принес корчагу молока. Напились с долговязым, сунули корчагу Володьке, тот покосился на запекшиеся в коросте губы долговязого, брезгливо передернулся, но отказаться не посмел, да и пить очень хотелось. Из хаты выскочила голенастая девочка, забрала кувшин. Володька вздохнул, снова взялся за пыльную раскаленную баранку.
Напротив широкого оврага за селом мотор вдруг заглох.
– Што дело? – всполошился ефрейтор.
Лихарев пожал плечами, соскочил на землю. Горючее поступало, провода к свечам на месте. Магнето?.. Магнето съехало набок со своей площади, нарушилось зажигание. Оно, магнето, едва удерживалось измочаленной вишневой палочкой. Остальные гнезда для болтов были пустыми. В них торчала вишневая кора. «Значит, он наверняка знал, что везти нельзя их». Затылок пекло солнце. В желтоватых кругах снова поплыли солдатские ботинки со стершимися подковами. Метрах в тридцати от дороги серели пыльные кусты терновника. Можно было вырезать заглушки и доехать до Богучара. Тут недалеко. Поднял голову, встретился с пытливо-внимательным взглядом белобрысого.
– Никс, пан, никс. – Володька развел руками: ничего, мол, сделать нельзя.
– Юде? – обрадовался вдруг и ткнул пальцем в грудь белобрысый.
Володька покачал головой.
– Русский. – Он сам видел, как в их хуторе конвоир сказал то же самое чернявому пленному, и того тут же расстреляли. Белобрысый не верил, вглядываясь в его черные до синевы глаза. Володька добавил: – Казак.
– Ко́зак, ко́зак? Партизанен?
– Зачем партизан. Русский – и все.
Тяжелый удар бросил Володьку спиной на горячий мотор.
– Работать, работать! Капут!..
Володька снял кепку, повесил на кронштейн разбитой фары, потной ладонью размазал кровь из разбитого носа.
– Никс, пан…
Удар в живот, в переносье. Белый плывущий шар солнца погас. Отлежался, открыл глаза. Белобрысый обливался потом, щурился, ждал.
– Работать!
– Никс…
Оглушающий удар каблуком в пах, второй – в челюсть. Глухой стук затылком о железо. Очнулся – в виски с тяжким тупым шумом билась кровь. Руки подламывались, дрожали, и все тело дрожало, как в ознобе. Вставать не хотелось: «Черт с ним. Пусть делает что хочет».
– Встать! – У переносья прыгал черный зрачок пистолета.
Перебирая руками по колесу, Лихарев встал, набрал побольше воздуха в грудь, вспомнил весь запас немецких слов, каким учили его в школе.
– Их бин менш. Дизер канст нихт… Не умею.
Удар в живот. Темнота. Белобрысому почему-то нравился именно удар в живот. Одолевая кружение в голове, Володька снова потянулся к колесу.







