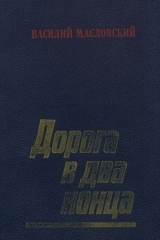
Текст книги "Дорога в два конца"
Автор книги: Василий Масловский
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 32 страниц)
– Чем бог послал. – Скуластое крупное лицо хозяйки красили черные, густые, будто тушью нарисованные брови. Освободила руку из-под фартука, отерла сухие румяные губы. – Може, и мово кто посаде за стол. Хлеба, извиняйте, нету. Есть, да такой – исть не станете. Картошку тоже немцы стрескали.
На печи шмыгали носами, выглядывали две чумазые мордочки, наблюдали, как дяденька в меховой жилетке выкладывает на стол мерзлый хлеб и блестящие кругляши консервных банок. Дяденька оторвался от своего занятия, прищурился в сумерки запечья, нагнулся над мешком. Его опередил лысоватый сержант – обдул и протянул на мазутно-черной ладони мохнатый, антрацитно блеснувший кусок рафинада. Глазенки-шилья в темноте запечья заблестели, раздался здоровый хруст и тут же голос: «Отдай! Маньке нужно. Поможет…»
– Соседкина девчушка занемогла. Об ней они, – пояснила хозяйка и заглянула на печь. – Оставьте уж. Отнесу завтра.
– Не трогай, тетка. – Лысоватый сержант порылся в мешке еще, нарушил свой запас. – Маньке. А вы ешьте. – Зашмурыгивая мешок, обернулся на печной закут, ласково помаргивая из припухших смеженных век.
– Разрешите! – В избу вместе с облаком морозного пара втиснулся приземистый плотный танкист в меховой тужурке. Пахнуло соляркой и кислой овчиной. – Начальство чую, а может, и еще что. – Широкое плоское лицо танкиста осветила пройдошливая улыбка, обшарил взглядом стол, скамейки, кровать. – Не сторожи глазами, люба. Свои люди, – подмигнул хозяйке.
– Здорово, коли не шутишь, – встретил Казанцев танкиста усталым, задымленным от еды взглядом. Он еще днем увидел в соседнем дворе танки и успел подумать, что за военное невежество – три танка ставить в один двор.
– Соскучился. Может, чего новенького окажешь. – Не сгоняя с плоского лица улыбки, танкист с солдатской бесцеремонностью втиснулся на свободное место у стола, налил в чужую кружку из фляги, крякнул аппетитно. – Загораю. Ни горючего, ни снарядов. И свои не знаю где. След потеряли.
Казанцев покивал, улыбнулся, одобряя фронтовую бесцеремонность танкиста.
– Мы вот тоже застряли в снегах, никак фронт не догоним. Ждать да догонять – распоследнее дело.
Заговорили о подозрительной активности немцев, видах на лето.
– А что им, окаянным, делать остается? Две зимы наших, два лета ихних. На третье надеются. – Бурцев отыскал корку на столе, откусил, стал жевать.
– Факты, факты давай! – Казанцев щепотью захватил из глиняной миски капусты, зажмурился, пережидая остроту кислого. – Ну, бомбит…
– Авиация не все, подполковник. – Танкист шевельнул тяжелыми крутыми плечами под курткой, налил себе еще, выпил не закусывая. – Дело табак. Застряли и стоим как привязанные. Горючее слили в исправные танки. Остальные, как мы. Кто где…
– Эх, окаянное дитя! – Не переставая жевать, сердито блеснул из глубоких глазных впадин Бурцев на танкиста. – Подвоз, застряли!.. Волк с хребта, а страх с загривка начинают кожу драть.
– Мы от баз, а немцы к базам – младенцу понятно, товарищ комиссар. – Танкист наставил крошечные запотевшие глаза на Бурцева. – И больное место не соли, комиссар, – без тебя потеет и чешется… Посошок. – Танкист еще приложился к кружке, крепко вытер мазутной ладонью рот. – Спасибо за угощение, подполковник. Сердцем отошел я, как-никак солидная часть. А то проскрипит обозик, рота маршевая – зелень огородная… Эх, горючего бы нам!..
Казанцев вышел вместе с танкистом. Меж туч ныряла неполная луна. В голубоватом свете ее блестели у порога и сарая зашерхлые лужи, за плетнем горбились осевшие сугробы. По ту сторону лога, где была школа, хрипло лаяла собака.
– Ну, как? – обернулся на стук забухшей двери Бурцев. В присмоленных морозом щеках его гнездились нездоровые тени от керосинки.
– Подмораживает. – Казанцев покосился на черные лики святых в углу, расстегнул ремень на гимнастерке. – Спим, комиссар. Как говорят, утро вечера мудренее, баба девки ядренее. – Потянул с гвоздя полушубок, устроился на лавке, где только что сидел танкист. Угревшись уже, отвернул ворот шубы, снова глянул на киот в тусклых ризах оклада.
Десятый век украшают они красные углы мужицких изб. Сколько моров, войн, бурь прошло над этой землей, а они все так же безучастно и холодно взирают на страдания и муки людские и так ни разу и не пришли на помощь, сколько их ни звали, сколько их ни просили. Потому, видно, и поставили их в угол, хотя и красный, как нашкодивших детей. Мать всегда перед праздниками протирала образа тряпкой от пыли и долго потом вопрошающе стояла перед ними, вспоминая, должно быть, молитвы, с какими она обращалась к богу. Глаза ее в эти минуты были тихими, покорными, укоризненными. Отец, когда замечал ее такой, насмешливо хмурил брови, жевал губами, вслух ничего не говорил. Сам он веровал или не веровал – молчал об этом, и наставление его: «Перекрести лоб, рука не отвалится» – звучало для Виктора в детстве неубедительно.
Казанцев поворочался, плотнее прикрылся воротом от лампы и тихой возни укладывавшихся спать солдат. Шерсть у рта запотела сразу, запахло теплыми кирпичами и кислым тестом, как в детстве. Мать всегда тесто ставила на печку и для тепла укрывала овчиной.
Как темнота на чахоточное жальце коптилки, на Казанцева накинулись думки. Они, эти думки, всегда сторожили его в такие тихие минуты. В боях проще. Там все идет незаметнее и шибче. И мысли там коротки и точны. Но как только выпадала хоть маленькая передышка – возвращалась потребность рассуждать, добираться до самого скрытого смысла разных явлений и обстоятельств. После фронта оставалось поруганное, выжженное, вытоптанное. А нужно было живое, чтобы жить, чтобы закончить войну, увидеть свой дом, детей, вернуться к своему месту на земле. Условия быта солдат, людей на освобожденных землях порою были самые невообразимые, нужно было, однако, все вынести и двигаться дальше… Был у него разговор с командармом. Давно. За несколько недель до начала. Встреча и разговор случайные. Казанцев приехал на армейские склады за автоматами для полка и попал к Павлову на завтрак. Говорили о том, что было у всех на языке: тревогах ожидания, о подступавшей войне. Говорили, и верили, и не верили, потому что у границы знали куда больше, чем те, кто судил обо всем по газетам и радио. Тогда, конечно, они и предположить не могли того, что выпало им сегодня… Все это мельтешило, плыло чередой перед закрытыми глазами. Видения выходили неясными, зыбкими. Время брало свое, да и куски воспоминаний, напластовавшихся после, тоже заслоняли возникавшие картины.
За стеной и над крышей со степным разбойным свистом проносился ветер. В его молодецкой ярости чувствовались отчаянная бесприютность ночи, пустота полей и близость весны.
Бурцев докурил цигарку у печки и тоже полез спать, втиснувшись между автоматчиками на полу. Минуту спустя он приподнял голову, нацелился на то место дубленки Казанцева, где должно быть его лицо, рассчитывая встретиться взглядом. Потом встал, подошел к лавке, напился прямо через край из чугуна. Вода была ледяная, отдавала пресным железом. У печки лысоватый автоматчик ковырял хворостиной в золе, курил.
– Не спишь, Сидоренко?
– Нога на погоду ноет… И детишек вот как вас вижу. Сыны у меня большие. Тоже воюют. Как ночь, так и приходят. Ей-богу. – Голые, без ресниц, глаза Сидоренко набрякли, покраснели, на небритых щеках запрыгали отсветы от печки.
– Поспи, – не нашел других слов замполит, прикрутил коптилку, лег снова.
Мохнатые угольные тени тотчас из всех углов накинулись на трепетное жальце, вплотную сдвинулись вокруг него. Стало тихо, как бывает только на фронте. Слышна стала война ветра с деревьями в саду, лопалась отогретая за день солнцем и запотевшая под снегом земля. В избе храпели, чмокали губами, бормотали.
Бомбовые удары разодрали воздух над самой крышей хаты. Первое впечатление Казанцева – вместе с хатой и всей слободой он летит куда-то вниз, в преисподнюю. И тут же в окно увидел подвижные лохматые полотнища огня во дворе и солдат, мелькавших в этих полотнищах.
За столом на кухне сидел вчерашний танкист в меховой тужурке. В глазах его еще не погас блеск чего-то веселого. У печки смущенно поправляла, одергивала юбку сзади хозяйка.
Через минуту Казанцев стоял уже затянутый ремнями и готовый ко всему. Вдоль улицы, косо распластавшись и посверкивая дюралем плоскостей, пронесся «юнкерс», чертя по девственному снегу впереди себя огненную трассу. Солдат у колодца с ведром упал, покатился, на спине у него дымилась фуфайка.
В слободе поднялась суматоха. Было видно, как по дворам мечутся солдаты. Обоз подвод с десяток спешно вытягивался на южную окраину слободы в сторону Барвенково. Над Лозовой стыла тишина. Серое, мозглое небо над станцией было пустым. Элеватор стоял нетронутый, и никто его больше не тревожил.
Казанцев глядел на слободу в сугробах и поздних дымах, на безмятежное сияние снегов за нею, и неясная тревога овладевала им. Чувство где-то чего-то случившегося и неизвестного им здесь холодком обкладывало сердце, наполняло тело знакомой по опасности пустотой и легкостью.
С этим чувством ожидавшей их и неизвестной им опасности и выступил полк из слободы.
За Лозовой полк Казанцева задержали. Распоряжался высокий молодцеватый полковник в черной бекеше с меховой оторочкой по бортам, летной фуражке и хромовых сапогах со шпорами.
– Поступаешь в мое распоряжение, подполковник.
– У меня своя задача. Дивизия у Краснограда!..
– Немцы прорвались, и задача у всех одна, подполковник: задержать их. Сколько у тебя людей?.. Вооружение?..
Вдоль коричневого лозняка в снегу по макушку в две шеренги – солдаты. К ним присоединяются все новые и новые, идущие в одиночку и группами с северо-запада. Всех заворачивали без разговора, ставили в эти шеренги. Выходил капитан, размашисто, избочась, шагал вдоль строя: «Раз, два… двадцать, тридцать! Взвод! – Прыжок глазами по строю. – Командир взвода! Марш занимать оборону!.. Покажут!.. – Взвод уводили. – Раз, два!..»
Распоряжались, видимо, люди энергичного полковника. У перекрестка окапывали 37-миллиметровые зенитки и сорокапятки. Стволы направлены на широкий, как речной плес, накатанный полозьями и скатами машин выход из синеватого леска впереди.
Над зенитками серебристо брызнул разрыв бризантного пристрелочного снаряда. Солдаты у орудий, люди полковника, сам полковник оторвались каждый от своего дела, обернулись на грязное облачко дыма. Вслед за бризантным в утреннем воздухе тупо отозвались залпы невидимых батарей, и над дорогой, где застрял полк Казанцева и где все это происходило, с ленивым клекотом прошелестели снаряды дальнобойных и через время отозвались, должно быть, в слободе, где они были утром.
В полдень над позициями полка, в бледной просини неба, стали проходить самолеты. Шли на юг и северо-восток. На снегу они хорошо видели очертания спешной обороны, но, натужно подвывая моторами, проносили свой груз дальше.
Скрежет лопат о мерзлую землю, выхлопы застрявшей где-то в овраге машины, голоса солдат впитывались стынущим безмолвием, которое накатывалось из-за высветленной солнцем снежной кромки горизонта и откуда вырастали и растекались по небу черные кресты самолетов. И безмолвие это неприятно давило на уши, заставляло вслушиваться, вздрагивать.
Так простояли весь день. За посадкой и у самых окопов дымились костры. Солдаты грелись, кипятили чай. Закат был красным – на холод. Кайма леса горела от него. Красные отблески неба ложились на лица солдат, зенитки, сорокапятки у перекрестка, тронутую свинцовым ледком луж дорогу.
– Плохая тишина, – дымили махоркой опытные сталинградцы.
– Что уж хорошего. Ты его ждешь спереди, а он тебе с хвоста – здрасте.
– Говорят, где-то у Красноармейского и Павлограда танки вперед выбросили. Танкисты открытый текст перехватили… Есть хотите? – Из кармана бекеши полковник вытащил полкруга колбасы, половину отломил Казанцеву, стал есть без хлеба. – Надолго их не хватит. Факт. Но шороху они наделают и уже наделали… Связи никакой – вот что. Действовать приходится самостоятельно.
Полем в горбатых тенях сугробов к перекрестку, где стоят пушки, выходят лыжники. Человек двести. В маскхалатах, с автоматами, молодые, крепкие, как на подбор.
– Командир лыжной бригады, – представился полковнику приземистый, как и его бойцы, крепыш. – На Балаклею выходим. За Донец. Приказ… Барвенково уже у него. Танки…
За спиною лыжников, высвечивая низкую линию горизонта, поднимались два круглых зарева. От них, будто огромные чугунные шары по мерзлой земле, на север я на юг раскатывались далеко слышные на морозе неровные гулы.
– Обходят. – Движением бровей отметил эти гулы и зарева командир лыжников и, плюнув через руку с палкой, стал вертеть цигарку.
Не выпуская палок из рук, лыжники покурили, перешли синюю в зашерклых лужах дорогу и скрылись в крутобоком сумеречном яру.
С темнотой снялся с позиций и полк Казанцева. Вернулись назад и в полночь прошли Александровку. Казанцев забежал в дом, где ночевали, и не узнал ни хозяйку, ни детей. Они не спали, были одетые, ко всему готовые. На лицах холодок и отчуждение. Такие лица Казанцев видел в сорок первом – сорок втором годах летом. У калиток стояли женщины, дети, старики. Из колонны выламывались одиночками и группами солдаты, подбегали к калиткам, заходили в дома и догоняли, с добычей или без добычи.
– Его верх, значит? – задержал у крайнего двора вопросом старик. Казанцев приостановился, встретил колючий взгляд старика. «Его!» Ничего не добавил и побежал дальше.
Колонна миновала обрытую снегами балку. Из-под слежавшегося наста щетиной торчали ветки кустов, мертво хлопали друг о друга. От них тянуло терпкой горечью древесного сока, напоминавшей о жизни, какая билась в этих голызинах и на дне самих балок.
Казанцев, по привычке, шел пешком в голове колонны. Время от времени останавливался, пропускал колонну мимо себя, глядел, как вразнобой покачиваются горбатые от мешков спины, слушал овечье покашливание и нестройный скрип снега под сотнями ног. Шли свободно, не придерживаясь равнения, только обозначая колонну.
По бокам справа и слева беззвучно и кругло вспыхивали далекие и близкие варницы, и по низким облакам сползали их красноватые отсветы. Временами из оврагов или балок по сторонам и впереди вырывались вдруг и слепо обшаривали небо вилюжистые строчки пулеметных очередей. Звуки до колонны доходили с опозданием.
– Опять драпаем. – Квадратный, толсто одетый солдат впереди Казанцева шагал валко, по-мужицки упористо.
– Листовок начитался?
– А ты кто – стукач? – теряя клубочки пара, повернул голову толсто одетый солдат.
Казанцев тоже читал немецкие листовки. Много валялось их на дороге и прямо в степи. «Сталинградские бандиты! Возвращайтесь лучше в свои мякинные избы к толстозадым бабам. Ваше время кончилось. Теперь мы начнем с зимы и устроим вам праздник на вашей улице. Кровью харкать будете!..»
– Это уже не агитация, а безобразная ругань, – отмечал содержание этих листовок Бурцев, и в продольных грубых морщинах его лица отражалась та же оценка. – Не хватает только осинового кола. Интересно, кто им пишет эти листовки?
– Силы не те, а наглость прежняя, – соглашался Казанцев, и занемевшие на холоде губы его морщила усмешка.
Казанцев заметил, что солдаты воспринимали листовки не как год или полтора назад. Видеть не видел, но по разговорам чувствовал, что читали их почти все.
Густой хриповатый басок впереди убеждал:
– На твою тыкву полтора года мало, и после Сталинграда ничему не научился.
– Научился, – как от назойливой мухи, лениво отбивался толсто одетый солдат. – Танки в деревне остались, а мы с тобою снова на восток наступаем.
Танки в Александровке действительно остались. Экипажи с бравым лейтенантом влились в полк Казанцева и шли сейчас с третьим батальоном в хвосте колонны.
В спину ударили мощные снопы света. Казанцев оглянулся – сквозь людское месиво продирался трофейный «опель». В разящих белых лучах фар дымился парок солдатского дыхания, потных спин, морозный туман. Качались, прыгали мешки за плечами, мельтешили винтовки, пулеметы. Солдаты одинаково зло оборачивались на этот свет. Мохнатые рты в подшлемниках серебрились инеем.
– Совсем опупел!
– Дай ему раза по гляделкам!
Рядом о дорогой легла серия снарядов. Свет погас. Громче закашляли, заскользили, ругаясь. Стало еще темнее. В машине везли раненого майора. На вопросы, что и как, толком ничего не ответили. Но подтвердили приказ выходить за Донец.
Казанцев подождал свои санки. Ноги закопал в сено, лицо закрыл воротом полушубка. Потянуло в сон. «Неужели все снова перерастет в большую беду, как это было в прошлом году? – тревожно думалось сквозь дрему.
В прошлом году тоже начиналось в этих местах… Позже, в мае…»
За полночь мороз окреп до звона. Под ногами хрустело.
Неожиданно по обе стороны дороги возникли и, разрастаясь, потянулись к тучам огни близких пожаров. Горели деревни, черно выделялись нетронутые огнем постройки. По улицам мельтешило, появлялось и исчезало что-то похожее на машины, в просветах меж домов пробегали человеческие фигуры. Красные отсветы пожаров плясали на глянцевитом снегу, далеко вытягивали тени, сгребали к дороге, где шли обмерзшие, уставшие и голодные люди; по-особому глухо стучало дерево повозок, и визгливо пели колеса; раскатывались по наслузу военные без подрезов сани; буксовали машины. К дороге огненной поземкой с двух сторон понеслись пулевые трассы, звучно лопались на морозе снаряды невидимых за домами танков. Стало понятно мелькание на улицах. Обычная тактика немцев: за пределы деревень не выходили, ночь в союзницы не брали.
К Казанцеву подошел щеголеватый, юношески тонкий в талии лейтенант Раич. Ворот полушубка у рта оброс инеем.
– Может, снять с передков пару пушек?
– Чему это поможет… Им только на руку. За домами один черт не достанешь. Сейчас спустимся в лог.
Раич вернулся в полк после госпиталя в Красную слободу. Лицо стягивали розовато-синие рубцы – следы боев 23 августа под Вертячим, когда его батарея встала на пути осатанело рвавшегося к Сталинграду 14-го танкового корпуса немцев.
Сейчас батарея Раича двигалась в середине колонны. Выносливые калмыцкие лошадки обындевели, пофыркивали.
Колонна спустилась в лог, ушла из-под обстрела. Казанцев и Раич сошли в нетронутый снег, остановились закурить. Обжигающий ветер достигал и внизу, рвал из-под ног солдат снежную крошку, с жестяным шелестом ручейками мел ее по слюдяному насту.
Последние два дня наталкивали на размышления и выводы самые противоречивые. По сводкам, Казанцев знал, что передовые соединения Юго-Западного фронта в районе Днепропетровска выходили к Днепру, а войска Воронежского – к Полтаве. Выход к Днепру наших войск рвал связи немецких групп армий «Дон» и «Центр», рассекал их и открывал возможности освобождения всей Левобережной Украины. Перспективы радужные. Однако ни Казанцев, ни Раич и никто другой на этой дороге не знали, что немцы, оценив угрозу, перебросили на эти участки войска из Западной Европы и наличные резервы и что 17–19 февраля на совещании в Днепропетровске, в котором приняли участие Гитлер, Манштейн, Клейст, Йодль, было принято решение наступать. И 19 февраля утром танковый корпус СС начал наступление из Краснограда на Павлоград и Лозовую и к исходу дня достиг уже Новомосковска. 22 февраля навстречу корпусу СС из Чаплино на Павлоград и из Красноармейского на Барвенково стали наступать 48-й и 40-й танковые корпуса немцев. В этом весенне-зимнем наступлении врага участвовало до 800 танков и 750 самолетов. Казанцев и Раич в эти минуты на зимней дороге не знали также и того, что им, как и в мае 1942 года в этих местах, здорово повезло: как и тогда, они едва выскочили из мешка, как он зашморгнулся у них за спиною.
Утром 23 февраля под Балаклеей полк вышел на тылы своей дивизии, а в полдень начал переправу через Северский Донец на восточный берег.
Под прямыми лучами солнца степь освобождалась от снегов. По косогорам проступали полосатые, со снегом в бороздах пахотные поля, изумрудные в струистых клубах испарений зеленя озимых, желтая ветошь неубранного жнивья. По колеям дороги бежали ручьи, горели на солнце лужи.
Солнце заливало маревную пойму Донца. Деревья, стога сена, огорожа крайних домов стояли уже в воде. И над всем этим клубились пронзительно-синие, будто выполосканные в щелоке, кучевые облака. Под облаками дымно скользили их тени.
– Тепло идет, товарищ подполковник, – житейски запросто обратился к Казанцеву лысоватый Сидоренко, распрямил сутуловатую мужицкую спину, сбил шапку на затылок, жмурясь на солнце, приналег на черен крестьянской лопаты, добытой явно у какой-нибудь тетки так, чтоб «не бачила». Шинель и винтовка его лежали на снегу перед черным воротом мерзлой земли, обозначавшей окоп. С выброшенной земли, спины и лба сержанта, вытертого и обтерханного до блеска дула винтовки волнисто стекало первое тепло весны.







