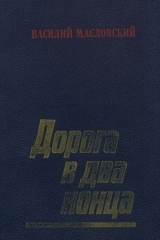
Текст книги "Дорога в два конца"
Автор книги: Василий Масловский
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 32 страниц)
Глава 2
Волнистыми буграми, яругами и балками, будя призрачную тишину полей, пришла весна и на Дон, в родные места Виктора Казанцева, в хутор Черкасянский.
Сырой ветер по ночам зло рвал крыши хат, голые деревья сада, съедал рыхлый ноздреватый снег, который с хрустом оседал по логам и балкам, вытаивая трупы своих, немцев, итальянцев, румын. Сразу же после декабрьских боев прибрать всех не успели, да многих по дальним местам и не могли отыскать под снегом, и теперь весна хоронила их по-своему: заносила песком, глиной, разлагала, размывала по частям. А дома их долго еще будут ждать, числя в пропавших без вести и надеясь. Призраками стояли в голой степи остовы обгоревших танков, врастали в землю пушки. Плотный южак похоронно свистел в железе, приносил из далеких просторов древний дух талой земли и терпкий – набухающих почек тополя и клена. У гусениц танков, хоботов пушек стекловидный наст просекали жальца первых озимей. Сюда малиновыми зорями приходили жировать и кормиться отощавшие за зиму зайцы. Новым, живым тянуло из мертвеющих в зиму полей на Черкасянский. Теплый южак напоминал: глухая зимняя пора кончилась.
Петр Данилович Казанцев мучился бессонницей, катал голову по пахнущей пером и потом подушке, выходил на крылечко покурить, слушал поднебесный гул воды на лугах и в вербах, скрежет льдин на реке. С крыши хаты дремотно падала капель, долбя в сером грязном снегу глубокие лунки. По хутору жидко перекликались петухи, жалуясь на свою холостяцкую жизнь, не слышно раннего кашля по дворам. Крестьянин привык с утра поговорить с живностью, заряжаясь добротой на весь долгий день. Теперь редко в каком дворе солдатка или дряхлый дед-хозяин уговаривал оголодавшую корову подвинуться. Нынешней весной люди разучились разговаривать по утрам и ходили потом весь день потерянные, злые.
Стоя на крыльце и мучаясь удушливым кашлем, Казанцев крепче затягивался самосадом, слушал, как ходил ветер под застрехой, вытряхивая оттуда воробьиный помет. Забот не убывало и зимой, весна несла с собою новые. В МТС до голубых сумерек звенели ключи и молотки. Тракторов и раньше не хватало, теперь приходилось из двух-трех лепить один. Ни семян, ни тягла, ни людей, а пахать нужно, и победе прежнего. Земля и так дичать стала, появились пустоши; как вошь на человека в тоске, набрасывались на нее бурьяны.
Вчера на собрании галдели до петухов. А что выгалдели!..
– С крику и цыган не богатеет, – усовещивал черкасян секретарь райкома Юрин. Еще довоенный синий шевиотовый пиджак трещал по швам, с трудом удерживая разворот пополневших плеч. Война словно бы придавила его вниз, подала вширь. Попросторневшая круговина лысины дымилась испариной. – Солдат, рабочих, самих себя кому кормить?! Украина, Белоруссия, Курщина у немца! Кубань, Дон только освободили! Не лучше нашего зараз везде. У вас хоть лошади, быки на базу стоят!..
– Мы в декабре пузом печь не грели!
– Мужики бирюками в степе пропадали! Ловили окаянных!
– И хлебушка из-под снега хоть немного, да добыли. У соседей и того нет. Делиться!..
– Не добытчики мы им!
– Нехай берут свое в поле!
– Головой думать!..
– Бабу в председатели выбрали! Мужика не нашлось им!
– Гнедого им, Андриана Николаевича!
– И-и… шалава, на людях такое!
– Замолкните!.. Рукавицу в рот ей!
Колыхали спертый воздух выкрики.
– Сегодня вы им, завтра они вам! – Подглазные мешки на одутловатом лице секретаря почернели, обвисли, вертел шеей в тесном вороте, вглядывался в распахнутые криком багровые лица черкасян. – Написали письма в Сибирь, Среднюю Азию. Просим семян, помощи инвентарем, тяглом. Но когда это будет, а земля не ждет. Государство обещает на посев, но опять же доставка. Дороги плывут зараз! У вас просить будем. Из ваших запасов. Землю на ноги ставить нужно. Озимых ни клина. Одна надежда на яровые. Мясо, молоко, шерсть!..
– Сатаны его батьку!
– На Хомовне шерсти!
– Да тут хоть в пень, хоть в ворота, а все баба криворота!
– Порушил землю немец, – врезался в бабий гвалт скрипучий голос старика Воронова. – А править нам ее. Нам жить на ней и кормиться дальше!
– У тебя, Марья, четверо солдат. Кому кормить их?!
– На коровах, какие уцелели, и будем пахать!
– Ну и ешь молоко тогда!
– Спрошу! И сам спрошу, и государству сдашь! Эх-х, Мариша, куда денешься?!
– Сам стрескай!..
В конце собрания объявили сбор теплых вещей для солдат. Ответили вздохом.
– Хватились! Зима кончается! – упрекнули из перепревшей духоты.
* * *
Казанцев кинул цигарку на облитый помоями сугроб, скрутил новую. От долгого стояния на месте затекли ноги, нахолодала спина. Поправил на плечах фуфайку, поискал глазами Волосожары. Они прятались в белом тумане, поднимавшемся с земли, и он не сразу нашел их.
В сарае, чуя хозяина, уже давно призывно мычала корова. Его появление с тощей охапкой огребков встретила недовольным пыхтением: «Кормите впроголодь, а молоко спрашиваете!» Петр Данилович понимающе вздохнул, отвернулся, избегая укоризненного взгляда кормилицы. «Сама видишь непоправку нашу!..» Корова ответила глубоким вздохом: «Ладно. Давайте уж!» – и начала жадно жевать, уминая мордой в яслях, чтоб не выпало.
Управился, пошел в прокисшее тепло хаты.
Утром Казанцев подчищал навозную кучу, обкладывал ее желтым от коровьей мочи льдом, когда подошел старик Воронов. Старик, по привычке, помял в сухой горсти рыжий в подпалинах лоскут бороды, поскреб ногтем рукав выношенной шубы.
– Тут дело такое, Данилыч. Куликову Лукешку обыскивать надо итить, – сронил будто нечаянно и неохотно.
– Как обыскивать? Зачем? – Казанцев приставил к ноге лопату, поправил на голове малахай.
– Гусак пропал.
– Какой гусак? Что мелешь спозаранку?
– Марья Ейбогина за двором стоит, – Старик показал щетинистыми бровями за сарай, глаза его мутно заслезились. – Гусак пропал у Паши́. Марья не догадалась бы, а Паша́: Куликовы гусака съели. Боле некому, мол. – Потеснил Казанцева в сарай, виновато пожевал вялыми в рыжине веснушек губами. – Придется итить, Данилыч.
– Я тут при чем? – никак не мог понять Казанцев. – В милицию нехай идет. В район.
– Ты у нас зараз все, как говорил Некрасов: бог, царь и господин.
– Ты, Севастьяныч, совсем стареть стал…
– Власть, словом. Вот и идем.
Лукерья Куликова встретила гостей у порога, несла щепки в заполе и куски сухого кизяка на поджижку.
– Здорово ночевали. Вчера о полночь из станицы вернулись. Припозднилась. Стряпать вот собираюсь. – Свободной рукой поправила платок. Глаза понимающе тревожно забегали с лица на лицо. – С чем пожаловали?
– Да вот хотим борщ проверить у тебя. Стоит в гости к тебе напрашиваться аль нет? – Шутка не получилась. Казанцев потеребил махор на месте выдранного крючка на шубе, вздохнул тяжко. – Марья грешит на тебя. Гусак пропал. Вы, мол, зарубили.
Худая, высокая Ейбогина концом полушалка вытерла посиневший на холоде нос, молча кивнула.
– Пошли, проверяйте.
В глазах Лукерьи, как показалось Казанцеву, мелькнул задавленный стыд и страх. Она опустила голову, первой взошла на шаткие ступеньки крылечка.
– На шестке мой борщ. Смотрите. – Куликова выпустила концы подола, кизяки и щепки высыпались на пол.
На печи засопели, заворочались.
Казанцев взял ложку, снял кружок с чугуна на загнете, опустил в него ложку. Ложка застряла, зацепилась, мелькнула крупная птичья кость, облохмаченная мясом. Куликова замерла, вытянулась, затылком уперлась в беленый стояк. С печки на Казанцева с интересом уставилась замурзанная сытая мордочка самой младшей дочурки, Лукерьи. Казанцев толкнул кость на дно, помутил сверху, разгоняя оранжевые скалки жира.
– Пустые шти. Можешь смотреть, Марья.
– Чего смотреть – раз нет, – отозвалась Ейбогина от порога. – Извиняй, Кондратьевна, за беспокойство. – Задом толкнула набухшую дверь хаты, вышла. Воронов за нею.
Лукерья настигла Казанцева в сенцах, уцепилась за рукав.
– Виноваты. Сенька окаянный, старшак мой. Черный на печи, не показывается. Ухват обломал. Ох, господи!.. Пока в станицу за семенами ездила, он и обстряпал все. Покормить решил. Оголодали детишки. Сам знаешь, сколько их. Не управляюсь с ними. Ох, Данилыч, как же я на люди покажусь теперь. – И затряслась вся, не сдерживая рыданий. – Не дай бог стороной как-нибудь узнает. Срам-то какой!.. Найдутся ить, напишут!..
– Не казнись, Лукерья. Твоей вины тут нет. И он мальчишка. – Глядя в мокрую синюю клетчатку под глазами Лукерьи, Казанцев подумал, какие же силы нужно иметь детишкам нынешним: и голодные, и немытые, и домашние хлопоты на них, а чуть поднялся – и на колхозную работу пора. Растут без отцов, матерям на все край не разорваться. – На разминирование не ходи, как вчера на наряде говорили. Руки трясутся у тебя. Лещенкова пойдет. У нее и детишек нету. – Оступился в лужу у порога, пожмурился в сиреневую даль полей, откуда ветер убрал уже ночное покрывало тумана. По бугру голубела обледенелая грязная дорога, плешинами белел последний снег по пахоте. – Тепло, Лукерья, теперь выживем. Чего-нибудь намолотим из пшеницы, какая под снегом оставалась. А там зелень пойдет. Не пропадем и им пропасть не дадим.
«Им» – это тем, кто на фронте. За войну выработался особый язык, понятный всем. Третьего дня получил первое за всю войну письмо от старшего сына Виктора. Под Балаклеей на Донце зараз. Про семью спрашивает. Как прощались, мол, уговор был на Дон пробираться. А когда это было? Два года назад? Да при такой-то заварухе!.. Что-то стронулось в его неломкой душе последнее время. Горячая боль колом уперлась поперек груди, померк свет в глазах… Младший, Андрей, тоже там, на Донце.
В калитке больно зашиб коленку о подгнивший столб-стояк, морщась, отвернулся к шедшей сзади Лукерье:
– Управляйся, Кондратьевна, и с серпом в поле. Будем дожинать клин поверх яра.
* * *
Казанцев издали увидел цепочку стариков и баб на ржанище у Максимкина яра. Цепочка колыхалась, подвигалась к балке. По бокам балки еще лежал снег клочками, как шерсть на линючей овце, желтый, бессильный. По дну ее, выгоняя на забереги рыжую пену, ревела вода. Старый остистый ковыль сох на ветру, седым отливом обозначал возраст земли.
У края ржанища на сухую убитую ногами площадку, выдирая ноги из тягучей фиолетовой грязи, подходили колхозники, складывали срезанную рожь.
– Сохранилась как, едят ее мухи, – тронул кончиком языка желтый обкусанный ус Галич. Монгольские скулы его потемнели под солнцем. В раскосых глазах отражалась мартовская синь неба. – На диво сохранилась, Данилыч. Зерно все в колосе. Даже лучше, чем в свою пору.
– И не полегла. – Лихарева положила охапку свою, отряхнулась, поправила волосы под платок. – Размещай, дедуль. Расправляй.
Дед Куприян с трудом передвигал негнущиеся ноги в валенках, обшитых кожей, граблями подправлял колос к колосу, срез к срезу, ворошил, чтоб быстрее просыхало. Ватник на спине деда зиял дырой с кулак. Края засмоленные.
– Вроде и не куришь, дедуль? – потрогала дыру Лихарева.
Старик повернул к ней сморщенное, в белесой поросли лицо, затрясся обиженно.
– Люди добрые курють… Макар Пращов, как сюда ехали, собе штаны спалил и мне трату какую сделал. – Выцветшие глаза деда слезились, губы дрожали.
– Ничего, дедуль. В обедях залатаю. Иголка у меня с собою, – пообещала Лихарева.
После гибели сына она сморщилась, сжалась, пожелтела, как трава, прибитая неожиданным и сильным морозом. Но жизнь не останавливалась, нужно было ставить на ноги еще троих, и она пошла к людям.
Пообещав старику починить одежду, Лихарева спросила Казанцева, где будут молотить вырученную рожь.
– На месте. Как делали, так и будем делать, – сказал Казанцев. – Возить некуда, да и не на чем. Сушить на печах, на полу в хатах.
– Да на него и на этот хлеб поставки есть?
Широкая в узлах вен рука Казанцева сдвинула с потного лба малахай. Перед глазами встала замурзанная сытая мордочка Лукерьиной дочки, мужское сопение Сеньки на печи. Сама Лукерья стояла в стороне сейчас, обматывала пораненную ладонь тряпкой.
– Дадим и на семьи. По едокам учитывать будем. Лишку сами не возьмем. Не от кого брать. Всем зараз нужно.
– У соседей пуп треснет с нашего хлеба. У самих стоит такой-то. Нечего на чужом горбу.
– Стешка Комарова была хоть раз в поле? А жрать давай!
– Не по совести будет, Данилыч, со Стешкой-то.
– Детишки за мать не ответчики, бабы. – Казанцев размял колос на ладони, провеял, кинул зерна в рот, стал жевать медленно. – Мишка ейный на фронте.
– Ее, хлюстанку, за игру с тальянцами проучить надо.
– Мишка и нехай учит, живой вернется. А за детей с нас спрос.
– А что, если косами с крюками косить? Как в старину. Спорее, Данилыч.
– Так-то оно так, только сыпаться будет.
– Попробовать можно.
– Эх-х, убрать бы все до зернышка.
– Будем убирать, сколько сил есть.
– Новую пора сеять, огород сажать, а их не сто, рук.
– А месяц – казачье солнышко на что? Не спи да не ленись – сыт будешь.
– Тут и без ночи, едят его мухи, кожа трещит. Весу как в петухе-волоките. – Галич поднял серп, оставляя ошметки грязи, побрел к вымоченной дождями и снегом стенке ржи. За ним тронулись и остальные.
Расталкивая гулы воды по ерикам, над степью и логами прокатился тяжкий взрыв. Дед Куприян упал на карачки с испугу. Казанцев резко обернулся. Над рыжей шишкой кургана Трех Братьев оседал черный столб дыма.
– Неужто Варька Лещенкова? – Лукерья Куликова прижала крестом руки к груди, обмерла. – На Лофицком яру и противотанковые мины стоят.
– Не трогать бы их, эти мины.
– Жди саперов, а сеять нада!
Над курганом, куда все смотрели, поднялся и вытянулся по ветру белый хвост дыма – условный сигнал.
– Живые, слава богу, – вздохнул Петр Данилович, вытер шапкой присмоленное первым загаром лицо.
– С нею и баба Паши́. Сама назвалась.
– Знаю. – Казанцев поместил шапку на затылок, задрав голову.
Солнце сбивало в голубые клубы редкие облака, теснило их к горизонту. Низом на лугу и по буеракам ровным гулом выстилался рев воды.
* * *
Казанцевы укладывались спать, когда в забеленное заморозком окно горницы настойчиво постучали.
– Кого ишо бог несет? – Петр Данилович бросил снятые ватные штаны на стул, нерешительно почесал бороду. – Погляди-ка, мать.
Сухонькая, подвижная Филипповна докутала чугун с тестом на лежанке, нагнувшись, приникла к окошку, прилаживая щиток ладони ко лбу, чтоб не мешал свет. Плотные тени построек крыли засмуглевшую землю. Посреди двора синевато мерцали лужи. Окно закрывала огромная неуклюжая фигура. На плоском, прикрытом шапкой лице беззвучно шевелились губы.
– Кажись, солдат какой-то.
– Открой да посмотри. Зараз их много шатается по разным надобностям.
Открывать пошла Щура, дочь-подросток. То все нескладная, большерукая, а за осень и зиму закрутела, налилась, что лесовое яблоко-зимовка. Углы куда и девались?
В сенцах послышались возня, испуганный вскрик, потом радостный смех, слезы. Дверь отворилась, и, пригибаясь, чтоб не стукнуться, порог переступил солдат с мешком за плечами. Из-за спины его бурей вырвалась Шура, налетела на мать, схватила, закружила за плечи отца.
– Андрюшка! Андрюшка пришел!.. Что же вы стоите?!.
Филипповна охнула. Где стояла, там и села. Петр Данилович запутался в штанине, чертыхаясь, запрыгал на одной ноге.
– Ну, что ты скачешь?! Матери плохо! – носилась по горнице и кричала на всех Шура.
– Ничего, ничего, – попробовала сама встать и поднялась с помощью Шуры Филипповна.
– Чего переполошились, забегали? – Голос Андрея с мороза был густой, звучный.
Сухой жар лежанки до слезы защекотал ему ноздри. Орудуя одной рукой, он смахнул из-за плеча мешок солдатский, стянул с головы шапку, поискал глазами и повесил на гвоздь рядом с отцовой.
– Здорово живете!.. Спали уже?
– Собирались… Да ты раненый! – Шура кинулась помогать брату, потянула за рукав нахолодавшую мерзлую шубу.
– Осторожно… Бинты сползают.
Шура кинула солдатскую одежду на кровать. На груди Андрея заблестело, звякнуло. Ероша здоровой рукой волосы, он спотыкливо окрутнулся, стал посреди горницы.
– Да у тебя и нога, никак? – сумел-таки одеть штаны отец и кулаком раздвигал усы в готовности. Губы то вытягивались, то сжимались, не находили себе места.
– Всего понемножку, батя. – Затвердевшее на холоде лицо Андрея плющилось в улыбку. – А ты, я вижу, молодцом.
– Куда денешься, сынок? Да чего ты крутишься, мать?.. До чего бестолковый народ, эти бабы!.. Спроси, может, поесть али еще что? – Петр Данилович деланно грозно хмурился, а сам с трудом удерживал дрожь в подбородке и все никак не мог попасть последней пуговицей в петлю на штанинах.
– С едой не спешите. Знаете, с кем я пришел!.. Калмыков Иван Куприянович. Правая рука по плечо.
– Ну?.. Это где же вы с ним?
– В Миллерово на станции встретились.
– А попортило тебя?
– Под Красноградом. Своих выручать ходили на танках.
– Вот радости-то бабе Калмыкова…
– А детишки?
– Ну ты, мать. Соловья баснями не кормят… Я в кладовушку. Там у меня в кошеле с пшеницей. – Отец сладко прижмурил глаза, причмокнул губами. – А ты на чердак, не то в погреб живой ногой.
– Может, завтра, дед. Люди придут.
– Завтра бог даст день, бог даст и пищу. Иди, иди. – Радостно суетясь, старик выскочил в сенцы, загремел натемно в кладовке и через время вернулся, оглаживая ладонью пыльную литровую бутыль с кукурузным початком в горлышке.
Андрей развязал тем временем мешок, выкладывая подарки.
– Да брось. Чего ты завелся. Садись, посидим, – пристукнул отец бутылкой о стол и крепко потер, как с мороза, ладони. – Мать, ты где?.. Да собери на скорую руку, а то пойдут люди и не побалакаешь. Не гляди, что поздно. – Сам полез в стол, достал хлеб, сало. Радость на крыльях носила его по хате, не мог усидеть на месте, не терпелось скорее за стол, чтобы начать настоящий мужской разговор.
Андрей подал не отходившему ни на шаг и шмыгавшему носом Петьке губную гармошку, Шуре – кусок серебристого парашютного шелка: «На блузку».
– Это тебе, мама (три куска хозяйственного мыла), ну а это… – Андрей встряхнул за плечи новенькую гимнастерку, подал отцу. – Только погоны сыми.
– Одели-таки? Эк чертова работа… Спасибо, сынок, – повесил гимнастерку на спинку кровати: не до нее все-таки. – Садитесь, садитесь… Ну что я казав…
В сенцах загремело, и в кухню рыжея бородой торчком вперед вступил старик Воронов.
– С прибытием, Петрович! А остальных с радостью! – гаркнул щербатой пастью с порога, отвернул полу шубы, извлек из кармана бутылку. Потоптался, кинул шапку, шубу к служивской на кровать. – Ты знаешь, кого я встретил зараз?.. Калмыкова!.. Дом качается, ей-бо. Баба как с ума спятила: то воет, то смеется. Детишки виснут. И до се не разобрались, должно, что он с одной рукой.
– Слава богу, живой… Ну, давайте. – Рука Петра Даниловича со стопкой тряслась, как ни старался он удержать ее. Глаза набрякли, блестели слезой. – Бери, сынок. С прибытием…
* * *
Проснулся Андрей поздно от непривычного сухого тепла и тишины. Под окном заорал петух. По потолку рябили зайчики от луж. Яркое солнце заливало мокрый двор, горело на последках снега под плетнем и в бороздах на огороде. На кухне приглушенно гудели голоса.
Прислушался. Грудной ломкий голос заставил вздрогнуть, суетливо зашарил руками штаны.
На кашель вбежала сияющая праздничная Шура. «Ладно. Ладно!» – замахала в хмурое лицо брата.
– Хотя бы сказала. Мне теперь и не умыться.
– Сюда принесу. Может, перевязать помочь? – Шура передернулась вся, видя, как Андрей поправляет бинты на ноге, будто у нее самой отдирали всохшую в рану повязку. – Давай помогу… Пусти, нас учили.
– На ноге все. Руку поправь. Ага! Хорошо, хорошо!
Мать улыбнулась ему от печи, задвигались, закашляли на лавках одетые и в платках женщины, у чугуна с водой дрогнула и прищемила губу изнутри Ольга Горелова. Смуглые щеки ее так и полыхнули нестерпимым жаром истомного беспокойства и страха. Зоркие глаза враз отметили и мыльную пену седины на висках Андрея, и чужие резкие складки в межбровье, и туго обтянутые в морозном загаре скулы. В горле горячим комом застряли слезы, еле удержалась.
Высокий, прямоплечий, золотисто-карие глаза вприщурку, Андрей поздоровался со всеми, хотел скрыть волнение, покраснел, и все, сидевшие на кухне, не сговариваясь, посмотрели на Ольгу, глаза которой, помимо ее воли, открылись еще шире, сияли радостью. Андрею захотелось сказать что-то женщинам. Слова застряли в горле, и он, припадая на правую ногу, вышел во двор.
«Вот он какой у меня сын, полюбуйтесь!» – Румянея морщинистым добрым лицом, горделиво глянула на всех и по-молодому загромыхала у печки ухватами Филипповна.
После завтрака сидели в жарко натопленной горнице. Люди приходили, уходили, говорили про войну, как жили при немцах, итальянцах, про то, как бедуют сейчас, живут письмами-треугольниками, допытывались, как на фронте, как солдаты. Андрей избегал говорить о страшном на войне, но его подталкивали вопросами, и он втягивался в такой разговор.
– Дошли до Харькова. А тут… в окружение попали наши, послали на танках выручать их. Там меня и ссадили.
– Как?
Ольга не спускала дышащих зрачков с Андрея, сглатывала сухо. Слушая Андрея, она думала не о попавших в окружение солдатах и танках, посланных им на выручку, а о лютом морозе, темноте, снегах, жалела Андрея и страдала сама, пугалась и переспрашивала непонятное ей.
Андрей украдкой отмечал перемены в Ольге: округлилась в плечах, груди волнующе-женственно пополнели. И с лица сменилась, будто новое понесла в себе что-то.
– Очень просто. – Ноздри Андрея шевельнулись, потянул в себя тепло, придвинулся со стулом и прижался спиной к горячему стояку печи. – Холод выходит из меня, – смущенно пояснил свою слабость. – Разрывом снаряда сбросило меня с брони. Очнулся – не ворохнуться. Рука и нога. А мороз!.. Небо – как стекло, аж звенит. Звезды помаргивают, как из проруби. Ну что? Чувствую, заметает меня в сугроб. И не крикнуть: свои или немцы рядом – не знаю. Утром колхозницы нашли меня. Приволокли в село. А тут и наши… окруженцев выводили.
– А если б не колхозницы?
Жесткий рот Андрея изломался, углом поехал на сторону.
– Не знаю. Без «если» на войне не бывает. Там все по-другому переживается.
С улицы доносился шум воды, квохтали на пригреве куры у порога. На ставнях под застрехой шумно дрались воробьи.
– Там получил? – Ольга дотянулась, погладила пальцами ордена и медали на груди Андрея.
– Это за лето сорок второго года. Этот тоже за Дон, а эти, – звякнул двумя медалями, – за разное.
– Скоро вешать некуда будет, братушка.
– Цыц, непутевая! – строго прицыкнула на кухни Филипповна на дочь. – Нехай чистый, да живой вертается.
– Тоже скажете, мама. Скольки приходили: у Андрюшки больше всех.
– Сын Раича, бухгалтера, в герои выбился, – заметила постно Марья Ейбогина, убрала подсолнечную лузгу с губ. Своих в армии у нее никого не было, но она тоже прошла с бабами послушать.
– Толик, Толик? – снова отозвалась Филипповна.
– В газетах было. Юрин в правление приносил. За Сталинград.
– А отец?.. Мать со стыда с младшим уехала куда-то.
– Она же сама, сука, и сгубила мужика, к немцам толкнула его.
Ухватились бабы за свежую тему.
Под окнами протопали три женщины. В платках, фуфайках. Вошли Лукерья Куликова, Варвара Лещенкова, баба Ворониха. Остро запахло простором полей, сырым ветром, талой землей.
– Кажись, кажись, вояка!.. Понахватал! Ростом в деда Данила… Лепи хату новую, Филипповна. Не влезе! Ей-бо! Не влезе!..
Пришли Галич, старик Воронов. Еще мужики и бабы.
– Терпи, Петрович, атаманом будешь. Солдат дома зараз, как христов день.
– Своих не встречал там?
– Насовсем аль как?
– Насовсем, пока выздоровлю.
Андрея теснили вопросами, душили табачищем. Он только на стуле ерзал, спиной снимал побелку со стояка печи. Мужиков интересовала война, политика, женщин – еда, стирка, жаловались на отбившихся от рук детишек, разорение хозяйства.
– Балакают, минер ты?.. А то у нас бабы мины сымают. Поля запаскужены, едят его мухи. Пахать – и не выехать.
– Никак рехнулся, Селиверстыч! – наседкой накинулась Филипповна на Галича. – Отец в поле гонит, учетчиком в бригаду, ты – на мины. Ему по хате не пройтись, и рука подвязана.
– Нам нехай покаже и не лезе сам.
– Ты, Филипповна, гордись сыном. Ишь понацеплял на обе стороны.
– Зараз дома здорово не засидишься.
– А вот и хозяин гребется… Магарыч, Данилыч! – оглушили, не дали порог переступить.
– У тебя, Галич, нос на горькое, как у собаки на ветер.
– Не, не, шуткой не отбояришься!
– Не противься, Данилыч! Такое дело – помогаем!
Воронов и Галич достали по бутылке. Добыла бутылку из-за пазухи и Варвара Лещенкова.
– Нагрела, чертова баба. – Галич услужливо помог Варваре поставить бутылку на стол.
– Не пей. Нам больше останется, – остудила Галича Варвара.
Над синью полей, за курганами, дотлевала малиновая полоска зари, когда Андрей сумел выйти во двор хлебнуть свежего воздуха. В поднебесье отдавался гул воды по ярам, под застрехой никак не могли угомониться опьяневшие за день от тепла воробьи.
Выскользнула на крыльцо и Ольга. С самого утра она тоже не выходила из хаты, стерегла. Оберегая руку, прижалась, задрожала. Он обнял ее здоровой рукой. Оба волновались, дышали часто.
– Андрюшенька, Андрюша! – Не стыдясь, горячая, прижималась она все крепче. – Андрюшенька! – Горло перехватывало, не могла говорить, гладила больную руку и тянулась свежими губами к его губам. – Так и не поговорили. Приходи к нам. Будет только бабушка. Мама с папой на два дня в гости уехали. О-ох! Как же я соскучилась по тебе! Ну почему ты такой? Откуда взялся? Никто, никто, Андрюшенька милый, кроме тебя. Ох! – Прижалась, оттолкнулась. – Одна буду. Смотри! – И, мелко стуча каблуками, побежала, шурша полами шубы.
Вязкая, как закрутевшая грязь, темнота весенних ночей кончилась скоро. Ночи стали светлее: снизу дышала живым теплом первая трава, первая зелень балок и логов, с вечера небо густо засевали звезды и не гасли до самой зари, с каждым днем крепли и множились звуки и запахи. У Сорокиной балки, в заматеревших за войну бурьянах, появились дрофы, сторожкие, тяжелые в беге птицы. Андрей видел их несколько раз издали. Близко не подпускали. Воронов сказывал, будто дрофы водились и в ту войну. А так в их краях они гости редкие.
Солнце поднималось все выше, дни прибавлялись, а люди все равно не поспевали. Хутор жил только полевыми работами. Трактора пахали и ночью. Лампочек для фар не было, и, чтобы не выбиться из борозды, ночью прицепщик шел впереди с гнилушками на спине, если мужчина, и в белом платке на голове, если женщина.
Пахали на коровах. Бедняги не желали покоряться, ревели, ложились в борозду и, мстя, вечером не давали молока. А с них требовали двойную отдачу.
Рассказывают, в соседнем колхозе Андриан Николаевич Гнедой (выбрали-таки его председателем) вернулся на днях утром из района – в поле пусто. «Где коровы, так-перетак!..» На коня и в степь. Погнал, как табун коней, коров в хутор. Они к реке. Он их заворачивать – они по дворам. Скотина и та поняла, что к чему. И смех, и горе.
Андрей долечивался в районной больнице и работал учетчиком в поле. Каждое утро с первыми лучами солнца он по дну балки поднимался к полевому стану трактористов.
По сапогам хлестал тяжелый, как вода, пырей, в радужных блестках качалась сон-трава. Через час-другой она подсохнет, и в лиловых бутонах ее забарахтаются обсыпанные золотистой пыльцой сварливые шмели. Царственно красивые тюльпаны, розоватые горицветы, желтые шляпки молочая и цыплячье-нежные китушки мятлика в бусах росы уже медленно поворачиваются к солнцу, к теплу. Обновленный, свежий по утрам и многокрасочный мир вставал перед его жадным, будто обновленным, взглядом. Все как впервые. Даже удивительно. И на него хуторяне смотрели не как прежде. То перед ними был неуклюжий крупный подросток, теперь – повидавший виды солдат, с седыми висками и приморенностью в глазах. Встречаясь с этим приморенным, усталым взглядом, хуторяне невольно входили в задумчивость и серьезнели.
Трактор Ольги уже стоял на краю загонки, а она у бочки с водой мыла ноги. Завидев его, поднимавшегося из балки, пошла навстречу. Опавшие, бледные после ночи щеки пятнил румянец. Широко расставленные черные глаза, однако, лучились безотчетной радостью и счастьем…
Скажи кто другой, Андрей ни за что не поверил бы, что Ольга – трактористка.
– Как мне плохо будет без тебя, – тихо говорила Ольга в редкие вечера, когда они бродили по косогорам над хутором и прятались от всех в левады в вербах. – В армию пошла бы с тобою… Нет, не пошла бы. Неженка, маменькина дочка…
Наедине Ольга была тихой, удивляла спокойной не по годам рассудительностью и женской уверенностью в правильности того, что делает.
– Нет, переменилась я, Андрюшенька, – говорила Ольга через минуту, и из черных провалов глазниц мерцало беспокойно и ждуще. – Меняюсь. Вперед заглядывать не хочу, хочу, чтоб тебе со мною сейчас было хорошо… Совсем хорошо…
И по-бабьи просто принимала мужские ласки, до краев наполняясь нежностью, теплом и благодарностью к нему. Его же и рядом с ней не отпускало недавнее, жестокое и грубое: забитые снегом окопы, выбеленные на морозе трупы и холод, холод в костях, желудке, ломкой от снега шинели, окаменевших сапогах. Сердце разрывалось в бешеном перестуке от этих воспоминаний, и Ольга становилась еще ближе, дороже, и во всех движениях его сквозила бережливая признательность за то, что она дарила его искренней, без оглядки доверчивостью, наполняла пониманием чего-то нового, необъяснимого и такого нужного, без чего жизнь невозможна.
Расставались всегда усталые, не загадывая ничего на будущее.
* * *
Накаляя воздух, над яром круто вставало солнце. Андрей припоздал на табор.
– За дудками гонял? – определила Варвара Лещенкова по воде и мелкой зерни полынка и донника на сапогах Андрея.
Ольга возилась у трактора. Она с минуту смотрела на запыхавшегося Андрея, высветленный яр за его спиною, Лещенкову. Кончиком головного платка вытерла припухшие глаза. На грязных щеках ее светлели кривые дорожки.
– На вторую смену остаюсь. Лихарева не вышла… Три дня осталось. – Черными пальцами выбрала из волос репей, припухлость-мысик на верхней губе дрогнул обреченно. – Протри свечи. Я быстро. – Опустила голову и, мелькая смуглыми икрами, побежала к вагончику.
– Какую девку ты сгубил! А-а? – В косом разрезе ослепленных солнцем Варвариных глаз ворохнулась зависть, зажала в зубах шпильки, стала поправлять волосы. Полные груди напрягли ситцевую кофточку, разошлись врозь. – Рази ее руками с железом валандаться? И все из-за тебя. Отставать не хочет. Как с отцом воевала! Не пускал на трактор. В институт хотел. – Заколола шпильки, одернула кофточку. – Береги ее, Андрюха. Она как слепая зараз. На все готова.







