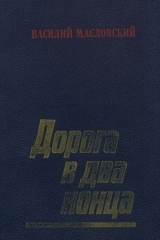
Текст книги "Дорога в два конца"
Автор книги: Василий Масловский
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 32 страниц)
Глава 4
В домах еще не погасли огни, и по улицам скрипели обозы, хлопали калитки, пропуская новые партии поночевщиков, когда со стороны хутора Журавлева в Переволошное вошла танковая часть. Танки сошли с дороги, остановились прямо на улице. С брони, ожесточенно хлопая по бедрам рукавицами, попрыгали автоматчики, занесенные снегом. Лица укутаны подшлемниками с оледенелыми наростами напротив рта.
У церкви колонну ждали патрули и указали, где размещаться.
– Сколько стоять, капитан?
– Не знаю! – метнулся узкий луч фонарика. – До места километров двадцать еще.
– В брюхе заледенело, и кишка кишке кукиш кажет.
– Комбат десантников! Часовых выставить! – Капитан Турецкий в щегольском черном полушубке спрыгнул с крыла передней машины, высигнул из снега на дорогу. – Командиры рот – ко мне! – Желтое жальце фонарика вновь запрыгало по сахарно-голубому снегу, остановилось на широком планшете.
На полу в хатах вповалку спали солдаты. Иной глянет из-под шапки, ворота полушубка на пришельцев, тут же проваливается в сон: буди – не разбудишь. С печи густо выглядывали бабы, детишки.
– Тут, товарищи, ногой ступить негде: и вакуированные, и солдаты, – заикнулся было хозяин, прямоплечий дед в черном окладе бороды. Из дремучих бровей вошедших сверлили круглые немигающие глаза.
– Поместимся! Не плачь, хозяин! – свежий молодой басок с мороза.
– Ох-хо-хо! Откель же сами? Из каких краев?
– Разных, батя. Со всего свету!..
– Куйбышевцы. А энти?
– Рази всех вас узнаешь. Идет сколько! Артиллерия, Трактора, видел, у двора стоят?
– Пушкари, значит?
– Сибиряки!..
Изба сразу наполнилась крепкими молодыми голосами, запахом дубленой овчины, мороза.
– Как насчет самоварчика, хозяюшка? С самого Калача на морозе.
– Почаевники. У нас и самовара-то нету. – О скамейку стукнули ноги в толстых чулках, с печи спрыгнула хозяйка. Сноха старика, должно. Рослая крепкая баба, с широким мужским лицом. – Чугун, что ли, для вас поставить?
– Ты нам казан, маманя. Чтоб на всех.
В сенцах загремели, и в избу с клубами пара ввалились танкисты.
– Ишшо? – обернулась на них хозяйка.
– Ишшо, мамушка, ишшо. В тесноте, да не обедал, – сказал в свое время один великий поэт, – осиял золотом зубов вошедший старшина Лысенков. – Топай в угол, Костя, – подтолкнул в спину рослого парня в распахнутом полушубке и замасленном ватнике.
Скрипя мерзлыми валенками, парень пробрался к печке, на скамейку с ведром, стал ожесточенно растирать задубевшие черные руки.
На подоконниках, хозяйской кровати, в углах понавалено оружия. Ремни застегнуты, развешаны на спинках кровати и на толстых гвоздях рядом с рваным и седым от пыли хозяйским картузом. На ремнях позванивали гранаты.
– А она не убье, дяденька? – мальчишеский голос с печи.
– Своих она не убивает, – жарко блеснули зубы на печку. – По голосу и запаху узнает. Хочешь, в печку бросим одну? С кизяками сгорит.
– Научишь мальчонку, старшина.
– Помогу, мамань. – С печи ловко спрыгнула русоволосая, румяная, по-деревенски крепкая дивчина.
За ней, косясь на солдат, медленно и аккуратно с печи слезла большеглазая, худенькая, чернявая.
Автоматчики скоро разомлели от тепла, уснули кто как. Лица, обожженные морозом, блестели. Уснул и Кленов на лавке у печи. Шлем с головы свалился, и на виске открылись два розоватых рваных рубца, не зараставших волосом. Кленова во сне качало, и большеглазая бесшумно подошла, убрала от него ведро. Шлем положила на стол.
– Чугун вскипел. Вишенника али мяты бросить? А може, у вас настоящая заварка есть? – обернулась от дышащей жаром плиты хозяйка.
– Есть, есть, – сунул ей начатую пачку золотозубый старшина Лысенков. – Заваривай, остальное себе оставь. И буди своих на печи. Эй, славяне! – Старшина вытряхнул прямо на стол сухари кучей, сахар, порылся в мешке у одного из автоматчиков, достал две банки консервов. – Шевелись, шевелись, славяне!
– Може, мы после? – Хозяйка стеснительно замялась, выпятила круглый живот, стала тереть руки передником.
– Солдат где спит, там и ест. У нас, мать, просто. Буди своих, не стесняйся.
Хозяйкина дочь, мелькая белыми икрами, выбежала во двор, вернулась с куском мерзлого сала, счистила с него соль, стала резать ножом на куски.
– Мне бы хозяюшку такую. – Лысенков оставил сухари, залюбовался ловкими движениями полных рук хозяйкиной дочери.
– На словах вы все неженатые, тольки за каждым хвост тянется.
– Тань! – выразительно зыркнула мать: «Люди чужие, мол, обидятся».
– Что Тань, что Тань?! Да ани в каждом селе женятся. Как попалась в юбке, так и давай, – дернула плечом и блеснула на мать молочными белками дочь.
– Пьяному бутылку водки да собаку в шерсти, – тыкнул меднолицый сержант-пулеметчик. Обтер огромной лапищей кружку, выдул из нее крошки.
– Ды тольки что.
– На тебе всерьез бы женился. – Веселые глаза Лысенкова пригасли, погрустнели, на лоснившемся лбу сбежались морщины. – Родила б ты мне сына.
– Ох, да ка бы ты адин такой. До сладкого вы все падкие, что мухи на мед, а потом лялькай одна, батеньки и след простыл. – Таня сгребла нарезанное сало на тарелку, ладошка о ладошку отряхнула руки. – Ешьте на здоровье.
Пушкари тоже просыпались, рылись в мешках, доставали кружки, переступая через ноги, пробирались к столу: «Можно?», черпали из чугуна кипяток – сухари, сахар свои. Шмурыганье носом, покряхтывание. Хлопала оторванная ставня. Окна забелены, снаружи наросли снегом.
– Берите, еще берите, – подбадривали солдаты детишек, косивших на сахар.
– А девка уложила тебя, старшина, – распаренный до пота, кряхтел у стола меднолицый сержант-пулеметчик.
– На обе лопатки.
– Зря ты так, Таня. И ты, сержант, – в сторону меднолицего, – тоже зря. – Лысенков поставил дымящуюся кружку на стол. Отяжелевшие с мороза веки поднялись не враз, и кареватые суженные глаза глянули как сквозь туман. – Вот назови тебя, сержант, сукиным сыном, обидишься. И любого. А у тебя небось сын дома. Стукни тебя завтра – семя осталось. Не так обидно. А Ивана Лысенкова второго нет. Может, я и с девкой-то последний раз говорю. А ходил бы молодой Иван Лысенков по земле, улыбался и не знал бы, как ждал его отец. Эх, черт-те…
– Не поминай черта на ночь глядя, старшина.
– А на дворе, никак, пурга начинается, – прижался к стеклу один из автоматчиков.
– Метель да пурга – чертово кружало. – Сержант-пулеметчик потянулся, зачерпнул еще кипятку из чугуна.
Большеглазая прислонилась спиной к печке, стянула на груди концы вязаного платка, спрятав в нем руки, следила, как при еде на виске Кленова шевелятся шрамы. И виски, и затылок у него были белыми.
– Седой, – сронила тихо.
– Что? – вскинул голову Кленов.
– Седой, говорю.
– Так я уже и старый. – От углов глаз Кленова пучками разбежались трещинки морщин, и лицо его, нелюдимое и замкнутое, сразу переменилось.
– Нет, – вздохнула девушка. Отуманенные черные глаза ее светились грустью.
– Это сестра ваша? – показал взглядом Кленов на продолжавшую азартно спорить Таню.
– Нет. Я нижнемамонская, куда вы едете.
– А вы знаете и куда мы едем?
– А ваши сколько ни идут и ни едут – все Мамоны спрашивают.
Замерзшие стекла дрогнули от гула. Гулы повторились, прокатились россыпью. Во дворе завыла собака. Стекла зазвенели снова. В окно резко постучали.
– Танковая! Выходи! Быстро!
От этого крика с улицы солдаты как-то вздрогнули, засуетились, укладывая мешки, и уже другими, чужими глазами оглядывали все в этой избе, где они пробыли несколько часов в тепле. Детишки, продолжавшие хрустеть сахаром, прижимались ко взрослым, и мимо, бухая валенками, застегивая на ходу ремни и сталкиваясь оружием, выбегали солдаты. На пороге их встречал колючий морозный ветер и тут же выдувал из полушубков и шинелей домашнее тепло, Артиллеристы тоже по понятным только солдату причинам засобирались вдруг. Один уже с горящей паклей на палке бежал к трактору. Автоматчики кидали мешки наверх, карабкались на танки, и танки, щупая перед собой дорогу пушками, выползали из дворов на дорогу, навстречу морозному горизонту.
За селом охватила глубокая тишина степи, укрытой белым саваном снега. Тишину эту не в силах был разбудить даже рев мощных танковых моторов. Меж туч ныряла луна, на мгновение она освещала степь, и степь вспыхивала при этом тысячами голубых искорок и казалась еще безмолвнее. Дорогу переметали седые косицы поземки. Лица на ветру быстро задубели, и автоматчики изредка перебрасывались словами, стараясь укрыться от вездесущего обжигающего ветра.
Сначала вдоль дороги шли неубранные подсолнухи. Ветер повалял бодылья, переплел их между собою. Шапки гнулись под тяжестью снега. За подсолнухами пошли поля пшеницы, тоже неубранные; хлеб лежал в крестцах. Однообразно стучали моторы и гусеницы, мела поземка, в прогалах между туч зябко поеживались звезды, Мысли тоже плелись лениво, бессвязно. Многие из сидевших на броне и в машинах уже не раз побывали в госпиталях, возвращались на фронт и знали не понаслышке, почем там фунт лиха…
Незаметно с востока колонну догнала белая муть, укрыла небо, и началась метель. Головной танк вначале шел по вешкам вдоль дороги, а потом исчезли и вешки. Видимость сократилась до десяти метров. Колонна стала. У замерших машин тут же намело сугробы. Автоматчики походили на снежных кукол. Только прорезь для глаз на подшлемниках темнела.
– А если напрямую рванем? Мамоны выстлались километров на сорок вдоль Дона. Не промахнемся.
– Сороки тоже прямо летают, да редко дома бывают. – Турецкий нагнулся в люк. – Кленов, куда ракетницу девал? – Взял поданную ракетницу, выстрелил. Белая муть вспыхнула молочным светом, отодвинулась неохотно и тут же погасла.
– Ну-ка, герой, пройдись, отыщи вешки.
В белой куче автоматчиков зарычали, заворочались, захрустел снег. Вскоре недалеко справа донеслось:
– Эге-ге-гей! Дорога здесь!
– Не люблю степи, хоть и сам степной. – Турецкий плотнее надвинул меховой танкошлем, крикнул в люк: – Трогай, Костя!
Из крутящейся мглы выдвинулась фигура по пояс, вздыбленная по-медвежьи против ветра. Автоматчик помахал рукой и побежал вперед. Танк уперся в дощатый вагончик на тракторных санях. В занесенные снегом окошки желтел свет.
Танкистов встретила кургузая пухленькая дивчина в гимнастерке и ватных брюках.
– Это что у вас тут? – удивился пехотный комбат.
– Обогревательный пункт, товарищ капитан.
– Обогревательный пункт? – Капитан поднял к Турецкому стянутое морозом лицо, ущипнул себя за щеку, будто не веря. – Слышишь? – В углу вагончика пылала печка из бензиновой бочки. На печке пыхтел чайник и два ведра гоняли пары. У дверцы ковырялся солдат в замасленном ватнике. – Ну-ка дай я тебя расцелую, дочка. Где ж ты раньше была?
– Теперь по всем дорогам будут. Командарм приказал.
– Вот те уха! – не переставал удивляться пехотинец. – Где же он сам?
– Нам не положено знать про то. Нынче, говорят, здесь был. – Дивчина, видимо, сама стеснялась своих пышных форм, поджималась всем телом. Курносое лицо все время таяло приветливой улыбкой. – Так попьете чайку?
– Нас много, голубушка. Всех не напоишь. Дорогу на Мамоны знаешь?
Откуда-то из угла, как черти из табакерки, выскочили два пацана.
– Мы знаем, дяденьки. Вам куда – на Верхний или на Нижний?
– Вот так явление! – удивился Турецкий и шутливо потрепал старшего за обмороженный нос. – Откуда такие?
– Мамонские. Нас домой не пускают, дяденька. А проведем хошь на Нижний, хошь на Верхний.
– В Мамоны им нельзя, капитан. Родители их в Переволошном, не то в Хрещатом, – поднял красное от огня лицо тракторист у печки. – Из Мамонов всех жителей выселили.
– Так как же, хлопцы?
– У меня дед в Мамоне, а мамка за картохами послала. Исть нечего, – не смигнув, соврал с обмороженным носом и черными пятнами на щеках. – Да мы тут всех проводим, а он ничего не знает, – кивнул пацан на тракториста.
Разрывая вой пурги, реванули моторы. Вагончики обминули танки и, похоже, трактора.
– Трогаем и мы, капитан. – Пехотный комбат покосился на пышащую огнем печку, зубами стянул рукавицу, шерстяной варежкой потер обмороженную щеку. – А то нарвемся еще на какого-нибудь умника, и фамилии не спросит.
– Эти трактора мы вчера видели в Гнилушах. – Пацан с обмороженным носом вытянул шею, прислушиваясь. – Вчера от клуба в Гнилушах они на Русскую Журавку поехали, а теперь назад вертаются.
– Итальянцев за нос водят? – высказал догадку пехотинец.
– Ну и шут с ними, пускай водят. – Танкист глянул на острые пройдошливые мордочки пацанов, их худую одежонку: «Отцы воюют, а они добытчики». – Идемте, подвезем вас до Мамонов.
* * *
Льдистая полоска рассвета подрезала края горизонта. По ту сторону Дона величественно и хмуро застыл трехгорбый курган, темнела церковь со звонницей. Выше синели не то посадка, не то лес. С южной окраины Осетровки, слепо ощупывая небо, ломаной нитью взвились трассирующие пули, долетел треск пулемета. С высот левее ему отозвалось орудие. Пурга, наставив поперек улицы косых сугробов, утихла. Над печными трубами торчком вставали прямые дымы. Из ворот напротив выехала кухня. Из-под крышки курчавился пар. На козлах сидели повар и старшина. Они молча глянули на танки вдоль улицы, танкистов, свернули в проулок, вниз к Дону.
– Тут, братцы, как у хлебосольного хозяина перед рождеством, – вернулись автоматчики, успевшие обежать ближние дворы.
– Только в скворечниках и не живут, видно.
– Мальцы куда же смылись?
– Держи. – Один из автоматчиков сунул Кленову в люк горячую, печенную в золе картошку.
Громыхая гусеницами, в улицу втянулись трактора с пушками. С лафетов, занесенные снегом, махали артиллеристы. С трактора перегнулся водитель, оттянул рукавицей подшлемник.
– Здорово ночевали. Живыми шло свидеться.
– Поночевщики вчерашние.
За вербами, куда убежал Турецкий, легла серия снарядов, другая. На высотах, южнее Осетровки, загромыхало. Простуженно забубнил станкач с окраины. Автоматчики и танкисты молча переглянулись. Из проулка, куда свернула кухня, выскочил связной, замахал руками: «Заводи!»
Кленов включил передачу, плавно тронулся с места. И танк, словно проникаясь его настроением, сдержанно залопотал гусеницами. У поворота обогнали тягачи с пушками. Связной на ходу ловко вскочил на крыло, нагнулся в люк.
– Так и держи по накатанной дороге.
У плетня лежала перевернутая вверх дном и занесенная снегом лодка, из черного зева пониже дымился пар: бил ключ. Вдоль дороги валялись обдранкованные, в глине бревна.
– Вчера один чудак избу зацепил и растянул до самого Дона, – перехватил взгляд Кленова связной и зябко передернул плечами. – Дневать в лесу, должно… А начальства…
Сторонясь, к селу поднимались по одному и кучками солдаты. К обочине прижался сивоусый сутулый ездовой в шинелишке. Мохнатые кончата, обросшие инеем, безучастно опустили морды, подергивали кожей и стригли ушами на грохот танков. Солдаты останавливались, всматривались, шли дальше. Было видно, что они ко всему привыкли за месяцы обороны.
Переправа с ходу не удалась. Механик первой машины не справился с управлением на обледенелых бревнах моста, и танк свалился в Дон. Послали за песком. Пока песок привезли, рассвело совсем, и переправу прекратили. Танки замаскировали в лесу и под копнами сена, сверху закидали снегом, следы размели. Немецкие самолеты весь день кружили над Мамонами, Гнилушами, лесами вдоль Дона, но так, видимо, ничего не обнаружили.
На плацдарм вышли на вторую ночь. Бригаду разместили на неубранном ржаном поле левее Яруги, как называли овраг у высоты жители хуторка под Трехгорбым курганом. На хуторок заходили греться. Солдаты жили там, наверное, и в печных трубах. Избы, чердаки, пуньки, сараи, сеновалы – сплошь забиты бойцами. На огородах и в садах – зенитки, счетверенные пулеметы. Выше Осетровки, на полях, – батарея на батарее. В яругах на обратных скатах – штабеля снарядов. Автоматчики бригады разместились на хуторе, экипажи – в землянках летней обороны.
Танкисты, которые вышли на плацдарм раньше, устроились с полным комфортом. Для подогрева машин сложили под танками печи из кирпича: ни тебе расхода горючего, ни демаскировки, а главное – тепло.
Днем лазили у машин, маскировали, в десятый раз перещупывали давно проверенное. Прячась от начальства, включали рации на прием, слушали о боях в Сталинграде, продвижении деблокирующей группировки Манштейна. Осетровские женщины приносили танкистам стираное белье, шерстяные носки, табак, скромные, но такие милые сердцу солдата домашние постряпушки.
14 декабря, под утро, пехотные разведчики взяли под Красным Ореховом контрольного «языка» и, возбужденные миновавшей опасностью, громко переговариваясь, провели его через позиции танкистов.
Глава 5
Вечером 15 декабря саперы сходили в баню. Кто-то из солдат разбил в хозяйской кладовой старый сундук, и жарко топилась печь. Андрей поставил валенки на лежанку, босиком, без гимнастерки, сушил у огня полотенце. Жуковский пристроился у осколка зеркала над печью, куда, управляясь, гляделась хозяйка, брился.
– Не иначе, на вечерку ладишься? – задел Жуховского Степан Михеев, плотник из Воронежской области, дочесал пятки одна о другую и выпустил колечки дыма.
Он уже побрился, розовый и свежий лежал на сене и курил.
– К Чертовихе собрался! – сиплый басок от печки.
– А ходили же на гулянки. А-а? Это здесь сердце зачерствело, оделось в седьмую шкуру.
– Я своей женке объясниться не мог, как выбрал, – усмехнулся Степан. – Робел.
– Зато теперь глаза на затылке. Мнешь лапищами, лезешь: давай.
– Ну это ты врешь, – возразил Степан.
– Попадется баба добрая, отмякнем.
– Не скоро. Загрубели дюже.
– А сколько нас вернется после войны? – Михеев окутался махорочным дымом, помахал ладонью перед лицом. – Женщин и до войны было больше мужчин. После войны разница еще вырастет.
Солдат у печки хряпнул о колено лакированную доску, оклеенную изнутри газетой, бросил в печь.
– В общем, после войны житуха правильная будет.
– Я бы таких, как ты, Шаронов, кастрировал. Один черт, от вас дураки родятся! – сказал Михеев солдату у печки.
На столе, среди шапок и ватников, стояли две бутылки, заткнутые кукурузными початками, и котелок с хозяйской квашеной капустой. Андрей досушил портянки, сунул их в валенки и поднял доску от сундука.
– В сарае дров сколько, а ты сундук ломаешь, – упрекнул истопника. – Вернется хозяйка – что скажет.
– Мы с тобою не услышим, Казанцев. И в сарае кроме дров, к вашему сведению, покойнички обитают. – Истопник потянул доской с гвоздем чугун на плите, достал из него и разломил картошку. – Готова.
Вошел комбат, снял, протер очки с мороза, поздоровался. Впалые щеки малиново румянели: тоже из бани.
– Дело такое, – присел он у стола, осуждающе глянул на бутылки, капусту, забарабанил костяшками пальцев. – Дело такое. – Война никак не могла выжить из комбата гражданского человека. Особенно трудно ему давались сложные решения, где требовалась краткость. Сейчас, должно быть, тоже предстояло что-нибудь очень важное.
Саперы притихли, насторожились.
– Дело такое, в общем: Михеев, Шаронов, Казанцев, пойдете в стрелковый полк. – Комбат снова снял очки, потер чистые стекла изнутри большим пальцем. – Доложитесь там. Старший – Михеев. Берите все с собою.
– На дело ребят, товарищ майор?
– На рождественские блины с каймаком.
В углу вздохнули тяжко, выматерились.
Те, кого назвали, стали молча собирать свои пожитки; те, кто оставался, виновато переглядывались. На войне не выбирают дело, на войне исполняют приказы. И ни те, кто уходит, ни те, кто остается, никогда не знают, встретятся ли они снова и кому из них повезло. И всегда при этом происходит молчаливое и такое красноречивое прощание.
– Поужинали! – Испытывая неловкость за испорченное людям настроение, майор оглядел стол, где стояли обычно котелки, и снова увидел бутылки.
– Солдатский умяли, домашний поспел только, – ответили ему.
– А зачем все же ребят в пехоту, товарищ майор? – Жуховский кончил бриться, ополоснул лицо в кадке у печки, вытирался.
– Вы же военный человек, Жуховский, и задаете такие вопросы. – Круглые очки майора обидчиво блеснули стеклами. В избе было жарко, даже душно, и майор снял шапку, пригладил ладонью черные с проседью густые волосы. – И поторапливайтесь. Идти до второй церкви. Можете и не успеть.
– Я тоже иду. – Жуховский был босиком, нагнулся, завязал тесемки кальсон на щиколотках, заправил нательную рубаху.
– Как это идете?!. – Майор даже привстал от удивления. – Туда нужно всего три человека.
– Оставьте кого-нибудь. Только не Казанцева, – хмуро подсказал Жуховский. Взял с печи портянки, помял, встряхнул, стал аккуратно и медленно навертывать их на ноги.
– Гм, гм! – Комбат захватил щепотью капусты из котелка, пожевал, поморщился. – Оставайтесь вы, Шаронов, что ли.
Саперов привели в угловую избу под камышом. В просторной горнице на сене вповалку спали солдаты. На углу стола при свете коптившей лампы без пузыря бровастый малый, мусоля языком карандаш, писал, видимо, письмо. Напротив – лысоватый сержант пришивал к шинели хлястик. Человека три из лежавших на полу молча курили. Как и везде, где много солдат, в избе плавал желтый чад прелых портянок, шинельного сукна и дубленой овчины.
– У вас будут, – доложил в пространство провожатый из штаба в щеголеватой шинели и командирской шапке.
– Места хватит, – буркнул писавший, не поднимая головы.
Солдатский коллектив складывается быстро. Достаточно узнать фамилию соседа. Саперы в этой избе были пока чужаками и кучкой прошли в угол, казавшийся им более свободным.
– Подвинься, браток, – тронул Жуховский чью-то ногу.
– А-а? – На Жуховского глянули сумасшедшие пронзительно-белые глаза на продолговатом испуганном лице.
– Подвинься, говорю, – успокоил солдата Жуховский.
Солдат опрокинулся на свое место и тут же захрапел.
– Не очухался. Закуривай, – отирая спиной побелку со стены, Жуховский присел, протянул Михееву кисет. – На плацдарм пойдем. Я так думаю.
Андрей расстегнул ремень на полушубке, завернулся в воротник и лег. За стеной с улицы пробегали машины, скрипели полозья саней, топот ног. «Похоже, торопятся куда-то», – мелькнуло среди прочих мыслей.
Кажется, Андрей задремал, потому что, когда вскочил, солдата, писавшего за столом, уже не было. Посреди горницы стоял незнакомый командир, кричал сиплым от волнения голосом: «Тревога! Выходи!» Лицо его было бледным, худым, глаза возбужденно горели. Андрей успел отметить еще автомат в его руках, на поясе заиндевевшие гранаты и финский нож с наборной рукояткой.
– Вылетай! Строиться во дворе!
Солдаты сопели, привычно и быстро наматывали портянки, обувались и, захватив оружие, выскакивали на улицу. С порога их брал в свои объятия покрепчавший к ночи мороз. Когда из хаты выскочил последний солдат, с печи сползла старуха, закрыла разинутую настежь дверь.
На площади стоял уже строй, а из дворов все продолжали выбегать кучки солдат. Они тащили на лыжах пулеметы, по двое несли длинные противотанковые ружья. Перед строем расхаживал рослый командир в маскхалате. Левая пола его халата была неровно оторвана. Выгорела, должно.
– Комбат, капитан Азаров, – шепнул сосед Андрея.
– Поротно и не отставать! – выслушав доклады, тихо сказал комбат. Поправил ремень автомата на плече и повернул в проулок к Дону.
Дорога была утоптана и укатана санями. За левадами комбат пошел тише, не оглядываясь. Шел уверенно. Должно быть, не раз исходил дорогу, которой вел. Разрешили скрытно курить. Да по-другому и не получалось: на голых местах выдувал ветер и мерзли руки. Приходилось цигарку затягивать в рукав.
– Похоже, Степа, на плацдарм.
– Дорога тут одна: на передовую.
– Позавчера с передовой и снова на передовую?! – визгливый бабий голос.
– А ты как думал? С легким паром и – здрасте.
– Дурак, – не хотел верить хозяин бабьего голоса.
– Не дурее тебя. Мне тут каждая кочка знакома.
– Местный, что ли? – снова бабий голос.
– С того конца Мамона. С Глинной. – Сосед Андрея диковато блеснул зрачками, неопределенно махнул рукой.
Андрей с уважением покосился на него. Богатырь в плечах, лицо узкое, глаза выпученные, белые. Ни разу не видел таких. И должно быть, силен и ловок. Шагает машисто и ровно, как иноходец.
– Прекратить разговоры! – привычно и равнодушно кидал через плечо взводный, давешний командир с впалыми щеками.
У Дона на косе остановились. Комбат показал руками: в круг. Ночь была светлая. Искрился снег. Высоко над головами зябли в своей глубине колючие звезды. Комбат выждал, пока перестал снег хрустеть под валенками, сказал крепким и свежим на морозе голосом:
– Ну, ребята, в восемь утра идем в наступление. Будем брать Лысую гору. Все знаете? Правее Москаля! – Солдаты колыхнулись, прокатился единый вздох. Как не знать! С сентября стояли против нее. Пеши, без помех, не взберешься на нее, а тут наступать, да еще по снегу. – Две красные ракеты – начало артподготовки, – уточнял комбат. – Две зеленые – это уже наши: вперед! – Он предупреждающе поднял руку, голос окреп. – И не отставать! Замечу – смотри у меня! Брать нужно с ходу, пока не опомнились. Прозеваем – польем кровушкой высоту эту. – Полез в карман, чиркнул зажигалкой. – Ровно два. Завтракаем на плацдарме, под лесом. Все понятно?
Спустились на лед. По ногам ударил ветер, расчесал поземку. Под берегом справа гибельно чернела полынья. Жгутом свивалась и колюче посверкивала при звездах вода. На осетровском лугу обогнали «катюши» и свернули в сторону церкви. Справа и слева шевелились темные змейки: выдвигались батальоны.
За Просяным яром у леса подошла кухня. Повар вместо каши давал каждому по куску мяса. Старшина тут же черпал кружкой водку из термоса: пей.
Андрей хватил глотка два, задохнулся, вцепился зубами в теплое и пахучее мясо. Иные пили осторожно, любители полоскали во рту, крякали сокрушенно. Жуховский, расчетливо хлебнув глоток, вытер губы рукавом полушубка.
– Нам в глубине, видно, разминировать. – И принялся за мясо. – Ты ешь. Силком ешь, не хорони. Когда доведется теперь, а силы скоро потребуются.
На зорьке мороз залютел. За мамонскими высотами, напротив второй церкви, край неба начинал подтаивать, редела тьма. А за оснеженными буграми справа голубовато посверкивало и мерцало. Там были как раз места, которые в августе отбивали у итальянцев. Казанцев по теплу ходил туда на могилку Спинозы и Артыка. Укрепил могилку камнем и поставил дубовый крест, который вытесали плотники в батальоне. Под высоткой сохранился и танк Казанцева. Танк оказался на нейтральной полосе. Сначала к нему ходил наш снайпер, а потом в нем устроился итальянский капрал с пулеметом. И до того обнаглел, что натаскал в танк соломы и даже спал там. Капрала увели наши разведчики, а Казанцев, по просьбе пехотного комбата, подорвал танк. Стрелковым батальоном командовал тот же самый лейтенант (теперь уже – старший), что и в августе. Он угостил Андрея пельменями и медовухой, которую ему прислали с Урала в грелке, и пообещал написать наградной лист за август…
По-прежнему было темно. С тихим присвистом в быльнике змеилась поземка. Солдаты по опушке дубового леска выкопали себе ямки в снегу, и кто, затихнув, лежал в этих ямках, а кто вскакивал и топтался, греясь. Андрея бил озноб, хотя ему и казалось, что он не замерз нисколько. Жуховский тоже лежал и курил из рукава.
– Не топчись, – окликнул он Андрея. – Иди полежи. Может, закурить?
– Не курить, мать вашу!.. Кому сказано! – прицыкнул взводный, томившийся ожиданием не меньше других.
Андрей отоптал место рядом с Жуховским и тоже прилег. Он не сводил глаз с Лысой горы, ее залитого мигающим светом склона, на котором, однако, ничего не было видно.
– Ты вот что, – повернулся Жуховский и дохнул Андрею морозным паром в лицо, – пойдем вперед – не отставай. Тут ранит или что – вместе надежнее.
– Я не отстану, – сказал Андрей, мысленно соглашаясь с Жуховским, что одному плохо. Тем более зима, холод.
Обвальный грохот обрушился неожиданно. Высоты потонули в огне и дыме. Загремело по всей подкове от Москаля до Филонове, Гадючьего и Орехова. Орудия били с плацдарма, мамонских высот – отовсюду. Земля наполнилась толчками и гулом, который слился в сплошную равномерную дрожь. Ветер дул в сторону плацдарма, и грохот то откатывался, то возвращался, словно размеренно и четко раскачивался язык огромного колокола. Лица солдат вытягивались, каменели. Высоты перестали быть красивым зрелищем. Ветер срывал с них клубы дыма и черной гривой гнал их через Дон и луг к селу, где они были вчера вечером.
* * *
На Лысую гору взобрались быстро. Снег на вершине был черным. Земля в воронках обгорела. В окопах только убитые. Убитые лежали и по черному снегу за окопами. Обманутые переносами огня, итальянцы, видимо, пытались спастись из этого ада бегством, и смерть настигала их на ходу.
– Вперед! Вперед! Не останавливаться! – Взводный дал несколько очередей из автомата вверх, заметив, что солдаты без нужды забегали в итальянские землянки.
Из тумана и еще не рассеявшейся копоти вынырнул комбат в обгорелом маскхалате.
– Что стали, лейтенант?! Взводными колоннами – и по дороге! Пошли, пошли!
Огромный, но удивительно подвижный комбат исчез, растворился где-то сбоку, и зычный бас его уже гремел впереди:
– Не давай опомниться ему, ребята! Шире шаг!
Укатанная санями дорога являла следы панического бегства. На снегу валялись шинели, одеяла, каски, котелки, карабины, индивидуальные пакеты – все, чем снабжается солдат для войны. Тут же убитые. В одних мундирах. Малорослые, щуплые, они походили на подростков. Взошло солнце, согнало туманы и дым в лога и яруги. Степь вспыхнула ослепительным радужным сиянием снегов. У Гадючьего и Орехово продолжало греметь. Отрывисто и резко били танковые пушки, в лютой ярости захлебывались пулеметы, сухой дробью рассыпались автоматы.
– Держатся, сволочи! Земля стонет! – со знанием дела вслушивались в эти звуки в колонне.
Шли вольно, радовались удачному началу. Мороз ослаб. С косогоров, где ветер содрал снег, удивленно пялилась суглинистыми глазищами земля. Со слепяще-белых курганов дохнуло даже чем-то весенним. И вдруг в самую середину колонны – неизвестно откуда прилетевший – шальной снаряд. Шесть человек – как не бывало. Сосед Казанцева, мамонец с диковатыми глазами, тоже упал и быстро-быстро, сгребая в кучу снег, засучил ногами, из горла цевкой ударила кровь.
– Ребята, – прохрипел мамонец, захлебываясь, – поднимите, поглядеть дайте!
Его подняли. Белые глаза быстро гасли. Из-за Дона, задевая деревья посадки, к Орехово прошли наши штурмовики, и воздух колыхнулся от тяжких ударов.
– Так вам, гады!.. Теперь Дон, ребята! – Щеки раненого быстро опадали, и по ним расплывались черные пятна. За ветлами по ту сторону Дона в солнечной дымке мрел Мамон. – Так, так. – Солдат устало закрыл глаза и уронил голову.







