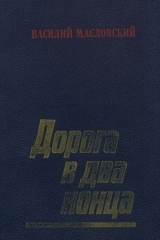
Текст книги "Дорога в два конца"
Автор книги: Василий Масловский
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 26 (всего у книги 32 страниц)
– На свете есть только голодные и сытые, сильные и слабые, – поучал он своего товарища. – Сколько лет мы уже валяемся в дерьме, и все затем, чтобы убить.
По утрам они приносили рыбу, жарили ее и говорили о простом и мирном. Словарный багаж немецкого у Казанцева был не очень велик, но, чтобы понять смысл разговора, вполне хватало. На третью ночь, пользуясь налетом своих «кукурузников», или «швейных машинок», как их называли немцы, Андрей покинул убежище и благополучно достиг Донца. Автомат и сапоги, правда, пришлось бросить, утопить.
– Маршрут не потерял? – толкнув в бок, оборвал его мысли Жуховский.
Андрей ощупал листок, который дал ему лейтенант. Пальцы нашли и ощупали второй листок.
– Цел.
Второй листок – письмо Ольги. В обороне почта работала хорошо. С письмом Ольги Андрей получил письмо от матери. Закорючки. Безграмотная, она в жизни никому не писала, а тут нарочно выучилась. Это была горячая и жалкая мольба не погибнуть. «На фронт, наверное, всем так пишут», – подумал Андрей, поправляя мешок под головой. Письмо Ольги дочитать не успел. Старшина начал раздавать патроны, гранаты, отбирал документы…
Все домашнее давно осталось в слепяще-мглистой пелене донских степей, разящем сиянии ковыля на целинных крепях и берегах балок. В ворохе разноликих и многозвучных воспоминаний чаще всего натыкался на Ольгу. В мысли о ней впадал как в забытье. Он был еще очень молод, чтобы знать, что живой думает о живом и что невесты забывают мертвых и ищут счастья с живыми. О себе все ясно: он будет работать. Время учебы ушло. Об Ольге всегда думалось тревожно и трудно. Он любил ее, любил думать о ней, вспоминал ее слова, ласки, но женой своей представить никак не мог.
Из леса наплывало сплетенное между собою многоцветье запахов, глаза до слез покалывали ровно мерцавшие звезды. Опрокинутая повозка Большой Медведицы завалилась в черный омут леса за лугом. Из этого омута торчала только дышловина повозки.
Изнуряюще горячечную вязь мыслей вновь оборвал толчок.
– Вставай! Пошли!
Лейтенант Мелешников, старый знакомый (он через неделю вернулся из той разведки), похлопал Андрея по плечу: «Хорошо, мол, что идешь с нами». Впереди бесшумно, словно тени, скользнули Иванов и Гусынин. Иванов (все звали его почему-то просто Иваном) оправился после той разведки, шел снова. За ними гуськом остальные. Молодежь, как и Казанцев. Иным едва исполнилось по девятнадцать. Но ребята все смелые. На войне опыт военный и жизненный определяется не прожитыми годами.
Вышли на луг. Слева бил пулемет. К нему и шли. Луна скрылась, и из низины шапка высоты 256,0 почти не была видна, сливалась с аспидно-черным небом. Ориентиром служил пулемет. Немцы на высоте были непуганые, туда ни разу не ходили. За много дней разведчики изучили высоту до кустика, до пучка травы, до капризов и привычек «именинника».
Оставалось метров шестьсот. Чем напряженней вслушивались в тишину, шорохи вокруг, тем слышнее был шум в собственных ушах.
На высоте взлетела ракета. По лугу шарахнулись угольные тени, разведчики попадали в траву. Ракета погасла, и дозорные пошли дальше.
Вдруг Иванов присел, схватил за руку товарища. К дозорным подполз Мелешников. Остальные залегли. Справа и слева, совсем близко, ударили пулеметы, над мокрой травой пополз едкий запах сгоревшего пороха. На фоне посветлевшего неба отчетливо вырезались силуэты людей.
– Шесть, семь… двенадцать… четырнадцать, – шепотом считал Иванов.
Группа в семнадцать человек спускалась со скатов высоты навстречу разведчикам. Приближались медленно.
«Свои или чужие?» – мучился лейтенант, взмахнул рукой: «Засаду!»
– Стрелять по моему сигналу – выстрел из пистолета, – передал шепотом.
Разведчикам повторять команды не нужно. Здесь люди тренированные, ловкие.
«А вдруг свои!.. Соседи тоже вели наблюдение за высотой. Возвращаются с задания, сбились с пути…»
Неизвестные совсем близко. Слышно сопение, прерывистое сдержанное дыхание, шелест травы.
– Штиль! Штиль!.. «Ну, теперь понятно!»
Группа все ближе. Гусынин повис на руке: «Поздно будет, лейтенант!»
– Пусти!..
Когда последний, семнадцатый, поравнялся с Мелешниковым, лейтенант выстрелил в него. Луг озарился бешеной пляской огней. Фигуры заметались, попятились, падали. И тут же звенящая тишина. В конце луга отозвалось эхо и тоже заглохло. Стрельба была скоротечной. Ее слышали и свои, и немцы. И те и другие знали о своих группах разведчиков на лугу и не знали, что там произошло. Молчали. Ждали.
– Ищи живого! – приказал Мелешников.
– Двое убежали!
– Неужели наповал все!
– Есть, есть живой!
Перед разведчиками стоял обезумевший человек с поднятыми руками. В воздух взлетели десятки ракет. Луг заткала густая паутина светящихся трасс, и все потонуло в грохоте разрывов. Немцы все поняли и отсекали пути отхода разведчикам, рассчитывая, наверное, взять их потом. Своя артиллерия тоже открыла ураганный огонь, заговорили «катюши». Скаты высоты и гребень ее сплошь закипели разрывами. Чад взрывчатки сползал на луг, ядовито выстилался над росной травой и цветами. Роса была крупная, холодная.
– Вперед! Вперед!
Двое подхватили пленного под руки, бросились к своим окопам. По пути на ломаном немецком языке допросили и успели узнать, что утром начнется наступление. Заспешили. В солдатской землянке допросили еще раз. Пленный сообщил, что он, Бруно Фермелло, солдат саперной роты пехотной дивизии. Вечером они получили задачу проделать в русских минных полях проходы для танков. Утром 5 июля должно начаться наступление.
4 июля, 23 часа 50 минут!
Пленного посадили в артиллерийскую машину, и через несколько минут он уже стоял перед командиром стрелковой дивизии. Через пять минут командир дивизии докладывал уже командарму, а через час Бруно Фермелло с железным крестом на груди за доблесть допрашивали уже в штабе Воронежского фронта. Показания его совпадали с показаниями вчерашнего перебежчика, словака по национальности.
В два часа ночи показания пленного знал Военный совет Воронежского фронта. Тут же, в штабе фронта, был и представитель Ставки А. М. Василевский. Пленный назвал ориентировочное время перехода в наступление немцев – четыре часа.
Что делать? Верить или не верить показаниям пленного?.. От этого зависело решение о времени запланированной артиллерийской контрподготовки. Немецкие войска уже должны занять исходное положение для наступления. А если не вышли еще? Если вообще все – ошибка?.. На карту ставилось многое, если не сказать – все.
– Что будем делать? Докладывать в Ставку или дадим приказ на проведение контрподготовки? – обратился с вопросом Ватутин к Василевскому. – Центральный фронт уже начал полчаса назад.
– Время терять не будем, Николай Федорович, Начинаем и мы. Отдавай приказ, как предусмотрено планом фронта и Ставки, а я сейчас позвоню Верховному и доложу о полученных данных и принятом решении, – ответил маршал.
Сталин предупредил Василевского: позвонил сам, сказал, что у Рокоссовского уже трудятся, выслушал и одобрил принятое решение и приказал чаще информировать его.
– Буду в Ставке ждать известий.
Ночь перестала быть ночью. В Москве тоже не спали, волновались.
В три часа сотни орудий и два полка полевой реактивной артиллерии Воронежского фронта начали контрподготовку. Море огня и раскаленного металла обрушилось на головы изготовившихся к наступлению немецких солдат и офицеров. Рушились мосты, НП, рвалась связь, превращалась в груды искореженного железа выведенная на исходные рубежи техника. Над позициями немцев встала стена земли и дыма. Ее раздвигали полотнища огня – рвались склады боеприпасов. Немецкая артиллерия начала было отвечать, но тут же смолкла. Предрассветную мглу освещали пожары, ракеты, прожектора. Немцы переполошились, усиленно освещали местность, полагая, видимо, что русские упредили их в наступлении. В три часа десять минут снова позвонил Сталин:
– Ну как? Начали?
– Начали.
– Как ведет себя противник?
Василевский доложил. После некоторого молчания и потрескивания в трубке прозвучал ответ!
– Что ж, все идет как нужно.
Взятый в середине дня пленный офицер рассказывал:
«Эти тридцать минут были настоящим кошмаром. Мы не понимали, что случилось. Обезумевшие от страха офицеры спрашивали друг друга: «Кто же собирается наступать – мы или русские?»
В три часа тридцать минут наступила тишина, В перелесках и садах стали подавать голоса распуганные птицы. Начиналось обычное утро, отравленное гарью сгоревшей взрывчатки, вывороченной земли и ожиданием. Ожиданием мучительным и тревожным. «Что, если эшелоны снарядов выпущены впустую, немцы наступать не собирались и отдыхали в укрытиях?..»
Думали и ждали все, кто был на этой земле. Молчание длилось больше двух часов. Артподготовка немцев началась в шесть часов утра. Одновременно в воздухе появилась их авиация группами по пятьдесят – сто самолетов. (На севере, в направлении Понырей, немцы начали наступление на полтора часа раньше.)
Кто-то из офицеров ворвался в штаб и, нарушая всякую субординацию, радостно закричал:
– Ура! Ожидание кончилось!
Глава 8
Как всегда по утрам, была роса; как всегда, начала побудку кукушка в вербах; радуясь новому дню и подрагивая раздвоенным хвостом, на подвесные армейские провода уселся и запел стриж; пролетела нелюдимая ворона и уронила над двором свое «кар-карр»; в соседней роще неистово галдели грачи, ублажая ненасытное потомство. Как всегда, из-за дальнего косогора медленно выкатилось красное солнце и тут же спряталось за багрово-черной вздыбленной землей. За ее толщей оно казалось неправдоподобно тусклым, рыжим и безжизненным.
Может, утро и продолжалось, как прежде, но из людей никто этого больше не замечал.
Стекла в избе, которую занимал штаб полка Казанцева, вылетели при первых же залпах, потом с треском выдрало и сами рамы. Антоновка в саду с дробным стуком посыпалась на землю, крыша осела и увлекла за собою печную трубу.
Разодранный в клочья воздух тугими волнами кидался из стороны в сторону и не находил себе места. Над двором разноголосо пели свои и немецкие снаряды. Они неслись в несколько этажей и с различной скоростью, и пение их было настолько густым и плотным, что приходилось дивиться, как они не сталкиваются там. Но снаряды, видимо, строго подчинялись закону вероятности: каждый летел по своему адресу.
Батальон Карпенко к утру сменился, отошел на вторую позицию полка. Там, где они были несколько часов назад, к небу поднялась багрово-черная стена, будто взбунтовалась и вздыбилась вся толща земли и плотиной перегородила весь небосклон.
В клубы дыма и пыли ныряли десятки самолетов. Взрывами их подбрасывало вверх как мячики. Ярусом выше чертовым колесом вертелась в мертвой схватке карусель воздушного боя. Все это со стороны походило на забавную игру.
Батальону Карпенко доставалось меньше, и солдаты с раскрытыми ртами смотрели на эту картину. Разговаривать было невозможно. Голоса тонули в торжествующем скрежете и вое железа, слитном реве авиационных моторов.
Тишина наступила внезапно. Земляная плотина постепенно опадала над степью, по которой безжалостно прошелся плуг войны, и валом пополз низкий гул, раздались характерные резкие удары пушек. В атаку шли бронированные машины буквой «Т». С воздуха атаку танков поддерживала авиация, с земли – артиллерия. Все зримое пространство перед окопами курилось короткими хвостами пыли, обозначая каждую машину. Эти хвосты сплетались в общую гриву, которая укрывала всю юго-западную часть земли и неба. А из балок выходили все новые и новые немецкие танки, и казалось, этому движению не будет конца и края. Никогда тем, кто сидел сейчас в окопах, не доводилось еще видеть такого количества железных чудовищ.
Над полем будто струна лопнула, и время остановилось.
Артиллерия поставила подвижной заградительный огонь. Из окопов батальона Карпенко хорошо видели батареи. Видели, как дергаются стволы пушек и снуют по орудийным дворикам люди. «Тигры» вначале приостановились, принюхиваясь длинными хоботами, как гончие к следу, и, оттесняя огонь и обтекая его рубежи, продолжали двигаться к окопам.
В дело вступила полковая и дивизионная артиллерия. Новые облака дыма и пыли затягивали пространство. В этом невообразимом чаду безмолвно возникали и расплывались мутно-желтые очаги огня, рвались пачки реактивных снарядов, горели легкие и средние танки немцев. «Тигры» же, как заговоренные, продолжали двигаться вперед. Вот они скрылись в противотанковом рву, выбрались из него. Рев моторов и гром выстрелов пушек толкались в плотный рыжий свод неба, удвоенные, возвращались на землю. Над окопами и батареями завис холодок ужаса и неотвратимости.
– Что ж они, проклятые!
– «Мессер», «мессер» падает!
– Протри буркалы!
Оставляя за собою плотную спираль дыма, на землю камнем падал «як». Его обгоняли обломки двух «юнкерсов «.
– Ах ты! – Грохот смыл крутую соль солдатского благословения.
Небо – все в оспинах разрывов зенитных снарядов. Среди них ныряли желтобрюхие стальные птицы. Через позиции батальона пошли раненые.
– Там все контуженые. Все кричат, и никто ничего не слышит! – показывали они в сторону, откуда шли.
– Комбат как пробка! Растопыренными руками командует!
– Неходячие раненые есть? Вывести бы их!
– Не полохайтесь! Горят, як проклятые и от снаряда, и от бронебойки, и от взгляда лютого!
– Не верьте! Его присыпало! Ничего не видел!
Раненые оставляли после себя тревогу и неясность. Привели пленного. Черные космы на голове забиты землей. Чертит пальцем в воздухе круги, твердит как заведенный: «Ауфшлессен! Ауфшлессен!..»
– Обалдел! – Карпенко поправил ремешок каски на подбородке, тут же забыл про немца.
Дым и пыль разъедали глаза. Первые траншеи совсем из виду пропали. Как в тумане, двигались танки, мелькали люди. Туман пузырился тысячами пульсирующих огней, которые окрашивали в красное озера этого тумана и отдельные очаги пожаров. Воздух раздирали тысячи пудов раскаленного металла. Солнце поднялись уже высоко и проглядывало сквозь дым и пыль, как при затмении. От взрывов бомб, снарядов, раскаленных стволов пушек, автоматов, пулеметов, жара моторов, дыхания тысяч людей и потных тел их воздух становился все более густым и жгучим.
За полдень все перемешалось, потеряло свои привычные понятия. Немцы считали, что они наступают и продвигаются, нашим казалось, что они дерутся и стоят на месте. Дрались за метры, воронки, блиндажи.
Там, наверху, наверное, казалось, что бой сохраняет свои закономерности: атака – продвижение или отход, и снова повторение всего сначала. Для тех, кто дрался, это было сплошным нескончаемым кошмаром и безумием. От горящих танков загорались и горели, потрескивая, рожь, пшеница, бурьян. На точку, которую на карте можно было прикрыть пальцем, налетали сотни самолетов, обрушивался ливень снарядов. После такой обработки, полагая, что на дне этого огненного кратера никого и ничего нет в живых, немцы снова начинали движение вперед. Но кратер оживал. Оглохшие и полуослепшие люди откапывали своих товарищей, поднимали оружие и били по осатаневшим и озверевшим гитлеровцам.
Матерно ругаясь и оглядываясь на высоту, где они только что были, к обороне Карпенко отходили группки солдат.
– Говорил тебе.
– Тоже хорош. Танки идут, а ты задним местом пугаешь их.
– Будет, – устало и равнодушно просит лейтенант. За потерю высоты он, наверное, всю вину берет на себя и считает, что спор касается в первую очередь его. Он командовал ими. Лейтенант вздохнул, поправил на себе снаряжение. Под каской бурела свежая повязка, опавшие втянутые щеки омывал пот… «Разве ж в девятнадцать лет сообразишь сразу, – продолжал он мысленно оправдывать себя, механически, не глядя прыгая через воронки. – Теперь-то я задержал бы и их, и немцев… А там…» И опять клянет свою молодость и неопытность, несправедливо виня себя в трусости.
Пожилой боец, спотыкаясь, заглядывает в мальчишеское лицо лейтенанта. Он тоже в душе считает виноватым лейтенанта… и себя тоже. «Ну сдрейфил мальчишка, а мы-то, старые, зачем?.. А теперь!.. – До хруста ломает шею, оглядывается назад. – И высоты мозоль проклятый!..»
Угловатые, приземистые, по-волчьи широколобые «тигры» выдвинулись из мглы перед самыми траншеями батальона, неотвратимые, как привидения. За десантной скобой переднего защемило пучок овсюга и махорчатую головку бодяка. Плотно обжимая перепончатой гусеницей землю, «тигр» перевалил через траншею. За ним остальные.
Солдаты, как при обкатке, пропустили их и тут же поднялись. За танками, колыхаясь, будто брели по воде и раздвигали ее плечами, шли автоматчики. Взахлеб, истерически зашлись пулеметы, дождевой дробью сыпанули автоматы, и тут же завязался гранатный бой, рукопашная.
По «тиграм» в тылу ударили батареи ПТО, по пехоте свинцовым ливнем – счетверенные зенитные пулеметы. Немцы заметались, теряя ориентировку. Кружили, как пшено в котле: отход закрывала стена огня, впереди – то же самое. Они походили на тараканов, которых ошпарили крутым варом. Назад возвращаться было некому.
За первой волной без паузы накатилась вторая. На позициях третьего батальона гремели выстрелы. Отходили одиночки, как эти двое с лейтенантом. Остальные, оглохшие, задыхающиеся, дрались и умирали на месте.
Принесли МГ-34, пулемет немецкий.
– Кто может обращаться с ним?
– Дайте мне, товарищ капитан, попробую. – Узкоплечий Кувшинов отфыркнулся, сдувая мутную завесу пота с бровей, повозился, полоснул длинной очередью по багровому туману впереди с дождевой россыпью огоньков, которые затухали, двигались, начинали биться вновь. – Беру!..
– Бери!
Метрах в тридцати от НП Карпенко «тигр» завалился одной гусеницей в траншею, буксовал. Кувшинов плесканул по смотровым щелям из пулемета, потом вдруг выхватил из ниши плащ-палатку, прыжками преодолел эти тридцать метров, взобрался на танк сзади и накинул на смотровые щели плащ-палатку. Едва смельчак успел скатиться на землю, из соседнего танка по месту, где он только что был, хлестнула струя зеленого огня.
Бутылка с тонким звоном чокнулась о решетку позади башни, и в щели броневых листов «тигра» потекли синеватые бесцветные змейки огня.
– Умница, Гриша! – Из окопа по пояс высунулся старшина Шестопалов, белел на черном лице зубами.
Кувшинов прыгнул к нему передохнуть. На дне окопа пластом лежал раненый. Из-под каски блеснули разъеденные потом глаза, заструпевшие в коросте и пыли губы потянула улыбка.
– Гриша… скажи что-нибудь… будь другом… – Икая от боли, раненый ворохнулся, силясь встать, мутные слезы и пот прорубали в грязи на скулах и шее кривые дорожки.
Подбитый Кувшиновым «тигр» раскочегарился, над трансмиссией столбом ударило пламя, и из башни выпрыгнули немцы в трусах и майках. Шестопалов приземлил их всех из автомата.
– Сыпь им углей в мотню, чтобы руками выгребали! – В углах губ Кувшинова прикипела улыбка, шарил глазами по полю. – Еще идут!
– Накладем и этим! – Старшина живо окрутнулся в окопе, вогнал в гнездо автомата новый диск. – Помогай!..
Под «тигром» загорелась земля, лисьи хвосты огня заворачивали на окоп, осыпали маслянистой копотью.
– Как он тебя из пулемета не сбрил?
– Этот одноглазый недоделок без пулемета почему-то!.. [5]5
Вариант «тигра» фирмы «Порше» пулемета не имел, боезапас его тоже был меньше.
[Закрыть]
Над позициями батальона пролетел разведчик – «рама». Над КП разведчик выпустил ярко-оранжевую лепту дыма. Она быстро оседала вниз, растекалась, превращая позиции батальона в озеро оранжевого тумана.
– Заклеймили, гады! Всем в укрытия! – Карпенко привалился спиной к стенке окопа, в груди от натуги и зноя хрипело, запрокинул плоское скуластое лицо в небо. Над горящей деревней разворачивалась девятка «юнкерсов». Успел оглянуться еще на тылы. Там войск много – и танки, и артиллерия, и пехота, – но у них свои бои впереди. Это НЗ – неприкосновенный запас. Их ждет Украина. А этих, какие прут, сейчас держать им.
Самолеты с крестами вышли на окопы. Ночью батальон оставил обрушенные, заваленные позиции.
Стреляли редко и гулко, как в обороне. На атласно-черном небе перемигивались и вели свою загадочную беседу звезды.
Люди шли подавленные, безразличные, бесчувственные от усталости, голода, жажды. Казанцев слышал за спиною их надсадный запаленный сап, перханье и покашливание, приглушенные голоса.
Что происходило сейчас в больших штабах и по всей Курской дуге, Казанцев, конечно, не знал, хотя мысленно и представлял себе ее всю. О немцах судил по напору на свой полк, понимал, что все свои резервы в первый день они не задействовали, следовательно, и спада напряжения ждать нечего. О состоянии дел фронта тоже судил по своим солдатам. На войне он не новичок: пережил начало ее и горькое лето 42-го, Сталинград… И все же сегодняшний день лег в душу особой отметиной… Каким же должен быть солдат, который сидит в окопе и ждет шестидесятитонную махину, вооруженную пушкой и пулеметами?! А солдат подпускал эти страшилища на 10–15 метров, пропускал их через себя и, задыхаясь от проседающей земли, мазутной вони и жара моторов, поднимался и боролся с ними. Среди этих солдат были и мальчики 1925 года рождения. Нескладные, длинношеие, худенькие. Как у них впервые в жизни суживались глаза при подходе этих стальных чудовищ и осатаневших от жары, крови и скрежета металла гитлеровцев!.. Потом наших бойцов несли в братские могилы. Подковки на их первых солдатских ботинках не успели износиться, закруглились, блестели…
Казанцева самое страшное на войне обходило. Видать, кто-то крепко молился за него: о первого часа – и ни разу в госпитале. Землю свою где пешком, где бегом, а где и ползком на брюхе одолел до Сталинграда и теперь возвращался назад. Немцы брали нашу землю себе, убивали на ней наших людей и поганили ее саму. Теперь и они возвращаются и тоже убивают и поганят… Споткнулся. Убитый у сгоревшего и опрокинутого набок «тигра». «Вот так, – вспыхнула злорадно-простая мысль. – На этих наших полях остаются не только их трупы, но в несбывшиеся великогерманские надежды». В обороне доводилось видеть возвращение беженцев. Чем ближе хата – лица светлели, сил прибавлялось. А хаты-то и не было. Зола. Поплачут и начинают копаться в этой золе, возвращая жизнь. И ни разу не довелось видеть, чтобы кто-то покинул свое пепелище и пошел искать более счастливое место. Оставались оживлять свое… Та правда, какую он знал и чувствовал в этой войне, не могла пока утешить его сердца, но, как и в солдатах, какие шли сейчас рядом с ним, в нем таилось чувство, связывающее всех в одно большое родство. Не пустовала эта земля ни людьми, ни хлебом, ни духом.
Миновали траншею. В узком месте ее два солдата в разной одежде сплелись в смертном объятии – так и застыли. В перепончатом следе гусеницы желтел кустик. Казанцев нагнулся, сорвал. Донник! Милый родной донник! Стебелек поломан, цветы измяты, но сам – живой.
Одолевая тупую боль в спине и гудевших ногах, Казанцев отошел в сторону.
– Бодрей, бодрей, ребята!
Из колонны не ответили, но Казанцев знал, что к его голосу прислушиваются, и старался говорить свежо, без напряжения, давая знать, что все идет именно так, как они все этого хотят. И солдаты верили, что все действительно идет наилучшим образом, стряхивали усталость и шли ровнее.
* * *
До полудня артиллеристы Раича в бой вступали эпизодически. На позиции батареи был всего один артналет и только дважды выгрузились бомбовозы. Ни вчера, ни сегодня еще рано утром ни Раич, ни его люди не знали и не думали, что окажутся на направлении главного удара, что их будут атаковать, и не один раз, танки, самолеты, пехотинцы. В конце концов батарейцам было все равно, на каком направлении они окажутся, кто и сколько раз их будет атаковать: они знали твердо – трудно будет всем. Не все равно им было только одно: устоять или отойти. Устоять! Это они знали совершенно определенно. Знали они также хорошо, что лобовая броня «тигра» 100 миллиметров, бортовая – 80, пушка – 88 миллиметров калибр и два пулемета. Десятки тонн стальных мускулов и брони! И со всем этим им нужно было бороться. И не только бороться, но и устоять. У «тигра» есть уязвимые места, а вот у них, солдат, этих мест быть не должно. Главное – подпускать эти «титры» как можно ближе и тогда уже бить.
Когда первая волна немецких танков достигла батальона Карпенко, на орудийные дворики батареи вышла кучка пехотинцев. Впереди солдат с телом «максима» на плече.
– На твои пушки, старшой, отходим. Принимай прикрытие.
– Много вас?
– Сколько видишь. Все, что осталось.
– А бронебойщики ваши где?
– Там, – рукой в сторону железного клина. – Там и останутся.
– Идите к пехоте. Найдут дело. Мы без вас управимся.
Раич был как раз в центре, в расчете сержанта Соколова, так удачно стрелявшего при командарме. Гусеницы переднего «тигра» глубоко оседали в сухом перепаханном бомбами и снарядами грунте.
– Бат-тар-рея!..
– Заряжай! – продублировал Раича Соколов. – По ползучему гаду! Наводить прямо в кошку! Подкалиберным!..
После первого залпа каждое орудие стало вести свой самостоятельный поединок.
Немцы откатились назад, оставив чадить три T-IV.
– Маху дал, старшой. Это у них пробный заезд.
На батарею обрушился шквал огня. Раич не успел прыгнуть в щель, взрывной волной его выбросило на бруствер дворика, покатило по ржи. Вскочил на четвереньки, быстро пополз по ржи назад. Из щели на него в ужасе глядел правильный из новобранцев. Он готов был на самый необдуманный поступок. Раич понял его состояние. Под тонкой гимнастеркой в этом торжествующем реве металла солдат чувствовал себя беззащитным. Да и сам он ощущал, как учащенно бьется загнанное, перегруженное собственное сердце, ненадежно защищенное всего-навсего ребрами.
Налетели «юнкерсы». После их ухода на месте щели правильного Раич увидел бугор. Он бросился к бугру, стал разгребать его руками и сразу же нащупал голову, нос, уши правильного. Откопать полностью не успел: на батарею снова шли танки.
– Потерпи минутку! – обдул нос, глаза, рот и бросился к пушке.
Поле впереди закрывала копоть, пыль, загоревшаяся рожь. Вспышки рвали эту ткань справа, слева, спереди. Двигались темные силуэты, увеличенные расплывчатостью и еще более устрашающие.
– Старшой! Старший лейтенант!
Над самой траншеей навис танк, Раич упал на дно траншеи. Обдавая горячим зловонием, обрушивая землю, прополз «тигр», остановился в нескольких метрах для выстрела. При откате после выстрела гусеница «тигра» прошепелявила в полуметре от откопанной головы правильного. В глаза, рот, нос ему поползла пыль.
На этот раз атака была настойчивой. Перед батареей остались два «тигра». Один из них подбил расчет Соколова. Сначала его «разули», а потом, когда он развернулся на одной гусенице к ним боком, ударили в борт.
– Горит! Ура-а!..
Правильный в эти десять минут набрался страхов, должно быть, больше, чем за всю свою прежнюю коротенькую жизнь. И на будущую хватит. Он думал, наверное, что его забыли и бросили. Земля успела остудить ему нутро. Это она кажется горячей, пока лежишь на ней, а ляг в нее, и она сразу становится другой, безжизненной и холодной.
– Посиди малость, отойди, – посоветовал правильному Соколов, отряхивая с него землю.
Почувствовав себя свободным, бедняга на коленях бросился к нише за снарядами. Ему хотелось как можно скорее доказать товарищам, которые его спасли, свою нужность на батарее.
Правое орудие вело очень редкий огонь. Перед его позицией пылало три «тигра» и две «пантеры». Раич пригляделся – у пушки один человек. Когда он прибежал туда, по орудийному дворику в беспамятстве ползали раненые, у орудия в одиночку ворочался туляк Пономарев.
– Вовремя, старшой! Видишь: сам в рай просится, как откажешь!..
С противоположного борта «тигра», в который он ударил, сначала неуверенно, потом разом вырвалось и забушевало пламя. Дыра в лучах-трещинах зияла в самом центре креста на борту.
– А теперь пусть чешутся. Иди, старшой. У тебя батарея. Я найду себе помощника. – И тут же окликнул пробегавшего пехотного солдата: – Помогай, браток! Хватит бегать. Повоюем трошки.
На орудие шли уже три танка и бронетранспортер с пехотой. Танки маневрировали, вели огонь. Никак не приспособиться к ним.
– Что ты крутишься, гад!
Пономарев угадал маневр и всадил снаряд в борт танка с первого же выстрела. Слева, пересекая овраг, батарею обходили десятка два средних и тяжелых танков. Раич только вздохнул при их виде. Сколько их, откуда и куда они идут, пожалуй, не имело никакого значения, как не могло иметь никакого значения и то, кто их остановит – его батарея или другие. Самое важное – делать все возможное и невозможное, чтобы они остановились, и он делал это сам и помогал делать другим.
* * *
Ночь пришла несколько раньше и почти внезапно. Солнцу за весь день так и не довелось рассмотреть как следует, что же делается на земле.
Степь заполнилась тысячами мигающих светляков. Они двигались, гасли, возникали вновь. Это почти беззвучно в общем грохоте стреляли автоматчики. Над полосой земли, которая сверху выделялась огненным шнуром, повисли на парашютах ракеты. Это есть и выпивать можно и в темноте – мимо рта не пронесешь. Фронт сражаться в темноте не желал.
Из-за холмов выплыл рог молодого месяца. Впереди, справа и слева еще продолжали греметь пушки. Там продолжали свежевать «тигров» и из живых гренадеров делать мертвых.
Но усталость брала свое. Бой постепенно стихал. Шли свежие части на смену обескровленным, получали новые задачи и передвигались артиллеристы. Везли боеприпасы, почту, тягачи буксировали подбитую технику, несли еду старшины, начинали свою работу разведчики, саперы. В балках разворачивались штабы, пункты боепитания.
По полю раздавался лай собак. Собаки-санитары лаем извещали санитаров-людей о найденных раненых. Специальные команды подбирали и хоронили трупы. Русские так и останутся на этих полях, на своей земле. Кончится война, и на их могилы смогут приехать дети, матери, бывшие невесты, жены. Похоронят и немцев, если они не успеют сгнить под палящим солнцем, но на их могилах не будет ни крестов, ни памятников, даже холмиков. Их могилы будут отмечены только проклятиями, и никто не будет знать, где они.
У подбитого «тигра» в темноте на карачках ползают солдаты. Сгоревшие танки – черные. Не такие, какими они надвигаются, устрашающе раскрашенные. Земля вокруг них серая, обугленная, в пепле. Есть среди подбитых и целые, разрисованные пятнисто. Не сразу заметишь такого зверя в траве или кустах. Боеприпасы в целых «тиграх» есть. Экипажи бежали.
– Поменяли цвет, суки. В сорок первом – черные. Помнишь?
– И кресты мулюют – не заметишь. А то желто-белые, во весь борт.
– Гадюка тоже меняет кожу. Слетела наглость.
– Не слетела, а сшибли. Обломали рога.
Усатый солдат с гранатами на поясе деловито меряет броню «тигра» четвертью. Вид у него серьезный, хозяйски-хмурый, руки крупные, черствые. С таким же усердием он, наверное, пахал эту землю и примеривался, как срубить избу.







