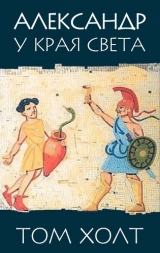
Текст книги "Александр у края света"
Автор книги: Том Холт
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 33 страниц)
Спереди и сзади торчат вверх два шеста, как голова и хвост козы; по обе стороны козьего хвоста крепятся на палках две широкие доски, которые погружены в воду.
Рулевой – человек, который пытается заставить корабль двигаться в желаемом направлении – тянет за эти доски, чтобы корабль поворачивал (попробуй выставь ладонь прямо, большим пальцем вверх, опусти ее в воду и веди вбок. Ты почувствуешь, как ладонь проходит сквозь воду, но при этом слегка упирается в нее. Вот так корабль и разворачивают, отталкиваясь от воды).
В целом это и все. Он весь собран из досок, подогнанных одна к другой достаточно плотно, чтобы не пропускать воду; он ужасно хрупок, и когда на море задувает ветер, корабль прыгает по волнам вверх-вниз, он может перевернуться или разбиться о скалы в щепки. Вообрази, что ты сплавляешься по реке в перевернутом зонтике, и поймешь основную идею процесса.
Поэтому неудивительно, что моряки – люди, которые зарабатывают на жизнь, плавая по миру на этих штуковинах – народ чрезвычайно нервный, склонный к иррациональным страхам и суевериям. В определенной мере все греки суеверны, но моряки совершенно помешаны на приметах; в частности, особенное внимание они уделяют снам, ругательствам и чиху. Только попробуй чихни, поднимаясь по трапу, и тебя, вполне вероятно, вообще не пустят на борт – если только, чихая, ты не смотрел вправо, потому что в этом случае чих будет считаться добрым предзнаменованием. На земле моряки сквернословят не меньше прочих, но едва корабль выходит в плавание, можно отправиться за борт, воскликнув «Проклятье!» или «Да ну тебя к воронам!». (Ворона на снастях, кстати говоря, рассматривается как наихудшее предзнаменование из всех возможных, так что стоит кому-нибудь углядеть темную точку, плывущую по воздуху по направлению к кораблю, все бросают свои дела, выбегают на палубу и принимаются топать, свистеть, швыряться орехами, оливками и всем, что попадется под руку).
Но больше всего моряков занимают сны. Вот ты мирно спишь на палубе, время к рассвету, и тут какой-то шут гороховый пинает тебя под ребра, полный решимости узнать, что там тебе снится. Я попросил одного моряка разъяснить мне значение различных снов – это заняло у него больше часа. Я запомнил далеко не все, только некоторые моменты – коза означает большие волны, особенно черная; свинья – шторм столь жестокий, что шансы выжить практически равняются нулю. Совы означают пиратов. Сны про чаек, с другой стороны, хотя и тоже предвещают катастрофу, но не смертельного свойства – корабль, возможно, пойдет ко дну, но люди останутся живы. Сны о полетах на спине или ходьбе по волнам – это благоприятные сны. Попробуй припомнить, сколько раз тебе снилось, что ты летишь на спине, и сможешь оценить фундаментальность пессимизма среднего моряка. Ах да, танцы – танцевать на судне категорически не следует; тебя швырнут в волны с такой силой, что ты несколько раз от них отскочишь.
Я рассказываю обо всем этом только для того, чтобы стало понятно, как мне удалось узнать сон Эсхина. Итак, я уже, кажется, упоминал, что Эсхин был профессиональным актером, пока не сообразил, что заниматься политикой гораздо выгоднее; и он был хорошим актером, блиставшим в амплуа юных дев, болтливых старых хрычовок и посланников, приносящих вести о кровавых убийствах. Не знаю, может быть годы, проведенные за зубрежкой стихов, среди живых и ярких образов, сделали что-то такое с его мозгом. Возможно, он с самого начала был такой, почему и стал выступать на сцене.
Так или иначе, но на третье утро, в виду города Пагасы (или того места, где он располагался, пока Филипп не сыграл им в свою грубую игру), я подслушал его беседу с одним из моряков – маниакальным перехватчиком снов.
– Никогда тут не был, – говорил Эсхин, – но я сразу понял, что это Пагасы, как будто всю жизнь здесь прожил. Очень странное ощущение.
Моряк кивнул.
– Вот ты смотришь на него прямо сейчас. Таков ли он, как в твоем сне?
– Понятия не имею, – ответил Эсхин. – То есть нет, в моем сне он был совсем не такой. Но только потому, что сейчас здесь только руины домов, обрушенные стены и пепел.
Не думаю, чтобы моряку понравилось, куда сворачивает разговор.
– Ну? – сказал он. – Что случилось-то?
Эсхин нахмурился.
– На самом деле я не уверен, – ответил он. – О, сон я помню вполне ясно, и пока я спал, он казался полным смысла. Теперь же...
Тут моряк поднял взгляд и заметил меня. Я тоже заметил, что он заметил меня, но скромно удалиться уже не мог, поскольку этот маневр в тесном пространстве корабля требует хорошей подготовки и тщательного планирования. Тут следует пояснить, что каким-то образом команде стало известно о моих профессиональных занятиях, и будучи людьми крайне суеверными, они восприняли информацию о горшке с демоном с величайшей серьезностью.
– Эвксен, – позвал моряк. – Иди сюда. Я хочу, чтобы ты растолковал мне сон.
Очевидно, он забыл, что не далее как вчера сам полдня учил меня искусству толкования. Так или иначе, спорить смысла не было. Я достал кувшин и присоединился к ним.
– Я стоял на рыночной площади Пагасы, – сказал Эсхин, – и беседовал с какими-то людьми, очевидно, своими знакомыми; внезапно ниоткуда возник пес, который принялся метаться между прилавков, опрокидывая их и убивая людей. Я слышал их крики. Это было ужасно.
Лицо моряка приобрело тревожный зеленоватый оттенок.
– Продолжай, – обратился я к Эсхину совершенно спокойным голосом. – Это довольно интересно.
– Ну так вот, – продолжил свой рассказ Эсхин. – Очень скоро пес разнес весь город, согнал овец и запер их в загоне – к этому моменту мы уже оказались в Пелле, но одновременно это были и Афины; и верите или нет, откуда ни возьмись выпрыгнул лев, хватил пса по голове и убил его. Затем лев повел овец через Геллеспонт в Азию – только это были уже не овцы, это были пчелы – а лев, который перестал быть львом, но все же остался им, расхаживал вдоль рядов, инспектируя крылья и жала, как будто они были воинами на смотру; затем он рассадил их по ульям, которые взвалил на спину человека, так что тот едва-едва ковылял. Потом они вдвоем полетели на восток, и я знаю, что они преодолели долгий путь, но я сразу оказался на дальнем конце его, где и ожидал их. Когда они прилетели, количество ульев выросло невообразимо; я стоял в воротах города, в отчаянии пытаясь захлопнуть их, чтобы не дать им проникнуть внутрь; однако это был один из тех снов, ну, знаете – ворота никак не желали закрываться, хотя ничто им не мешало, а всякий раз, когда я оглядывался, наступающие подступали все ближе и ближе.
В общем, ульи выстроили перед воротам и распахнули заслонки; сотни тысяч мертвых пчел ринулись наружу. Среди них не было ни одной живой пчелы, ни одной. Лев тоже был мертв – я стоял в Собрании, дома, и чуял вонь от львиного трупа, доносящуюся из Азии. Я оглянулся вокруг в поисках хоть кого-нибудь, кто мог бы объяснить мне, что происходит, но все разбегались в разные стороны, не желая со мной говорить. Я пытался заставить их слушать, но они бросились на меня, сбили наземь и стали пинать ногами. И тут ты, – обратился он к моряку, – меня разбудил. Ну? – заключил он, глядя на меня. – Есть у тебя хоть какие-то соображения, что все это может значить?
– Да, – ответил я. – Тебе не следовало есть перед сном острый сыр. Это несварение, вот и все.
Никому из них мои слова не показались забавными, но после этого случая ко мне перестали приставать с толкованием сновидений. Когда на следующий день мы высадились на берег, не встретив пиратов, не разбившись о скалы, не затонув, не столкнувшись с мятежом или проявлением гнева богов, то суеверный моряк, я клянусь тебе, был разочарован. Некоторым не угодишь.
Путешествие из устья реки Аксий до Пеллы, где располагался двор Филиппа, было долгим, но не слишком утомительным. Он прислал за нами отряд всадников, исполнявших роль эскорта, а те привели для нас лошадей; македонцы никогда не ходят пешком, если можно этого избежать. До того момента я имел отрадно мало дел с лошадьми; у отца конь был, поскольку его, по богатству и политическому статусу относящегося к афинскому сословию Всадников, обязывал к тому закон. Этого коня звали Каштан, он поглощал львиную долю нашего ячменя и обитал в конюшне в Паллене; когда я вел себя плохо, отец угрожал, что скормит меня ему. С моей точки зрения это была ужасная угроза. Человек, взбираясь на лошадь, оказывается слишком далеко от земли, а я не вижу смысла подвергать себя подобному риску. Конечно, Фризевт, и ты, и твои ленивые соплеменники чувствуют себя как дома на спинах этих ужасных тварей, каковое обстоятельство я считаю доказательством вашего невежества и дикости, скрывающихся под маской внешней цивилизованности.
Ну да ладно; мы должны были проявлять дипломатичность, и отказ следовать куда угодно в компании кошмарных созданий мог, вероятно, причинить смертельную обиду другой стороне, поэтому мы сели на коней и поскакали прочь от берега, в Пеллу. Роль мешка с овсом, переброшенного через спину осла, удалась мне прекрасно.
Македония делится на две части – равнинную и горную. Горы подковой огибают прекрасные плодородные земли вокруг залива Термаикос. Пелла лежит на равнине, чего я вовсе не ожидал. Мы, афиняне, считаем, что знаем о македонцах все: это звероподобная, вечно пьяная шпана, завернутая в козьи шкуры и обитающая в горных ущельях. В том, что касается горцев, это совершеннейшая правда. Филипп, однако, происходил из семьи равнинных жителей, и хотя те неукоснительно придерживались старых национальных обычаев вроде кровной мести и наследования через отцеубийство, но в течение нескольких поколений изо всех сил старались стать лучше. Дед Филиппа, например, привлек ко двору великого и безнадежно непопулярного афинского поэта Эврипида, причем сделал он это лишь отчасти для того, чтобы досадить вождям горных племен (которым приходилось сидеть смирно и слушать, вместо того, чтобы убивать кого-нибудь на свежем воздухе; мне, прочитавшему собрание сочинений Эврипида, трудно их винить. Я бы тоже лучше кого-нибудь убил).
Мы, невзирая на это, ожидали увидеть что-то вроде длинного сруба – а вместо этого нас ждало чудо из белого и расписанного мрамора, хотя мозаики, на мой взгляд, были слегка кричащими. Вышло так, что я сразу получил преимущество перед своими коллегами-послами. Так уж сложилось, что я любил собак, включая больших и энергичных, а они любили меня. Когда мы въехали за стену дворца царя Филиппа, то обнаружили, что он весь заполнен псами – красой и гордостью горских вождей. Увидев афинянина, который не бросился немедленно прочь, чтобы взлететь на ближайшую стену, когда тварь размером с лошадь, с длиннющим розовым языком и клыками, напоминающими корабельные гвозди, опустила ему на плечи огромные лапы, они были заинтригованы. Я, не вымолвив еще ни словам, с их точки зрения, оказался своим парнем.
В тот момент я еще не ведал, откуда они почерпнули свои познания об афинянах, но очень скоро узнал это.
Да простят меня боги за такие слова, но я обнаружил, что македонцы мне нравятся. Отчасти, я уверен, это объяснялось облегчением от того, что они оказались не хрюкающими дикарями в ожерельях из вражеских зубов. Кроме того, мне было несколько стыдно за настроение своих собратьев, которые с самого начала вели себя так, будто их вот-вот забьют палками, как дроздов, и зажарят, не разделывая, на обед. Демосфен, как и можно было ожидать, учитывая, что он всю жизнь рисовал Филиппа воплощением зла, а македонцев – его демоническими пособниками, вел себя оскорбительнее всех, но и остальные были не сильно лучше. Кроме того, я пытался подвести под свои чувства рациональное основание, предположив, что простота и неформальность филиппова двора импонировали моей кинической части.
Оправдания, оправдания. Они не могли мне не понравиться. Они были в точности как их огромные псы; немного дружелюбия и чуточку смелости, как раз чтобы показать, что ты их не боишься, и они из рычащих волкодавов мгновенно превращались в больших веселых щенков. Разница заключалась в том, что они были готовы отнестись к нам со всей душой, стоило нам выказать хоть малейшее согласия принять их как «истинных» греков – которыми они, положа руку на сердце, не были. Впрочем, я не уверен, что это так уж плохо. Это благоговение, против воли испытываемое ими по отношение к нам только потому, что мы были афинянами, я уловил практически сразу. Они воспринимали нас, подозреваю, как мы воспринимаем богов: мы признаем, что те, вероятно, мудрее нас, безусловно гораздо сильнее, и совершенно определенно не вызывают никакой симпатии. Мы не одобряем богов, утешая себя в своем униженном по отношению к ним положении лишь тем, что с точки зрения морали мы выше их всех, вместе взятых. Я ощущал точно такое же чувство морального превосходства, которое эти прямодушные, простые люди держали между собой и нашей упаднической сложностью, будто щит. Во всяком случае, в тот момент мне так показалось. Я принял это ощущение.
Извини меня за отклонение от темы, но мне вспомнился Диоген... Как-то раз, когда я еще был довольно молод, мы с ним шли через Квартал Горшечников и он указал мне на франтоватого юношу, крикливо разодетого по последней моде, с завитыми и надушенными волосами и аккуратно подстриженной бородой.
– Что скажешь? – спросил он достаточно громко, чтобы его расслышали окружающие.
– По-моему, он выглядит очень элегантно, – ответил я.
Диоген покачал головой.
– Притворство, – сказал он.
Чуть позже, когда мы проходили мимо Академии, он остановился и показал на весьма известного иностранного философа, приехавшего с одного из островов. Тот, в домотканом одеянии, с босыми ногами и длинной седой бородой, чистой, но растрепанной и давно не стриженной, представлял собой впечатляющее зрелище.
– Что скажешь? – спросил он опять.
– Притворство?
– Учишься понемногу.
Я кивнул, мы двинулись дальше и вышли к колодцу. Я остановился, наполнил водой ведро и ткнул в него пальцем.
– Что скажешь? – спросил я.
Он посмотрел вниз и увидел свое отражение.
– Принято, – сказал он, и мы продолжили прогулку.
Так что да – примитивные мужественные ценности македонцев были притворством в той же степени, что и наша высокая культура и сложность; и что с того?
Покажи мне того, кто вовсе лишен притворства, и я покажу тебе труп.
Я не очень хорошо запомнил зал, в котором впервые увидел Филиппа, за исключением того, что он казался до краев заполненным Филиппом, так что ни для кого другого места в нем не оставалось.
На самом деле он был невысокого роста, не худощавый и не массивный; выйдя из города и поднявшись в холмы, где земледельцы мотыгами разбивают комья земли, ты увидишь сотню таких. Но лицо Филиппа, как лицо красивой женщины, было его судьбой; если ты припомнишь нашу беседу об удачах и неудачах, то это лицо как нельзя лучше могло бы проиллюстрировать мою точку зрения. Внешность царя, сама по себе, превращала его в самого искусного переговорщика и манипулятора человеческими сердцами и умами, какого я только встречал в своей жизни. Царь Филипп был невероятно уродлив. В принципе, было видно, что когда-то он был весьма хорош собой, пока в какой-то битве не лишился правого глаза, приобретя взамен отвратительный шрам. Белок этого глаза, закаченного кверху, как будто царь силился разглядеть свое левое плечо, все же частично выглядывал из-под изуродованной плоти, а швы, стягивающие рубец, пролегший ото лба, через глазницу и вниз по щеке почти до угла рта, напоминали первую детскую попытку вылепить что-то из глины – сжать края раны вместе и загладить стык.
Итак, ты можешь вообразить впечатление, которое это лицо производило на афинянина (красота означает добро, а уродство означает зло, помнишь?) – отталкивающе уродливая правая половина, отмеченная грубой красотой левая. И словно этой причудливой дихотомии было недостаточно, невозможно было заставить себя смотреть куда-нибудь в сторону, как бы ты не старался.
Это было нечто, к чему нельзя привыкнуть и что невозможно игнорировать; ты был обречен таращиться во все глаза. И, наконец, было очевидно – он делал это очевидным – что он знает, что ты таращишься, и знание это глубоко его ранит, весь ужас и вся жалость, испытываемые перед лицом красивого мужчины, внезапно превращенного в чудовище. Он ничего не говорил; он просто встречал твой взгляд свои единственным здоровым глазом.
Абсолютно непобедимая техника ведения переговоров, щедро брошенная на его колени благосклонной Судьбой, и он пользовался ей на всю катушку; в сущности, никакими другими способами он и не владел. Не будь у него этого сокровища, я полагаю, он не достиг бы на дипломатическом поприще и половины того, чему ему удалось добиться, а дипломатия сыграла в его свершениях не меньшую роль, чем грубая сила. Впечатление усиливал его мягкий, довольно мелодичный голос, который сообщал скрежещущему северному акценту известную приятность.
Итак, Филипп заполнял помещение; мне, провалившемуся в его изуродованный глаз, не хватило ни места, ни времени рассмотреть кого-то еще. Конечно, там присутствовали другие македонцы, крупные благородного вида мужчины с мощными волосатыми руками, а также красивые свирепые женщины, но при каждой встрече с Филиппом возникало ощущение, что ты оказался с ним наедине. Наше посольство попало в крайне невыгодном положении.
Не стоит и говорить, он нас размазал. Никакого рева, никаких криков; когда ему хотелось нас заткнуть, он просто начинал говорить чуть тише, так что нам оставалось только замолчать, чтобы расслышать его слова. Впрочем, он никогда и не мямлил. Клянусь, шепот Филиппа Македонского можно было разобрать с другого берега Эвбейского пролива. Это не значит, что он не угрожал нам. Он весь был угроза, он излучал опасность, как солнце излучает свет, и каждый, кто оказывался в этих лучах, ощущал, что рискует самой жизнью. Это была чрезвычайно непосредственная, физическая угроза – ты понимал наверняка, что стоит тебе сказать что-то не то, и он выпрыгнет из кресла, обнажит меч (он всегда был вооружен – как правило, широким синим стальным фракийским клинком) и раскроит тебе череп прежде, чем ты успеешь пошевелиться; и он бы сделал это безо всякого труда, ибо он был Филипп, от которого ничто и никто в мире не могло чувствовать себя в безопасности. Если не принимать все вышесказанное в расчет, царь был вполне приятным человеком, и мне он понравился.
За все проведенное там время мы не получили ни мгновения передышки. Если мы не вели переговоры (этот термин я использую только для удобства; переговаривались мы в том же смысле, в каком жаренная перепелка переговаривается с едоком), то нас развлекали – либо гигантскими объемами пищи (мясо, мясо и еще раз мясо, столько мяса за один присест, сколько средний афинянин съедает за год) и летальными дозами крепкого, терпкого вина, либо музыкальными и поэтическими представлениями, даваемыми дорогостоящими импортными артистами, которые нравились Филиппу почти так же, как обжорство и пьянство. Здесь следует упомянуть, что он был ужасный пьяница – один из тех опасных выпивох, на которых выпитое никак не сказывается внешне. Единственным свойственным ему признаком опьянения, который я смог заметить, была повышенная по сравнению с трезвым состоянием склонность в жестокости и великодушию, хотя предсказать, к чему он склонится в каждом конкретном случае, было невозможно.
Например: однажды вечером, когда гулянка достигла уже той стадии, на которой накачавшиеся хозяева переставали оскорбляться нашим отказом от попыток угнаться за ними, в зал ворвались мужчина и женщина, преследуемые заспанным стражником. Прежде чем их успели поймать и выдворить вон, Филипп поднял руку, показывая, что он готов их выслушать; мужчина пустился излагать страшно запутанную историю о спорном участке земли размером примерно с широкополую шляпу, который располагался между его и вот этой женщины владениями, о дырке, злонамеренно просверленной в свинцовом водоводе с целью хищения воды из его личного источника, о пропаже козы, которая явилась неделю спустя с тавром соседки, мистическим образом возникшим на месте исходного и я не знаю, о чем еще. Примерно через четыре минуты к нему присоединилась женщина, и в ее рассказе я смог разобраться еще меньше – там были незаконная подрезка нижних ветвей дерева, растущего по ее сторону границы, потоптанный и поломанный бродячим ослом виноград, что-то крайне загадочное о собаке друга сына этого мужчины, убившей ручного хорька чей-то еще дочери – честно говоря, я сдался на довольно ранней стадии.
Меня удивило, как долго Филипп сидел и выслушивал всю эту белиберду. Мне думалось, что он вот-вот взорвется и прикажет стражникам сбросить обоих в ближайший колодец – в то время, видишь ли, я еще не знал, как серьезно Филипп относится к обязанности верховного арбитра, и как крепок обычай, согласно которому любой подданный царя Македонии имеет право на аудиенцию в любое время дня и ночи, если того требуют обстоятельства. Тем не менее, через некоторое время хватило и ему. Он начал говорить тем тихим, спокойным голосом, о котором я уже рассказывал тебе, но к этому моменту тяжущиеся так углубились в повествования о грехах соседа, что не обратили на царя никакого внимания и и продолжили скандалить. Я приготовился к кровавому зрелищу, но услышал только, что Филипп стучит кубком по столу.
– Хорошо, – сказал он. – Достаточно. Так вот, не буду притворяться, что понял хоть что-то из ваших речей. Предполагаю, что если б и понял, никакой разницы бы не было. Суть дела в том, что вы поганые соседи, и я не хотел бы жить рядом с любым из вас. Готовы? Хорошо. Мой приговор таков: каждого из вас я штрафую на одну драхму; засим проваливайте и больше меня не беспокойте. Поняли?
Женщина покачала головой.
– Так не годится, – сказала она. – Мне нужна справедливость.
– Увы, – отрезал Филипп. – Справедливости у меня нет. Придется тебе вместо нее иметь дело с законом.
Но женщина никак не могла угомониться.
– Ладно, – сказала она. – Я подаю на апелляцию.
Филипп нахмурился.
– Не говори ерунды, – сказал он. – Я царь, источник всякого правосудия. К кому ты собралась апеллировать? – К Филиппу, конечно – к трезвому Филиппу.
У Филиппа было хорошее настроение: женщина подала на апелляцию и добилась решения в свою пользу. Но тишина, продлившаяся после ее слов три или четыре удара сердца, была самой долгой на моей памяти, и когда она закончилась, я сразу посмотрелся в полированное серебряное блюдо, чтобы убедиться, что борода моя не поседела за время ожидания.
Как только сутяжников наконец вытолкали из зала, все заговорили хором. Филипп налил себе крепкой выпивки, считая, видимо, что он ее заслужил. Я только расслабился, как от стола Филиппа донеслись голоса – мужской голос и женский.
Женский принадлежал жене Филиппа, царице Олимпиаде. Мужской – Аристотелю.
Что он тут делает, спрашивал я себя, испытывая при этом то же чувство, что и человек из старой сказки, который умер и попал на Острова Блаженных, только чтобы обнаружить там тещу.
Спор, который между ними произошел, служит прекрасной иллюстрацией к диаметрально противоположным техникам перепалки. Царица Олимпиада вопила на самом пределе своих невероятно мощных легких. Аристотель, в противоположность ей, молча дожидался, когда она остановится, чтобы набрать воздуха, и продолжал говорить своим унылым, монотонным голосом, с того места, где она его прервала, полностью игнорируя ее слова. Филипп закатил глаз (тревожнейший знак, уверяю тебя), затем грохнул по столу кулаком так мощно, что кубки и кувшины попадали в разные стороны.
– Вы двое, – прошептал он. – Завязывайте.
Кажется, я говорил уже, что все на свете боялись Филиппа? Все, кроме одного человека. Боялся ли в свою очередь Филипп Олимпиаду или нет – вопрос спорный. Лично я думаю, что нет; он терпел ее, поскольку убийство царицы создало бы больше проблем, чем решило, а кроме того, он периодически оказывался в нее влюблен – или лучше сказать, зачарован ею – возможно, как раз потому, что она его не боялась.
Встретились они еще совсем молодыми на религиозной попойке смутного характера, имевшей место в ее родной области, в самых глухих местах Иллирии. Соплеменники Олимпиады были змеепоклонниками, и она испытывала величайший энтузиазм ко всему, связанному со змеями. Одни боги ведают, как Филиппа угораздило оказаться на инициации; он был такой же набожный, как старый мул моего соседа Филемона. С первого взгляда это была похоть – через десять или около того лет она была весьма хороша собой, хотя за это время через ее уста прошло много вина и медовых лепешек, а самой ее стало больше во всех направлениях. Что она в нем увидела, я не знаю – это может быть что угодно, возможно, змеи велели ей выйти за него замуж. В любом случае, результатом этого союза был дипломатически выгодный выводок дочерей и сын по имени Александр. Аристотель, как мне удалось разобрать во время свары, находился здесь в роли учителя мальчика, и чему бы он там не учил его, Олимпиаде это не нравилось. Совершенно не нравилось.
Я не решусь воспроизвести манеру речи Олимпиады; греческий не был ее родным языком, и она не слишком волновалась по поводу своего акцента и грамматики. Поэтому я сделаю перевод ее речи и запишу здесь слова, которые она могла бы сказать, если бы умела; в конце концов, историки только этим и занимаются, а я притворяюсь историком.
– Зло, вот что он такое, – таковы были первые слова, которые я разобрал. – Он отравляет моего сына афинской ложью. Будь ты был настоящим отцом, ты бы швырнул его в реку, вместо того чтобы платить ему деньги за... —
Филипп встал, пересек разделявшее их расстояние тремя широкими шагами и отвесил ей такую пощечину, что она с размаху уселась на стол.
Все мгновенно замолчали; у меня, однако, сложилось впечатление, что это не первый случай в таком роде.
– ... мерзкие афинские богохульства, которым он учит нашего сына, – продолжила Олимпиада, будто ничего не произошло (хотя она утирала кровь с щеки и верхний губы, пока говорила). – В последний раз повторяю тебе – если ты ничего не сделаешь с этим, сделаю я, и не говори потом, что я тебя не предупреждала.
Филипп зарычал – мягко и с явной угрозой. Ему свойственно было так рычать – думаю, он сам даже не замечал этого.
– Только пальцем его тронь, и я тебя убью, – отвечал он таким тихим голосом, что его было почти не слышно даже в наступившей мертвой тишине. – А теперь убирайся с моих глаз. Иди проспись где-нибудь подальше отсюда.
Олимпиада встала, плюнула Филиппу под ноги и неловкой походкой покинула зал аудиенций. Филипп тяжело перевел дыхание, повернулся к Аристотелю и кивнул.
– Я извиняюсь за поведение жены, – сказал он. – Я хотел бы сказать, что этого больше не повторится, но для этого я слишком ценю правду. На следующие три дня я дам тебе охрану; потом она потеряет к тебе интерес и попытается достать меня каким-нибудь другим способом.
Аристотель бледно улыбнулся и поблагодарил его. Что-то мне подсказывало, что он нисколько не успокоен. Не могу его винить.
– С другой стороны, – продолжал Филипп, – мне интересно, чему такому ты учишь парня, что ее так взбесило? Она, кажется, упоминала богохульство?
– Совершенно верно, – нервно ответил Аристотель. – Но я не понимаю, что она нашла столь оскорбительным. Сегодня мы изучали животных, и я указал, что каждая живая тварь имеет собственную природу, которой она должно повиноваться – псы лают и машут хвостами, птицы поют и откладывают яйца в гнезда, змеи шипят и пресмыкаются в грязи...
– Змеи, – повторил Филипп. – Ты сказал ему, что змеи – животные.
– Думаю, что так, – ответил Аристотель. – На сегодняшнем уроке я приводил множество примеров; не обязательно те же самые, что сейчас, но в общем и целом такие же. Змеи довольно очевидный...
– Я понял, – прервал его Филипп. – Что еще ты говорил о змеях?
Аристотель, нахмурившись, некоторое время помолчал.
– Дай подумать, – сказал он. – Я отметил тот факт, что их челюсти могут растягиваться; что они время от времени сбрасывают кожу; что они могут высовывать и втягивать язык; что глаза обезглавленной змеи сами собой закрываются через сорок минут после смерти, а отделенная от тела голова ядовитой змеи может кусаться и выпускать яд в течение часа после...
– Я этого не знал, – перебил его Филипп. – Это правда?
– О, конечно, – уверенно ответил Аристотель. – Я сам наблюдал это явление, и оно описано в авторитетных источниках. – Он нахмурился. – Может быть, это ее и оскорбило, как ты полагаешь?
– Сомневаюсь, – ответил Филипп. – Скорее наоборот. Любой факт, что змеи не умирают так же, как другие животные, должен был обрадовать ее до умопомрачения. Что еще ты сказал?
Аристотель подергал себя за бороду – он в самом деле так делал, единственный из всех, кого я знаю.
– Честно говоря, не помню, – ответил он. – Ах да, я указал, что змея, в противоположность популярному заблуждению, глуха, и может воспринимать звуки только как вибрацию, передаваемую через...
– Как-как ты сказал?
Аристотель бросил на него испуганный взгляд.
– Змеи глухи, – повторил он. – У них нет ушей. Следственно, они не могут слышать так же, как...
– А, – кивнул Филипп. – Вот оно. Видишь ли, она поет своим змеям по часу каждое утро и каждый вечер. Так она им молится. Ты утверждаешь, что они не слышат ее молитвы
– Ну, строго говоря, они не...
– А если они не слышат ее молитвы, – продолжал Филипп, – они также не слышат имена людей, которых она проклинает. Значит, ее проклятия не работают. – Он улыбнулся. – В общем-то, я удивлен, что она ограничилась бранью.
– В самом деле, – сказал Аристотель довольно напряженным тоном.
Филипп кивнул.
– Я бы на ее месте точно не ограничился. Как бы то ни было, – продолжал он, пока Аристотеля трясся от страха, – никто не пострадал. Но на твоем месте я бы тщательно осматривал постель, прежде чем лечь спать, где-то с неделю, просто на всякий случай. Ты можешь попросить у домоправительницы персидскую кисею, чтобы сделать балдахин, а то кто-нибудь может проделать дырку в потолке и сбросить змею сверху, пока ты спишь. Было бы крайне неприятно, если бы змеи покарали тебя за клевету, как ты думаешь?
Лицо Аристотеля приобрело довольно занятный оттенок.
– Я не мог предположить, что... – начал он, но Филипп не дал ему закончить.
– Это совершенно очевидно, – сказал он. – Что меня и удивляет, ведь ты философ и в целом довольно умный человек, и притом тебе известно, как она относится к змеям. Что ж, это только показывает лишний раз, что все мы каждый день можем узнать что-то новое, как бы не были учены.








