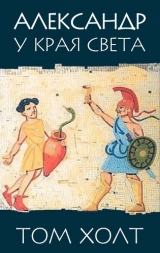
Текст книги "Александр у края света"
Автор книги: Том Холт
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 33 страниц)
И это, должен признаться с величайшим стыдом, меня доконало. Я никогда не видел до этого настоящего боя, хотя множество раз пытался представить, каков он на самом деле. Скажем так – он оказался совершенно не такой, как я мог ожидать, и довольно об этом.
Лук раненного иллирийца упал в шаге или около того от места, где я стоял. Я схватил его, потом вытащил из его колчана пучок стрел. Он смотрел на это и пытался что-то сказать, совершенно комичным образом помахивая в воздухе оперением торчащей из его лица стрелы. Что он пытался мне сообщить, одним богам известно.
Стрела просвистела в опасной близости от моего правого плеча. Я бросился бежать. По крайней мере двое окликнули меня, но я не желал слушать, что они хотят мне сказать. Я бежал.
Я преодолел около восьмидесяти шагов, не оглядываясь назад. Потом я услышал топот копыт, не очень далеко за спиной. Я понятия не имел, что делать.
Одинокий скифский всадник, парень лет семнадцати, скакал прямо на меня. Он убрал лук и теперь держал копье. Я несколько мгновений смотрел, как он приближается – может быть, шесть ударов сердца – и тут понял, что я не бегу. Я стоял на одном колене, сгибая лук, как это делал иллириец, и на тетиве у меня лежит стрела. Я никогда не делал особых успехов в стрельбе – ни в детстве, ни когда-либо позже; это была одна из тех вещей, которые легко давались другим, но только не мне. В тот момент, когда я расслабил пальцы и выпустил из них тетиву, мои глаза вполне могли быть зажмурены (мне говорили, что стреляя, я закрываю глаза, хотя сам я никогда этого не замечал). Если это так, то я успел их открыть, чтобы увидеть, как моя стрела поражает цель. По воле случая или провидения, она пронзила ляжку парня, а заодно и седло. Не стоит и говорить, лошадь взбесилась и начала метаться из стороны в сторону, пытаясь избавиться от того, что причиняло ей эту нежданную боль. В иных условиях парень полетел бы на землю, но он был приколот к седлу. Его глаза сделались огромными, а рот превратился в почти идеальный круг.
Я оставил его продолжать в том же духе, бросил лук и кинулся бежать. Я был единственным из всех, кто попытался убежать, и оказался единственным выжившим. Ты слышал, конечно, истории о людях, оставшихся в живых, когда все войско погибло; считается, что всю оставшуюся жизнь их мучают стыд и раскаяние, и я некоторым образом могу это понять. Но когда я бежал, то молился всем богам – пусть они перебьют остальных и забудут обо мне, пусть сосредоточатся на других, пусть они перебьют друг друга, чтобы некому было меня преследовать. Я не горжусь этим. Количество свершений, которыми я горжусь, можно пересчитать по пальцам одной жестоко искалеченной руки.
Я никогда не был великим атлетом, но в тот день я пробежал хорошую дистанцию и остановился только споткнувшись и обнаружив, что не могу подняться. Я вывихнул лодыжку и не мог пошевелиться. О, это было ужасное чувство – чувство беспомощности, ощущение собственной идиотской, смертельной неуклюжести. Мне удалось развернуться, чтобы посмотреть, что там позади, и я не увидел ни единого всадника. Я оказался в лощине, и склон заслонил от меня картину схватки. На какое-то мгновение я даже задумался, а не привиделось ли мне все это, потом заметил узкую красную ссадину на внутренней стороне левого предплечья, куда пришелся удар тетивы. Как объясняли мне опытные лучники, такая ссадина – верный знак совершенно неправильного хвата.
Я попытался ползти, но нога так болела, что я преодолел всего несколько шагов, прежде чем сдаться; до дома было слишком далеко, чтобы добираться ползком. Самое смешное, что я и был дома, я был в наших полях, на клочке земли, принадлежащей иллирийцу по имени Бардил (так же звали одного из их национальных героев, который погиб в возрасте девяноста лет, сражаясь с Филиппом – подумать только, размышлял я, лежа там, дожил до девяноста лет и не смог избежать этого дерьма; думал, небось, что наступит время покоя, да так и не дождался); и в любой момент этот Бардил мог показаться на пригорке – если не предполагать, что вся равнина кишит скифскими разбойничьими бандами – ища безветренное местечко, чтобы съесть свой обед. Он вылупится на меня и спросит на своем чудовищном греческом, какого хрена со мной случилось; и что я ему скажу?
Вышло, однако, так, что на меня наткнулся наш военный отряд. Как выяснилось, кто-то еще увидел, что происходит, и побежал в город, чтобы поднять тревогу.
Этот человек явился к моему дому, но меня, разумеется, не обнаружил; Феано послала его к Марсамлепту, которого тоже не оказалось на месте, так что он вернулся к себе, взял лошадь (разумный оказался парень; звали его Лийт, он был иллириец) и поскакал на участок Марсамлепта, который располагался совсем недалеко от города. Марсамлепт сразу понял, что надо делать; он давно, незаметно и с надеждой готовился к такому повороту событий, и потому сумел мобилизовать отряд быстрого реагирования – думаю, я правильно употребляю этот жаргон – где-то в течение часа. Они поскакали к месту схватки, но нашли только мертвые тела. Меня они обнаружили по чистой случайности, двигаясь по следу, который, как они считали, оставили отступавшие скифы (на самом деле его оставили козы). Двое из них отвезли меня домой на запасной лошади, а Марсамлепт продолжил поиски. Вернулся поздно вечером с невероятно несчастным видом; от скифов не был ни слуху, ни духу, обнаружились только тела горожан, на которых скифы напали перед нами, и влюбленной парочки, уединившейся в зарослях на границе нашей территории – скифы пронзили их копьями и бросили умирать. Он нашел два скифских трупа под нашим деревом, оба убиты стрелами – никаких следов юноши со стрелой в бедре, а также мертвой или раненой лошади.
Никому не пришло в голову, что я был там, с той группой; все решили, что я шел сам по себе, подвергся нападению скифов и как-то ухитрился от них улизнуть. Большинство иллирийцев рассматривали мое чудесное спасение как доказательство могущества священной змеи; я слышал потом историю о том, как я лежал с вывихнутой ногой, окруженный скифскими копейщиками, алчущими моей крови, и как чудовищная змея выползла из-под земли и свернулась вокруг меня, защищая меня от копий своей неуязвимой чешуей и отгоняя нападавших ядовитым дыханием (или, в некоторых версиях этой истории, огнем) вырывавшимся у нее из ноздрей. Так или иначе, мое положение среди иллирийцев существенно упрочилось, а Марсамлепт, человек суеверный, приобрел манеру смотреть в сторону, разговаривая с мной, и выказывать великое уважение, невзирая на неоднократные просьбы завязывать с этим. Не стоит и говорить, что я никогда не пытался опровергнуть эту историю, даже в части змеи, и это первый раз, друг мой Фризевт, когда я сообщаю всю правду о том дне как она есть. В сущности, какой смысл тебе лгать? Откуда тебе знать, может я вообще все выдумал, чтобы сделать свой рассказ позанимательнее.
Так вот. Ты, наверное, думаешь, что я имел в виду это неспровоцированное нападение со стороны скифов, называя седьмое число месяца метагитнион десятого года от основания города днем, изменившим мир. Никоим образом. Действительно важное и памятное событие этого дня произошло в Греции, в местечке под названием Херонея, между Фивами и Дельфами. Здесь царь Филипп при деятельной поддержке царевича Александра и других юных македонских аристократов вступил в битву с противостоящими ему греками и наголову их разгромил, сделавшись, таким образом, полноправным владыкой всей Греции. В этот день тысяча афинян погибла, а еще две тысячи были взяты в плен; среди погибших оказались мои братья Эвдор и Эвтифрон. Мой брат Эвдем лишился глаза, но выжил и сумел бежать; Эвмен и Эвген оба попали в плен, но позже отпущены на свободу без оружия вместе с остальными афинянами.
Согласно достойным доверия рассказам о битве, именно Александр возглавил атаку, сокрушившую Священный отряд из Фив, лучших воинов во всей Греции.
Он не только командовал своим отрядом умело и находчиво, он прорвался в самую гущу битвы и этой яростной атакой изменил ее ход; он был подобен Ахиллу, говорят, как будто явился из гомеровского эпоса или старых легенд, совершенно равнодушный к опасности; он вернулся к своему шатру, почти неузнаваемый под слоем крови, покрывавшей его лицо и волосы – как своей, так и убитых им людей. Говорят, Филипп не знал, что и думать; его сердце разрывалось от гордости за невероятную храбрость сына, но в то же время из-за того, что в день этой великой победы Александр затмил его и присвоил себе всю славу, он пришел в бешеную ярость. Перед моим умственным взором эта сцена предстает совершенно отчетливо: Филипп смотрит на своего высокого, красивого сына, целиком покрытого засохшей кровью и не вполне похожего на человека; смотрит на него зрячим своим глазом и ничего не говорит. После битвы, говорят, Филипп выпил больше, чем пил обычно, и пустился в пляс по полю брани, пиная мертвые тела и распевая (громко и фальшиво; Филипп не умел петь):
– Демосфен, сын Демосфена, из округа Пеанея, предлагает эти...
Эти слова глашатаи в Собрании официальны выкрикивали всякий раз, когда Демосфен выходил с очередной бессмертной речью, побуждая афинский народ оказать Филиппу сопротивление. Демосфен, говорят, бежал оттуда как заяц, едва завязался бой. Он приобрел для этого случая новый щит; потальным золотом на нем было выведено слово «УДАЧА». Он бросил его, удирая с поля, и Филипп несколько недель использовал его в качестве ночного горшка, пока с щита не слезла вся кожа.
Я уже приводил здесь этот свой вопрос, о Гомере и Ахилле: кем лучше быть, чемпионом Олимпийских Игр или толстым коротышкой со свитком, выкликающим имена победителей. Так вот, Олимпийские Игра, как и битва при Херонее – это особое время, когда все греческие государства отправляют своих лучших из лучших бороться между собой за честь, славу и прочие греческие гражданские ценности; в тот день, когда Александр бился на одном поле и вышел с него чемпионом, я участвовал в другой битве, из которой вышел единственным выжившим свидетелем, способным назвать имена всех остальных. В свое время я также призадумался над тем фактом, что из всех сыновей Эвтихида я единственный отсутствовал при Херонее и единственный вернулся вечером домой, хотя и со скромным утешительным призом в виде вывихнутой лодыжки. Это беспокоило меня, должен признаться, и не только потому, что седьмой день метагитниона выдался скверным для всех потомков Эвтихида; оказаться единственным оставшимся (или единственным оставленным) дважды за один день – это непросто выкинуть из головы, даже не будучи философом.
Не знаю, что и думать. Наилучшее объяснение всей этой истории, какое я слышал, касалось огромной змеи и не вызывает особого доверия.
Что мне больше всего не нравится в катастрофах, так это количество лишней работы. Меня притащили домой, усадили в кресло, положив вывихнутую ногу на скамеечку, а сами принялись яростно спорить между собой. Основатель по имени Агесилай (едва новости достигли города, его Основатели внезапно материализовались, будто чудовища из кошмара, и всей сворой ринулись к моему дому; когда меня внесли, они уже торчали там с нетерпеливым видом, подкрепляясь вином и фигами) потребовал немедленно покинуть колонию и вернуться в Македонию, прежде чем скифы явятся сюда и перережут нас всех; послушать его, так вся равнина был покрыта скифами, стоящими плечом к плечу так тесно, что не оставалось пространства вдохнуть, не то что натянуть лук. Примерно две трети Основателей затараторили одновременно; мы остаемся здесь, мы не позволим выгнать нас из собственных домов шайке коварных дикарей, немедленное возмездие всеми наличными силами, где этот Марсамлепт, когда он больше всего нужен, сделайте же что-нибудь. Я бы с удовольствием позволил им препираться до потери голоса, хотя это моим вином они смачивали свои глотки, но мой друг Тирсений, который тоже возник из ниоткуда или уже был тут до их появления, нашел нужным вмешаться и указал, что в этот самый момент Марсамлепт преследует разбойников и без сомнения вот-вот вернется с их головами, нанизанными на шнур. От этих слов оставшаяся треть Основателей вскипела, как оставленный без присмотра горшок – по какому праву, да как он осмелился усугублять инцидент, рискуя навлечь на наши головы гнев всего скифского народа, он понесет личную ответственность, хотя в соответствии с иерархией окончательная ответственность ложится на ойкиста...
– Эй, – слабо возразил я. – Оказывается, это я во всем виноват. Я что-нибудь пропустил?
Остролицый Основатель по имени Василиск с энтузиазмом закивал.
– Являясь по факту главнокомандующим... – начал он, но дальше продвинуться не успел, поскольку в этот момент Феано, которая таилась на заднем плане с большим тазом кипятка и повязками, прыгнула вперед, перевернула таз у него над головой и вышибла его за дверь. Он был слишком потрясен, чтобы возражать.
– Все остальные тоже убирайтесь, – сказала она, страшно оскалившись. – Вон отсюда. И ты тоже, Тирсений. Уходи.
Если бы на месте Основателей оказалась банда скифских разбойников, они, может быть, попытались оспорить этот приказ. Основатели же, видя Феано в режиме Цербера, сделали единственный разумный выбор и без слов удалились.
– Спасибо, – сказал я. – Наверное.
Она нахмурилась.
– Во что ты вздумал поиграть? – спросила она. – Сиди тихо. – Она скрылась в задней комнате и вернулась с полным тазом. – Сперва перевяжем твою щиколотку.
– У меня есть подозрение, – сказал я, когда она обматывала мою ногу полотном, – что вышвыривать городской совет на улицу – это грубое нарушение протокола.
– Вот и хорошо. Если кто за это и ответит, то это будешь ты, кстати говоря. Иерархия управления и все такое.
– Тогда все в порядке, – сказал я.
– Рада, что ты согласен. Не слишком туго?
– Что, повязка? Нет, вовсе нет.
– Значит, недостаточно туго. Посиди еще, я только…
– Эй!
Она намотала повязку еще туже и завязала концы.
– Если у тебя есть хоть немного мозгов, ты никуда не пойдешь, – сказала она. – Правда, я сроду не встречала мужчины с таким количеством мозгов. Попробуй хотя бы наступать на нее полегче, иначе она целую вечность будет болеть.
Через некоторое время Основатели вернулись, однако на сей раз вежливо испросили разрешения войти. Теперь с ними был Марсамлепт в сопровождении пары иллирийцев, а также Тирсений (почетный переводчик), один или два земледельца и вдова Птолемократа. Ясное дело, сидений не хватило, так что Тирсений послал моего сына и несколько других мальчишек занять у соседей стулья, табуретки и козлы; покуда же вошедшим последними оставалось стоять или усаживаться на пол.
Марсамлепт, имеющий очень усталый вид, представил свой отчет на иллирийском, и один из его людей переводил, пока тот говорил. Приподнятые брови, досадливое шипение и другие театральные жесты сопровождали его рассказ о том, как им не удалось найти никаких следов налетчиков за вычетом двух скифских трупов, но я вежливо из игнорировал.
– Ладно, – сказал я, подытоживая услышанное. – Похоже, что это вполне мог быть набег скотокрадов или спонтанная выходка каких-то юных храбрецов. Очевидно, она не была санкционирована официально. Есть предложения, что делать дальше? Разумные предложения, – добавил я.
– Конечно, – ответил один из Основателей, имени которого я уже не помню. – Мы должны отплатить той же монетой. Если мы сожжем несколько их хижин или угоним лошадей, они хорошенько подумают в следующий раз, прежде чем решаться побеспокоить нас.
Ему возразил один из земледельцев, по имени Херсонес.
– Может, они как раз так и говорили, когда планировали нападение, – сказал он. – И если мы нападем в ответ, какова вероятность, что они не почувствуют себя обязанными ответить тем же? Не успеем оглянуться, как разгорится война.
– К тому же их больше, чем нас, – заметил еще кто-то.
– Тем больше причин дать им хорошего пинка, – отозвался один из иллирийцев. – Посмотрим на это с другой стороны. Что они подумают, если мы ничего не предпримем? Я бы сказал, что у нас нет выбора – ударим со всей силой, а уж потом попытаемся поговорить.
– Согласен, – сказал Основатель. – Эти люди понимают только одно.
Прежде чем дискуссия получила развитие, появились дополнительные стулья, и нам пришлось прерваться, чтобы переждать разгоревшуюся из-за них схватку.
В конце концов свободными остались только подозрительно шаткие козлы, и трое, оставшиеся без седалищ, предпочли стоять, чем довериться этому коварному предмету обихода.
– Поступая так, мы теряем контроль над ситуацией, – сказал я. – Вероятно, так и началась Троянская война – да и любая другая война. Я согласен, что мы не можем просто проигнорировать происшедшее, это означает напрашиваться на неприятности. Поэтому мы ответим на неофициальную атаку официальной. Нет, разумнее будет сперва поговорить с ними, а уж затем, если это ни к чему не приведет, переходить к боевым действиям.
– Чудесно, – язвительно воскликнул Основатель Агесилай. – Предупредим их, что собираемся напасть, чтобы они смогли подготовиться. Вот этакую военную теорию ты преподавал своим ученикам? Если так, боги спаси Македонию.
Я покачал головой.
– Не волнуйся, они уже ждут нашей атаки, – ответил я. – Думаю, элемент неожиданности – это недоступная нам роскошь. Послушайте, мы сейчас с вами занимаемся тем, что создаем прецедент решения всех грядущих проблем со скифами – а проблемы будут, помяните мое слово – поэтому нам стоит напрячь мозги и попробовать придумать что-то слегка более хитроумное, чем немедленная война. В конце концов, – добавил я, не удержавшись, – предполагается, что у нас тут Идеальный Город. Если мы в самом деле его граждане, давайте действовать соответственно.
Вдове Птолемократа моя речь вовсе не пришлась по душе.
– Извините меня, – взорвалась она, – но это моего мужа только что убили, и вы должны что-то по этому поводу предпринять. Я ушам своим не верю – мило болтать с людьми, зарезавшими моего мужа…
Эти слова показались присутствующим гораздо более подобающими моменту. Я, однако, словами такого сорта не располагал.
– О, прекрасно, – сказал я. – Ты только что потеряла мужа; давайте посмотрим, а не удастся ли нам овдовить еще несколько женщин, чтобы они составили тебе компанию. Да, верно, – быстро добавил я. – Не стоило мне этого говорить, прости меня. Но иногда правда уродлива. Все мы потрясены... проклятье, да я сам был там, и эти твои слова легко могли прозвучать из уст Феано. Но сейчас, если мы не хотим потерять все созданное нами за десять лет, нам нужно думать головой. В противном случае с тем же успехом можно воспользоваться предложением Агесилая, высказанным им после первых же новостей – упаковаться и двинуть назад в Македонию... я вижу, его настроение уже переменилось, и за это я ему благодарен. Или здесь есть кто-нибудь еще, кто думает, что нам следует так поступить?
Никто ничего не сказал.
– Хорошо, – сказал я. – Вот что я предлагаю – и это только предложение, не более; у нас свободный город и мы должны держаться своих принципов. Мы отправим к скифам посольство и потребуем выдать нам виновных в этом преступлении. Мы совершенно ясно покажем им, что если этого не произойдет, то они сильно пожалеют. После этого подождем и посмотрим, что произойдет, прежде чем принимать решения, о которых можно впоследствии пожалеть. Я полагаю, что они сейчас пребывают в полнейшем ужасе, ожидая, что мы явимся в полном боевом облачении и с горящими факелами. Давайте же покажем им, что мы не дикари, и может быть, выясним, что и они тоже. Ну? Какие у кого мнения?
Никаких мнений ни у кого не оказалось, так что, к моему величайшему облегчению, все они вышли вон, оставив меня наедине с отложенным шоком, который мне еще час назад следовало из себя выпустить. Не забывай, что это был первый раз в моей жизни, когда я участвовал в бою и стал свидетелем жестоких, преднамеренных убийств. Для иллирийцев это было нормально, да и для большинства македонцев тоже. Они были солдатами и были прекрасно осведомлены об этой стороне жизни, в то время как я знал о ней не больше, чем об Эфиопии…
Я читал о ней, в целом не сомневаясь в ее существовании и имея смутное и, вероятно, совершенно неверное представление о том, что она из себя представляет. Думаю, только к лучшему, что мне пришлось заниматься этим знакомым, почти уютным делом – умиротворением идиотских свар между глупыми моими собратьями.
Если бы я оказался среди них, имея возможность перевалить ответственность на кого-то другого, я бы уже лишился от страха всякого разумения. Когда мне удалось наконец собраться и одолеть жгучее желание заползти под кушетку и свернуться в тугой маленький шар, я смог заставить себя обдумать план необходимых действий.
Чисто теоретически, мы, Основатели, были не более чем представителями остальных колонистов, и всякое важное решение следовало принимать через Собрание, по достижении консенсуса. В пекло все это, решил я; важнейшим фактором было время, а если что и требовалось колонистам, так это знать, что все под контролем и ничего подобного более не повторится. Разумеется, если не создать у них этого ощущения, каждый из них пожелает высказать (а скорее – проорать) свое мнение, и если план с посольством не сработает, я со всей душой покорюсь их воле, хотя бы для того, чтобы снять с себя ответственность за руководство полноценной войной, которой возникшая ситуация рискует разрешиться.
Я некоторое время размышлял обо всем об этом, а затем позвал Феано, которая так и сидела в задней комнате.
– Все слышала? – спросил я.
Она кивнула.
– Когда оказывается, что самым разумным человеком среди главных граждан города являешься ты – это кое о чем говорит, – мягко сказала она. – С другой стороны, мысль о том, что пора паковаться и уезжать – может быть, самая лучшая…
– Окажи мне услугу, – прервал ее я. – Сходи позови Агенора и Марсамлепта, да скажи Марсамлепту прихватить с собой двенадцать надежных молодцов – во всей броне, но под плащами, и чтобы из оружия взяли только мечи. Попроси Эвпола заседлать лошадь. Сделаешь?
Она кивнула.
– Только этих двоих? – спросила она.
– Кого ты еще можешь предложить? – сказал я.
Она немного подумала.
– Полибий, – сказала она. – Я знаю, он Основатель, но он слишком робок, чтобы мешать, а тебе нужно взять с собой хотя бы одного из них, или остальные объявят тебе войну.
– Хорошо, – сказал я. – Это разумно. Кого-нибудь еще?
– Тирсения.
Я скривился.
– Да ладно тебе, – сказал я. – У меня и без него проблем хватает.
Она покачала головой.
– Во-первых, – сказала она, – он понадобится тебе, чтобы переводить с иллирийского…
– Херня, – прервал ее я. – Я знаю иллирийский получше его. Если уж зашла об этом речь, то и ты тоже. И ручной хорек дочери Анфима.
– Кроме того, – продолжала она, грубо проигнорировав мои слова, – скифы знают его и доверяют ему, и было бы полезно иметь при себе кого-то, к кому они…
Я поднял руку.
– Погоди, – сказал я. – Что ты имеешь в виду – знают и доверяют? Как, чтоб мне провалиться, так получилось? За все эти годы мы с ними не имели никаких дел.
Феано слегка нахмурилась, словно поняв, что проболталась.
– А Тирсений имел, – ответила она. – Он торговец, не забывай, ему надо с кем-то торговать. Он заключал с ними сделки бог знает с каких времен.
– Да ну, – сказал я. – И что же это были за сделки?
– Зерно в обмен на масло, сушеную рыбу, посуду, еще кой-какие мелочи…
– И какие же это были «мелочи»?
Она пожала плечами самую малость слишком энергично.
– Ох, ну ты сам знаешь. Украшения. Всякая мебель. Одежда. Металлические изделия. Обычные товары.
Я уставился на нее.
– Металлические изделия, – сказал я.
– Ну да, металлические изделия, – сказала она. – Большие бронзовые кубки. Стойки для ламп. Изукрашенные нагрудники. Ты знаешь, что им…
– Ты имеешь в виду – доспехи, – сказал я.
– Немного доспехов. Такие узорчатые, декоративные, скорее символы статуса. И всего несколько штук.
Я задышал через нос.
– Прекрасно, – сказал я. – Тирсений продавал скифам доспехи и оружие в течение... сколько, ты сказала, лет он это делал?
– Я не знаю. И про оружие сказал ты, а не я.
– Значит, значительное время. Скорее годы, чем месяцы.
– Это очень популярные товары. Да они и сами умеют делать оружие не хуже. Даже и получше, на самом деле.
– А, так я все-таки прав насчет оружия, стало быть.
– Ты раздуваешь из мухи слона, – яростно сказала она. – Он не продавал им ничего такого, что они не смогли бы сделать и сами; а если бы они не купили у него, то купили бы в Ольвии или Одессосе. И вообще, это не более чем дорогие игрушки для нескольких главарей.
– Доспехи и оружие, – повторил я. – И ты знала об этом все это время и ни разу не нашла нужным упомянуть…
– И что? Я тебе о всяких разных вещах ничего не говорю. Знаешь, почему? Потому что они не важны. Эвксен, я сегодня видела дрозда. Эвксен, Калоника позавчера купила ведро мойвы. Эвксен, на моей запасной сандалии порвался ремешок…
– Хорошо, – я снова поднял руку. – Мы поговорим об этом попозже. Ты хорошо все обдумала и по-прежнему считаешь, что мне нужно взять с собой Тирсения?
– Да, – сказала она.
– Ладно, приведи и его тоже, хотя это против всякого смысла. Еще кого-нибудь?
Она кивнула.
– Меня, – сказала она.
– Тебя? – фыркнул я. – Не смеши меня. Если они вообразят, что мы позволяем женщинам участвовать в принятии решений...
– На самом деле, – холодно сказала она, – во многих скифских племенах правят старые женщины, это широко распространенный здесь обычай. Но я не это имела в виду. Я подумала, что кому-то надо будет везти кувшин.
– Кувшин? – нахмурился я. – Какой еще кувшин?
– Тот самый, со змеей, конечно же. Разве ты не знаешь, почему скифы не трогали нас столько лет? Ну?
Я вытаращился на нее.
– Не хочешь же ты сказать…
– Именно. С тех пор, как они узнали, что колонией правит великий волшебник с ручной змеей…
Я застонал.
– Потрясающе, – сказал я. – Ладно, ты поедешь с нами, как высшая жрица и кто ты там еще. А теперь иди и приведи сюда остальных, чем быстрее, тем лучше. Если мы хотим разрешить все проблемы, времени тратить нельзя.
Когда она ушла, забрав с собой мальчика, я попытался сосредоточиться на предстоящем нам деле, но не очень в этом преуспел. Вместо того, чтобы обдумывать свою речь или ответы на возможные оправдания с их стороны, я обнаружил, что все время мысленно возвращаюсь к этому странному образу – моя жена Феано и мой друг Тирсений…
Никто из них не имел ни малейшего отношения к сложившейся ситуации. Я это знал, да. Но стоило только задуматься об этом, и остановиться было практически невозможно – и тем труднее, чем старательнее я пытался. К тому времени, когда вся наша компания собралась и была готова отправляться, я погрузился в молчаливые размышления и являл собой, должно быть, весьма впечатляющее зрелище. По крайней мере это отвлекло меня от мыслей об отчаянном кризисе, с которым мы столкнулись…
Феано. И Тирсений. Тирсений, мой так называемый друг... Наконец я взял себя в руки.
– Ладно, – сказал я. – Слушайте меня. Когда мы будем на месте, никто – и я именно это имею в виду: никто – не произносит ни слова, пока и если я не задам ему вопрос, ясно? Можете болтать, что вам вздумается, до того и после того. Но пока мы там, заткнитесь и не разевайте рот.
Он кивнул.
– Абсолютно правильное решение, – сказал он (а я подумал, ах ты ублюдок. Хорошим же другом ты оказался). – Можешь положиться на нас, Эвксен. Мы тебя не подведем.
Я вздохнул.
– Хорошо, – сказал я. – Вперед и покончим с этим раз и навсегда.
Глава четырнадцатая
Забраться на коня было сущим мучением, и еще большим – слезть с него обратно. Лодыжка моя совершенно занемела и я не мог перенести вес на эту ногу; я свисал между двух иллирийских воинов, как пьяница, которого друзья тащат домой. Я понятия не имел, как буду залезать на лошадь, когда придет время возвращаться домой. Мне представилось, как меня перекинут через седло, будто мешок с луком; этот образ вступил в яростную схватку с картинкой Феано/Тирсения, так что когда мы добрались до места, я пришел в такое скверное настроение, что не потерпел бы ни от кого и малейшего дерьма.
Когда мы втащились в деревню, местные уставились на нас, как на гарпий или демонических воинов, выросших из драконьих зубов, посеянных Кадмом, а затем разбежались по домам и заперли двери. Если бы мой старый знакомый Анабруза, бывший городской лучник, еще бы чуть-чуть промедлил, мы бы, наверное, плюнули и отправились домой.
Но он пришел, а с ним около десяти белобородых старцев почтенного вида и толпа перепуганных мужчин с луками. Анабруза тоже выглядел не слишком радостно.
– Явился наконец, – рявкнул я (висячее положение, в котором я пребывал, нисколько не способствовало сдержанности). – Ладно, ты знаешь, почему мы здесь.
Анабруза кивнул.
– Догадываюсь, – сказал он. – Хочешь услышать нашу версию?
– Да нет, – ответил я. – Твои люди убили несколько моих людей. Они пытались убить меня. Может быть, ваш народ и испытывает в некотором смысле законное недовольство против нашего города, но это не оправдание убийствам. Вот мое предложение. Ты передаешь убийц нам – без всяких споров и торга. Взамен, во-первых, я сделаю все возможное, чтобы мои друзья не явились сюда с факелами и не спалили твою деревню – это потребует ого-го каких усилий, но я постараюсь, обещаю. Во-вторых, если ты желаешь подать формальную жалобу о любых причиненных нами обидах, я выслушаю тебя и попробую заставить слушать и остальных. В противном случае... в противном случае я ничем не смогу вам помочь.
Анабруза помолчал.
– Я не уполномочен заключать такие сделки, – сказал он. – Я не могу никому приказывать, это не наш способ принимать решения. Главы родов должны сами решить...
Я покачал головой.
– Извини, – сказал я. – Мне это не интересно. Когда-нибудь в другой раз, когда я возьмусь за книгу о скифских законах и обычаях, я приду к тебе и ты мне все о них расскажешь. Прямо сейчас я буду считать тебя личном ответственным за нашу сделку, потому что ты умеешь говорить по-гречески, а я знаю твое имя. Если лично ты не хочешь войны, тебе придется лично уладить эту ситуацию.
Он бросил на меня взгляд, исполненный чистейшей ненависти и страха, в пропорции примерно один к одному.
– Я не могу, – сказал он.
– Жаль, – ответил я. – Потому что мой друг, присутствующий здесь – его зовут Тирсений, я думаю, ты его знаешь – этот мой друг владеет тем нелепым бурчанием, которое у вас вместо языка, и через несколько мгновений он объявит во всеуслышание, что Анабруза отверг наши требования и нам не остается ничего иного, кроме как объявить вам войну. Думаю, после этого твоя жизнь станет намного интереснее.








