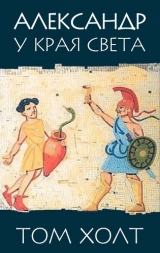
Текст книги "Александр у края света"
Автор книги: Том Холт
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 23 (всего у книги 33 страниц)
Глава семнадцатая
Раз уж мы заговорили о примечательных персонах, Фризевт: знавал я как-то человека, обладавшего удивительной, поразительной, невероятной способностью терять шляпы. Он был лыс, как яйцо, что ничуть не облегчало его участь, поскольку без шляпы между его жидковатым мозгом и яростным аттическим солнцем оставался только тонкий слой кости. Шляпы, однако, покидали его одна за другой – с внезапным порывом ветра, с сучковатой ветвью или бесшумно соскальзывали по носу, когда наклонялся над колодцем. Если ни один из этих способов не приносил успеха, они ловко перебегали к первому же встречному; сидишь с ним, бывало, под деревом, болтая о том, о сем и вдруг замечаешь, что уже довольно поздно, поднимаешься на ноги, инстинктивно прихватив шляпу, и спешишь вернуться к своим козам, покуда они не разбрелись по соседскому пастбищу. Позже, собираясь домой, замечаешь нечто странное – на голове у тебя шляпа, хотя ты ясно помнишь, что утром выходил с непокрытой головой. Я вовсе не хочу сказать, что шляпы ненавидели этого несчастного, или боялись его или что-то еще в этом роде. В те короткие периоды времени, пока шляпа оставалась с ним, он обращался с ней очень нежно. Но через день-два они по какой-то причине приходили к выводу, что пришло время уходить и он тотчас же оставался один.
В его случае это были шляпы, в моем – женщины. Аналогия, возможно, не совсем верная; я не ронял их в колодец и не забывал беспечно в чужих домах. Однако раньше или позже наступал момент, когда я оглядывался, собираясь что-то сказать им, и обнаруживал, что говорить мне не с кем. Без сомнения, у них были свои резоны, и если бы мне удалось разобраться в этих резонах, я бы существенно углубил свое понимание женщин и тогда, может быть, они перестали меня покидать.
К чему я веду: Феано меня бросила. Как историк, я обязан не упускать ни единого факта; она крепко сдружилась с сиракузским торговцем сыром где-то через месяц после неудачного нападения на скифскую деревню, и когда он уплыл, отправилась вместе с ним. То, что они уехали вместе – логическое умозаключение, хотя сам я того не видел и не могу утверждать этого наверняка. Это торговец был высокий и очень тучный мужчина, старше меня, лысый (в точности как тот человек со шляпами) и с необычайно курчавой бородой. У меня, впрочем, сложилось впечатление, что самой привлекательной его чертой было то, что он не являлся мной.
Не так чтобы это событие можно было уподобить побегу Елены Троянской, и если бы я сказал, что почувствовал себя ужасно оскорбленным, то солгал бы. Но после смерти Эвпола способность чувствовать боль ко мне еще не вернулась, да к тому же наша женитьба была ошибкой с самого начала. Единственное, что озадачивает меня по сию пору, так это последовательность событий: вот только что она рыдает по единственному ребенку, пока не проваливается в сон – а вот ее уже накрыла всепоглощающая страсть к толстому, плешивому сыроторговцу, кожа которого цветом и фактурой напоминала известь, которой был покрыт его товар. Тирсений склонялся к тому, что торговец выступил единственно как владелец транспортного средства: поскольку она не могла взять и попросить у меня денег на отъезд из Ольвии, ей пришлось расплачиваться тем, чем она располагала. Может быть; не знаю, да и не особенно интересно. За прожитые годы я пришел к заключению, что удовлетворение интереса к предметам, понять которые я заведомо не в состоянии, требует слишком больших усилий.
Фракийцы проявили неожиданную смекалку и так и не вернулись в город; будины, нанятые для нападения, напротив, остались – сперва как воины, затем как поселенцы. Земли они не просили, конечно, и правильно делали, поскольку Основатели нипочем бы не согласились ее выделить. Более того, они вообще никак не показывали, что собираются остаться тут навсегда. Они просто остались, зарабатывая на жизнь наемным трудом – товар, пользующийся большим спросом. Дело в том, что двенадцать лет высоконравственного и благородного свободного труда слегка нас всех изнурили. Как выяснилось, зрелище кого-то другого, занятого физическим трудом, весьма приятно, особенно если наслаждаться им из-под тенистого дерева с чащей вина в руке.
Думаю, так прошло шесть месяцев; шесть или семь со времени неудачного штурма деревни. Припоминаю, что до нас дошли слухи о великой битве между войском Александра и ратью персидского царя, случившейся у реки Граник, во время которой македонская пехота со своими абсурдно длинными копьями и тяжелая кавалерия Александра уничтожили персов; Александр, сражаясь в первых рядах, сломал два копья, потерял коня, но каким-то образом против всякой вероятности остался жив. В тот день, конечно, он был истинным Ахиллом, если не принимать в расчет счастливый конец; не знаю, понадобилось ли ему занимать трофеи у своих воинов, чтобы груда захваченных им в бою доспехов и оружия достигла почтенной высоты.
Может быть, на нас повлияли эти слухи, однако общее мнение было таково, что начатое следует завершить до первой годовщины первого сбора винограда, чтобы наши мертвые обрели покой. Иллирийцы в особенности настаивали на решительных действиях – а так же, как ни странно, будины, хотя их настроение, возможно, объяснялось тем фактом, что они слишком засиделись на месте. Но самое странное, наши огнедышащие Отцы-Основатели и близко не горели тем энтузиазмом, которого от них следовало ожидать. Более того, Продром пытался отговорить меня от организации нападения; он сказал, что лучше было бы подождать сбора урожая, поскольку в противном случае мы, работая на полях, окажемся уязвимы для ответных атак. Я объяснил ему, что он не понял самой сути: если мы в этот раз все сделаем правильно, некому будет атаковать, поэтому его возражения лишены смысла. Он не выказал большого восторга от этой идеи и обвинил меня в кровожадности и моральной слепоте, вызванными личной трагедией. Я предложил ему пойти и напихать в рот чего-нибудь влажного и коричневого, и на этой ноте мы расстались.
Ясное дело, трюк с угоном скота не сработал бы второй раз, так что надо было придумать что-то другое. Марсамлепт заявил, что наилучшим для нас вариантом является тот, при котором противник пытается атаковать нашу тяжелую пехоту; если нам удастся второй раз спровоцировать их на ту же ошибку, то нет никакого смысла в переусложненных стратагемах – мы разобьем врага в открытом поле.
Первым моим побуждением было посоветовать Марсамлепту принять холодную ванну и снова все обдумать, но затем я вспомнил об Александре и битве при Гранике. Если отбросить всевозможные гомерические аллюзии, то останется его весьма спорное решение форсировать реку. Персидская пехота вообще не участвовала в битве – только кавалерия, выстроившись на том берегу, попыталась остановить армию Александра при переходе через брод. Иными словами, Александр заставил персов использовать кавалерию в роли пехоты – а когда дело доходит до пешего боя, верховые оказываются в весьма невыгодном положении.
И вот я подумал: наибольшей угрозой для нас является скорость и маневренность скифов и их умение стрелять с седла. Заставьте их стоять смирно – и вы лишите их всех преимуществ, склонив чашу весов на сторону вымуштрованных, дисциплинированных гоплитов. Все, что для этого нужно, соображал я – это подходящий брод; очень кстати, такой брод был у меня на примете.
День стоял жаркий. Ты знаешь, каково это, когда собираешься встать гораздо раньше, чем привык, а открыв глаза, сразу принимаешься моргать от яркого солнца. Я проспал, как дурак, и проснулся здорово после рассвета. Конечно, никто и не подумал зайти и разбудить меня. Когда я навьючил на себя броню и выбрался под солнечный свет, голова у меня просто раскалывалась, а оскорбленный вчерашним постом желудок никак не облегчал моих мучений. Никакие обстоятельства, менее важные, чем битва или сбор урожая, не выгнали бы меня сегодня из постели, однако должность ойкиста и главнокомандующего не оставляла никаких вариантов независимо от того, в каком настроении пребывал мой живот.
Было довольно очевидно, что я не единственный не пылаю боевым энтузиазмом в этот день. Мы двигались медленно, ворча и перхая в облаке пыли, поднятой нашими сандалиями. Как военачальник, я ничего не имел против этого облака. Напротив, я рассчитывал, что оно привлечет внимания врага и заставит его выдвинуться нам навстречу. Время, разумеется, играло важную роль. Если мы хотели встретить скифов на выбранном месте, мы должны были оказаться у реки первыми. Если они переберутся через нее до нашего прихода, развернется сражение совсем иного рода – в каком мне вовсе не хотелось бы участвовать.
Каким-то образом мы все-таки достигли брода, и при этом даже сохранили известный порядок. Вражеская кавалерия не заставила себя долго ждать, и, как я и рассчитывал, рассыпалась по дальнему берегу, желая узнать, что у нас на уме.
Именно в такой ситуации Александр при Гранике бросил вперед своих всадников, чтобы связать противника боем, покуда его тяжелая пехота перебиралась через реку. Как это вообще свойственно Александру, маневр был дерзким, новаторским и исключительно успешным, и никто никогда не отрицал, что он сработал на все сто – из-за чего мы и не подумали, что в нашем случае он может вовсе и не сработать. Ситуация, в конце концов, была более или менее идентичной: река, кавалерия на одной стороне, тяжелая пехота на другой. Вышло же так, как будто мы взяли ингриденты медового печенья, смешали их по рецепту и на выходе получили ватрушку.
Я помню, что в сапог мне попал камешек, избавиться от которого по дороге от города до брода у меня не было ни единственного шанса. Помню, что голова болела так, что сам процесс мышления требовал невероятных усилий, не говоря уж о пересмотре плана прямо на ходу. Помню, что в разгар боя размышлял о том, что если мне не удастся совладать с собственным кишечником до конца битвы, когда можно будет уединиться где-нибудь за кустиками, то я окажусь в весьма вонючей и затруднительной ситуации. Четко, как сейчас, вижу высокий водяной вал, поднятый копытами будинских коней, двинувшихся через реку живым аллюром.
У меня в голове целая библиотека картинок этой битвы, десятки коротких сцен и наблюдений, совершенно самодостаточных, как черно-красные изображения на глиняных сосудах. От доброй их половины я бы предпочел избавиться – например, от образа валящихся в воду будинов всей передней шеренги, когда скифы осыпали их стрелами с расстояния всего-то около пятнадцати шагов. Эти лошади... я ясно вижу, как они скачут к дальнему берегу, как будто зная, что без человеческой ноши им ничего не грозит, что они из материала для груд трофеев превратились в ценный товар. Разумеется, я вспоминаю не без гордости, как колыхались наконечники копий, когда линия пехоты пересекала реку, хотя эта картинка и не такая четкая, как другие. Что мне особенно запомнилось, насколько мокрой оказалась вода, когда мы опустились на одно колено посередине реки, прикрывшись щитами от следующей тучи стрел. Я чувствовал, как намокшая туника прилипла к коже и как стекала по ногам вода, когда мы снова выпрямились. Я помню цвет воды: ее слегка замутил взбитый копытами ил и кровь мертвых будинов.
Эти образы настолько отчетливы, что я не перестаю удивляться отсутствию подобных им в гомеровских описаниях великих битв. Хотел бы я знать, промок ли Александр до мурашек, пересекая Граник, или же вода почему-то не смогла проникнуть в ткань его одежд? Возможно, цари и герои обладают особой способностью оставаться сухими, сражаясь в руслах мелких рек. Не знаю; хотя в последующие годы у меня была масса возможностей побеседовать с людьми, способными проанализировать события и объяснить, почему все пошло не так, до конца разобраться в этом деле я так и не смог.
Любопытно, что когда я говорил о битве с другими ее участниками, то выяснилось, что у каждого из них образовался совершенно иной набор впечатлений и наблюдений, как будто в том месте и в то время имело место множество разных битв. Но это же невозможно, так ведь? Уверен, я бы заметил другие битвы, если только они не начались через полчаса после того, как я ушел домой. Однако многие из этих людей припоминали, что видели меня там, и большинство из них не обладало достаточно развитым воображением, чтобы это выдумать. Мы были где-то на середине реки, когда скифы попятились, развернули коней и ускакали на сотню шагов по направлению к деревне. Они отдавали нам переправу. Они не должны были это делать. Идея заключалась в том, чтобы скифы решили, что мы совершаем тактическую ошибку – пытаемся преодолеть препятствие прямо перед лицом врага, а это самоубийство, спросите любого военачальника – и тотчас же ринулись в атаку, торопясь использовать полученное преимущество. Они должны были спуститься с берега в русло реки, чтобы встретить нас, или, на худой конец, остаться на берегу, теряя все преимущества в обоих случаях – в точности, как это произошло при Гранике.
Ничего подобного они не сделали. Могу только предположить, что они оказались слишком глупы или слишком трусливы, чтобы воспользоваться счастливым моментом. Вместо этого они дождались, пока мы выберемся из воды и снова осыпали нас стрелами. Идиоты.
К счастью, мы оказались готовы к такому повороту благодаря все этим часам, потраченным на муштровку. Мы опустились на одно колено, подняли щиты, как и в прошлый раз; щиты поцарапало и побило, но никто не погиб. Выпустив три или около того залпов, они перестали стрелять, опасаясь исчерпать запас стрел. Мы поднялись на ноги и двинулись на них. Они позволили нам пройти где-то семьдесят шагов, затем отъехали еще на сотню и опять обстреляли нас. Мы склонялись за щитами, поднимались, двигались вперед – по сотне шагов за раз. Это было тяжелое, выматывающее занятие, не говоря уж о том, что оно было унизительным – если по справедливости, то мы должны были бы уже перебить их всех, и все же до сих пор не смогли и приблизиться на расстояние, с которого можно было различить их глаза, не то что поразить кого-то. По всему выходило, что если у скифов не кончатся стрелы, то нам предстоит долгое, мучительное продвижение к деревне.
И как раз в этот момент кое-кто совершенно неожиданно принял весьма разумное решение.
Кор, командир уцелевших будинов, внезапно бросил своих людей в яростную атаку, совершенно перпендикулярную всему происходящему. Выглядело это так, как будто он узрел ту самую, иную битву, о которой я рассуждал чуть выше, видимую всем, кроме меня, и поспешил к ней присоединиться. Враги опустили луки и таращились, не в состоянии уразуметь, что за чертовщина тут творится; то же самое можно сказать и о нас.
Если бы не обнаженные сабли и опущенные пики, я бы решил, что они удирают. Но они не удирали. Проскакав около стадии, будины резко повернули направо и помчались назад; этот маневр выводил их точно за спину противника, если только скифы не сообразят убраться поскорее.
Скифскому отряду пришлось отодвинуться назад и спешно перестраиваться, чтобы встретить стремительно приближающегося противника, и тут я понял, что я вижу: сложный маневр перед лицом врага – долгожданную ошибку.
Качаясь, я выпрямился и завопил, приказывая немедленно атаковать; Марсамлепт опередил меня – ему хватило ума скомандовать трубачам подать сигнал к атаке. В следующие мгновения я приложил все усилия, чтобы не отстать и не быть затоптанным.
Заметив наше приближение, скифы попытались развернуться еще раз и в результате безнадежно запутались. Более по воле случая, чем по расчету, но оба удара – пехотный и кавалерийский – оказались нанесены одновременно. Мы сжали их, как клещи сжимают раскаленный металл. Они не могли ни бежать, ни отстреливаться. Это было в точности, как при Гранике, только лучше.
Замешкавшись поначалу, я оказался в четвертом ряду пехотного строя и с этого места не видел ничего, помимо шлема впередистоящего и мог вносить в общее дело только собственный вес.. Поэтому касательного того, что произошло в действительности, я не имею ни малейшего понятия – не довелось мне увидеть сечи, рубки, честного боя, выпадов, обманных ударов, парирования и игры щитов. Мой боевой опыт можно уподобить толканию в длинной, чрезмерно возбужденной очереди, какая обыкновенно возникает перед театром или Собранием, когда двери распахиваются и вся она разом подается вперед, увлекая тебя за собой. Безусловно, я был напуган, но не врагом; наибольшую опасность для меня представляли подтоки копий передних рядов, риск поскользнуться и быть втоптанным в грязь задними рядами и угроза оказаться попросту раздавленным, подобно жуку, между теми и этими. В сущности, о том, что мы схватились с противником, мне известно только с чужих слов. Сам я вообще не видел врага, если не считать одного или двух трупов, по которым я протопал в те короткие пугающие моменты, когда все мы внезапно подавались вперед.
Скорее всего, это были трупа врагов, коль скоро на них не было доспехов – и это единственное, что я успел рассмотреть.
И не слишком по этому поводу расстраиваюсь, честно говоря. Возможность с кем-нибудь сразиться и убить была последней мыслью, занимавшей меня в тот момент.
Если верить рассказам, то мы просто раздавили их, как перезрелую грушу, сжатую голой рукой, так что мякоть брызгает между пальцев и в ладони не остается ничего, кроме сердцевины с косточками. Около ста семидесяти скифов было убито, столько же захвачено в плен и при этом наши потери выражались однозначным числом, если не считать будинов, застреленных в реке (семнадцать убитых, двадцать или около того раненых). Так или иначе, те, кто разбирался в подобного рода вещах, заключили, что финальный счет хорош, мы на славу выполнили свою работу и на сей раз у нас достаточно добычи для возведения подобающего трофея. Однако оставшиеся в живых добрались до деревни и заперли ворота, так что когда мы перевели дух и пришли в себя, выяснилось, что нам ничего не остается, кроме как возвращаться восвояси.. Пустая трата времени, если хотите знать мое мнение.
– Неплохо получилось, – сказал Тирсений, – учитывая все обстоятельства. Конечно, – продолжал он, – с этого момента нам надлежит быть очень осторожными. Крайне осторожными.
Я зевнул. Было поздно, а все эти пихания и толкотня очень меня утомили.
– Ты хочешь сказать, – ответил я, – что мы напали на них, спровоцировали их на драку, убили почти двести человек и рано или поздно они ударят в ответ.
– Это довольно мрачный взгляд на произошедшее, как ты полагаешь? – заметил Тирсений. – В конце концов, мы только что добились блистательной победы.
– Которая ничего нам не принесла, – сказал я. – Если уж на то пошло, мы только ухудшили положение. Знаешь, что бы я сделал, будь я главным в деревне? Я бы воззвал ко всем скифским племенам в округе, крича о подлом нападении и призывая объединиться, чтобы избавиться от греков раз и навсегда, ибо иначе нам всем грозит погибель. В конце концов, – добавил я, – мы именно что подло напали.
Основатель Продром уставился на меня.
– Я думал, ты как раз из тех, кто хотел этой войны, – сказал он.
Я откинулся назад и прислонился к стене.
– Я хотел стереть деревню с лица земли, – сказал я. – Нет деревни, нет проблем. Думал, что способен на такое – и поделом мне теперь.
– По мне, так все правильно, – сказал Тирсений.
Я не обратил на него внимания.
– Ладно, – сказал Продром. – Так что же ты хочешь сказать теперь? Мы должны отказаться от войны? Попытаться договориться о мире?
Я кивнул.
– По крайней мере, себя мы показали, – сказал я. – И уж точно проредили военный отряд, избавились от целой толпы молодых храбрецов, рвущихся повоевать. Надеюсь, что и из нашего сообщества выпустили гнев. Я бы хотел вернуться к условиям, предложенным Анабрузой в последнем разговоре, и посмотреть, что мы можем из них извлечь.
Марсамлепт погладил бороду.
– Если эти условия до сих пор в силе, – сказал он. – Возможно, сейчас их очередь злиться.
Я пожал плечами.
– Надеюсь, мы перебили достаточное количество скифов, чтобы оставшиеся не могли позволить себе роскошь злиться, – ответил я. – Несмотря на то, что мы с самого начала потеряли контроль над полем боя, они не смогли причинить нам особого вреда. Мы доказали, что они не ровня нам в настоящем сражении.
Марсамлепт слегка наклонил голову.
– Может быть, они и не собираются давать настоящих сражений, – ответил он. – Если им предоставить выбор, у них найдутся и другие способы.
Я видел, к чему он клонит. Если всякий раз мы бьем их в открытом поле, то с их точки зрения самое разумное – не встречаться с нами в открытом поле. Но это не помешает им нападать на идущих со своих наделов горожан и прятаться за воротами деревни, прежде чем мы сможем как-то ответить. Если мы станем отвечать в масть, они усилят атаки – и как, скажите на милость, мы сможем выкроить время на земледелие?
– Так что же ты предлагаешь? – спросил я.
– Собрать больше людей, – сказал он. – Нанять больше воинов. Обложить деревню осадой и уничтожить ее.
Я вздохнул.
– Вернуться к тому, с чего начали, только в худшем виде, – сказал я. – В сущности, мы ничего не добились.
Марсамлепт покачал головой.
– Все изменилось, – сказал он. – Прежде мы могли придти к соглашению. Теперь нам остается только довести начатое до конца.
Никто не знал, что на это возразить и встреча закончилась. Марсамлепт отправился проследить за стражей – его работа продолжалась до рассвета. Мы не предполагали заниматься всеми этими делами; стояло лето, но скоро его сменит осень: сбор винограда, уборка урожая, вспашка и посев. В Греции боевые действия ограничены очень строго: война не должна пересекаться со сбором урожая и мешать людям работать. Однако в Греции все понимают значение войны, победы или поражения. В Греции война напоминает тяжбу в суде, и если этот суд обернется против тебя, ты не жалуешься и не пытаешься уклониться от наказания – ты платишь и продолжаешь жить дальше. Что творилось бы, если бы каждая тяжба по поводу владения той или иной стороной канавы или пропажи партии горшков с медом тянулась бы до смерти одной из сторон? Вот тебе урок военной истории: вступай в битву только тогда, когда готов смириться с ее итогами.
Здесь эти правила не работали, вот в чем дело. Мы больше не в Греции. Покинув ее, мы вышли из правил. Какая жалость.
Я вылез из одежды, которая за этот день успела высохнуть на мне дважды – один раз от речной воды, другой раз от пота – и свалился на кровать. Я уже привык к пустоте моего дома. Даже удивительно, как быстро я к ней приспособился. Все шло наперекосяк, в том или ином смысле, а я едва это замечал.
Я проснулся среди ночи с пониманием, что решил покинуть Антольвию.
Как ни посмотри, у меня здесь ничего не осталось. Моя Антольвия зиждилась на идеях дома, семьи, земли, той жизни, которую я вел бы, если б мой отец не лишил меня ее, нарожав столько сыновей. Теперь же мой сын был мертв, жена сбежала на Сицилию с торговцем сыром, я не рискую наведаться на собственное поле под угрозой смерти – и что еще у меня осталось? Идеальное общество отправилось туда, куда приходят все подобные эксперименты; наше продержалось дольше прочих и я мог утешаться тем, что разорвавшие его силы были в основном внешней природы, но оно по-прежнему оставалось невыполнимым проектом, столь же близким к реальной жизни, сколь гомеровские битвы – к настоящим сражениям. Истина была проста: мы попытались основать греческие город в землях, Грецией не являющихся, в месте, к моменту нашего прибытия уже занятом кем-то еще. Когда греки основывали Милет, Сиракузы, Кирены, Кротон и Одессос, мир был мягок и податлив, как ком влажной глины, готовый принять любую форму. К тому времени, как мы приплыли в Ольвию, он затвердел и уже не поддавался обработке.
Единственный вопрос, который оставался пока без ответа – это когда именно я смогу уехать. Парадоксально, но если бы все шло хорошо, я мог бы отправиться восвояси сей же час, не откладывая (но в таком случае я бы и не захотел никуда отправляться). Действительно, ничто существенное меня здесь не держало, а благодаря Филиппу Македонскому и битве при Херонее я был полноправным владельцем существенной собственности в Аттике, которая после смерти Эвдора и Эвтифрона составляла половину владений отца; чтобы наложить на нее руку, мне предстояло выдержать тяжелые сражения в суде, конечно, и с этой точки зрения чем скорее я отправлюсь в путь и приступлю к боевым действиям, тем лучше. Однако отъезд в данный конкретный момент – не то в начале, не то в самой середине, но уж точно не в конце войны – такого я себе позволить не мог. Не пойми меня неправильно: обязательства, ответственность или честь тут не при чем. Определяющим, скорее, было желание хоть раз в жизни смотреть в правильном направлении, когда случится главное: собратья мои антольвийцы, с тяжелым сердцем я... а частично, безусловно, трусость, поскольку мне не хватало духу встать перед ними и произнести эту речь. Нет, если б я хотел уехать сейчас, мне пришлось бы скрыться тайком, под каким-нибудь надуманным предлогом, подобно человеку, которые говорит жене, что сбегает на рынок за килькой – и через десять лет становится известно, что он командует наемниками в Ливии.
После бессонной ночи (за которую следует благодарить в основном крепкое вино и анчоусов, как я подозреваю) я решил пойти на компромисс. Я уйду, когда от скифской деревни не останется и следа. Еще только формулируя это решение, я дивился, что произошло со мной за последний десяток лет, что превратило в человека, который условием собственного личного освобождения ставит тотальное уничтожение невинных? Я объяснил это тем, что всего лишь возвращаюсь к норме. То, что мы в Ольвии звали геноцидом, в Афинах сочли бы обыкновенной деловой предосторожностью.
Я отправился повидать Марсамлепта.
– Не уверен, – сказал он в ответ на мой вопрос. – Если у нас хватит ресурсов, то я бы хотел получить катапульты и тараны, а также по крайней мере триста опытных лучников. – Извини, – сказал я. – У нас недостаточно ни денег, ни времени. Что мы можем сделать с тем, что уже имеем на руках?
Он задумался.
– Ночная атака, – сказал он наконец. – В темноте они не будут видеть, куда стрелять. Если мы сможем захватить ворота, прежде чем они сообразят, что происходит…
Я покачал головой.
– А мы сможем?
– Нет, – признался он. – На самом деле нет.
Я закусил губу.
– А что, если кто-нибудь откроет для нас ворота? – спросил я. – Будет ли этого достаточно, как ты думаешь?
Как всегда, он основательно обдумал ответ.
– Да, – сказал он. – Думаю, да. Смотри, мы можем использовать стены деревни, как сеть при ловле зайцев. Окружим стены, но оставим открытым проход через боковые ворота. Через главные ворота войдет штурмовая группа с факелами, подожжет все, до чего дотянется, делая при этом вид, что их больше, чем на самом деле. Как только они поймут, что происходит, то бросятся к другим воротам. Здесь мы встретим их и уничтожим.
Я пребывал в сомнении.
– Не слишком ли это сложно? – спросил я. – Судя по тому, как дело пошло в последние два раза, лучше предположить, что если что-то может пойти не так – обязательно пойдет.
Он смотрел на меня с едва заметной усмешкой.
– Я солдат, – сказал он. – Я всегда этого жду. К сожалению, это мало что решает. Даже если ты знаешь, что какое-то звено в цепи ослабло, это не значит, что ты способен как-то это исправить. Нет, мы просто должны устроить все так, чтобы ошибок было так мало, как только возможно.
Он посмотрел на меня в упор.
– Ты действительно думаешь, что сможешь найти того, кто откроет ворота? – спросил он.
Я кивнул.
– Думаю, да, – сказал я.
С последней нашей встречи он определенно постарел. Его широкие плечи выглядели костлявыми, мускулистые руки истончились, и он носил плоть, как старик – тунику, которая была ему впору двадцать лет назад. Кисти рук, казалось, сделались больше и слегка тряслись. Однако шрам, которым я одарил его многие годы назад, остался на месте, и смотрел он так же твердо, как всегда.
– Мир, – повторил он. – Не думаю, что вы, греки, понимаете значение этого слова.
– Мы и не пониманием, – ответил я. – И поэтому придти к нему можно только этим путем. Слушай, Анабруза, я был с тобой совершенно откровенен. Если ты не откроешь для нас ворота, чтобы мы заняли деревню ночью – тихо и мирно, пока все спят – ты мы придем с катапультами и таранами, чтобы взять ее днем, и это тебе совсем не понравится, обещаю.
– Я в этом уверен, – сказал он. – И если б я думал, что могу тебе доверять, все было бы по-другому. Но я не могу. Да и как можно тебе доверять после последнего раза?
Я пожал плечами.
– Если ты не станешь сотрудничать, – сказал я, – мы совершенно точно возьмем стены штурмом и перебьем вас всех. Если ты сделаешь, как я сказал, есть шанс, что я сдержу слово. Даже полшанса лучше, чем ничего.
Анабруза смотрел на меня с незамутненным презрением. Хотел бы я знать, чем его заслужил.
– Если я открою ворота, – сказал он, – что ты сделаешь? Что именно ты собираешься предпринять?
Я улыбнулся.
– Я похож на дурака? – сказал я. – Я не собираюсь тебе этого говорить. Ты меня слушаешь или нет? Я говорю о возможности сохранить жизни – жизни и твоих, и моих людей. Ради всех нас я пытаюсь подойти к делу практически. Мне казалось, что ты-то, из всех возможных людей…
Он отвернулся, как будто не мог больше выносить одного моего вида.
– Чтобы ты знал, – сказал он, – мой сын... мой второй сын... был убит в том бою. Я слишком стар и слишком устал, чтобы завести других. Слышал ли ты историю женщины, захваченной в плен персами?
Я моргнул.
– Нет, – ответил я. – По крайней мере, ничего такого не могу припомнить. Подходящий ли сейчас момент, чтобы рассказывать истории?
Он не обратил внимания на это замечание.
– Как-то раз, – сказал он, – персы напали на наш народ и захватили деревню. Персидский военачальник увидел среди пленных женщину и она ему приглянулась. Поскольку она не хотела иметь с ним дела, он согнал всю ее семью в кучу и сказал ей, что перебьет всех, если она не сделает, что ей от него надо. Если же она станет сотрудничать, – продолжал он, выделив это слово, – он обещает пощадить кого-то одного. Только одного – кого она сама выберет.
– Интересная история, – сказал я. – Продолжай.
– Она приняла предложение, – продолжал Анабруза, – и сказала персу, что желает, чтобы он пощадил ее брата. Перс сдержал слово; позже, однако, он спросил ее, как она сделала свой выбор?
– Это всего лишь логика, – ответила она. – Я не выбрала мужа, потому что когда-нибудь смогу найти другого. Я не выбрала детей, потому что если я выйду замуж, то рожу новых. Но мои отец и мать мертвы и новых братьев у меня уже не будет – поэтому я выбрала его.








