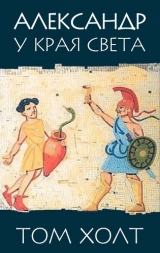
Текст книги "Александр у края света"
Автор книги: Том Холт
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 33 страниц)
Ну что ж, Фризевт, я уверен, что к этому моменту до тебя дошло, что я пытаюсь – несколько тяжеловесным образом – создать у тебя представление о том, как выглядела реальная жизнь в нашем совершенном обществе двенадцати лет отроду. Ты заметишь, что она была никоим образом не совершенна и не имела ничего общего с теми высокоумными и тщательно продуманными образцами, которые развлекали нас в послеобеденные часы в Афинах. Не знаю, хорошо это или плохо; у нас не было правительства, стоящего отдельного упоминания, только Основатели (естественным образом всеми игнорируемые) и я, который прилагал все усилия, чтобы не дай боги чем-нибудь поуправлять, пока меня не принудят к этому силой. У нас отсутствовала внешняя политика, поскольку нам даже не приходило в голову, что мы достаточно взрослые, чтобы обзавестись ею. Что касается политики экономической, то у нас был мой друг Тирсений – человек, продававший втридорога декоративную броню и негодное оружие нашим потенциальным противникам и склонивший нас залезть к соседям в долги, выплатить которые мы не имели ни единого шанса. Законов и порядка у нас было ровно столько, чтобы не перерезать друг другу глотки. Собственно, в отношении политики сказать больше нечего; у нас были занятия поинтереснее. И да, мы так запутались и так далеко отошли от первоначальных планов, что не только иллирийцы, но даже и некоторые будины смогли вписаться в наше общество и найти в нем свой дом. У нас полностью отсутствовали литературные, художественные, научные и философские достижения. У нас не было на них времени. Более того, это нас нисколько не беспокоило. Афинами мы не стали (в Афинах, однако, можно оказаться под судом за богохульство, за клевету на Город перед лицом иноземцев, за недостаточное усердие в возделывании земли; за предложенный, но не прошедший закон об отмене другого закона, можно поплатиться жизнью, как и за отказ примкнуть к той или иной стороне во время гражданской войны; и каждый год афиняне должны голосовать за изгнание известного количества сограждан – не потому, что те в чем-то провинились, а только потому, что ни в ком не вызвали особой симпатии), но не стали и Македонией. Методом исключения мы пришли к выводу, что наш дом – Антольвия; не больше, но и не меньше.
Вот кем, стало быть, большинство из нас считало себя, когда мы готовились к грандиозной торжественной гулянке, посвященной двенадцатилетию нашей государственности; и в целом то, что мы видели в зеркале, нас устраивало. Отчасти я хотел бы взять того юного царевича Александра, которому помог взять в плен пчелиный рой, на безмятежную прогулку по Антольвии, вместо того, чтобы учить его искусству войны и чтения элегических строф. Возможно, увиденное здесь помогло бы ему ответить на вопросы, ради разрешения которых он увел македонскую армию на самый край света – и может быть, ответы, полученные при моей помощи, оказались на толщину волоска ближе к истине. Продолжая это рассуждение, если б я родился глиняным и с ушами поменьше, то был бы кувшином. Трудно писать историю, не пытаясь ее при этом не переписать.
Основатели желали начать праздник с торжественной процессии от места высадки к храму – множество улыбающихся детей, умытых и причесанных, с корзинами свежего хлеба и фруктов. За процессией должно последовать общее исполнение гомерического гимна Аполлону и некоторых сочинений Пиндара, после чего нас порадовали бы концертом для флейты и арфы, а также состязаниями атлетов.
Большинство горожан считало, что коль скоро Основателям нравится проводить время подобным образом, то пусть сами ходят и поют. Мы же предпочитали напиться до беспамятства и хорошенько пошуметь, а в завершение праздника, может быть, разнести несколько лишних статуй – например, статую меня, которую в свое время всандалили в нишу в окружающей рынок стене, совершенно против моей воли. Безлунными ночами я частенько пытался собраться с духом, отправиться к ней с молотом потяжелее и причинить ущерб общественному имуществу, но воображение так живо рисовало мне лица Основателей, если они меня поймают за этим занятием, что я так и не решился..
В конце концов был найден компромисс: процессия, гомерический гимн в сокращенном варианте и огромный чан вина в центре площади, куда каждый мог бы погрузить свою чащу. Я внес свою долю в достижение консенсуса, склонив Основателя Пердикку предоставить трех овец и трех коз для жертвоприношения и последующего угощения – я публично поблагодарил его за это исключительно щедрое предложение, не спросив сперва его согласия. Метод этот чрезвычайно эффективен, и я искренне рекомендую его тебе.
Первые пробы вина показали, что оно почти готово к употреблению, хотя сказать наверняка можно было, лишь откупорив амфоры. Наиболее пессимистичные из наших самозваных экспертов питали самые мрачные ожидания – они считали, что богатая, жирная почва и прохладный климат Ольвии сделают наше вино водянистым и сладким, лишенным оттенка злости, свойственного греческим сортам. Их опасения в определенном смысле подтвердились при открытии первых амфор – напиток получился сладким и деликатным и его следовало разводить водой в пропорции два к одному, а не пополам. Последствия этого эксперимента оказались драматическими: вы выпиваете чашу вина, не ощущая никакого эффекта, а через четверть часа валитесь с ног. Мы, впрочем, решили, что это хорошо – то, что нужно для настоящего героического празднества.
– Вставай, – сказала мне Феано перед рассветом в день торжества.
Я заворчал.
– Зачем? – сказал я. – Разве уже время?
– Нет, – ответила она. – Но я хочу убраться здесь до ухода, а из-за тебя комната выглядит неприбранной.
Мой сын Эвпол тоже должен был нести корзину с хлебом в составе процессии. В сущности, его задача сводилась к тому, чтобы переместиться из пункта А в пункт Б, не свалившись и не уронив корзину, и мы с Феано с большим пессимизмом оценивали его шансы выполнить эту задачу без фатальных ошибок. Сам он, однако, ничуть не волновался, когда мы наконец вытащили его из постели и впихнули в одежды, которые были специально подготовлены к празднику и приходились ему почти впору, так что вместо него мы принялись беспокоиться обо мне. В качестве ойкиста я должен был не только декламировать какие-то магические слова в течение формальной части церемонии, но и произнести подготовленную речь между гимном и началом пьянки. Как ты догадываешься, я хорошенько проработал эту речь. Первый черновой вариант был двадцать минут длиной и ломился от упоминаний мудрости Основателей, ненадежной защиты богов и прочих возвышенных материй. Финальная версия представляла собой вольный парафраз изречения «Выпивки на всех!» и как минимум отвечала ожиданиям публики.
– Ты же не собираешься выйти вот прямо так? – спросила Феано.
– Собираюсь, – ответил я. – А что такого?
– Во-первых, туника тебе мала, – сказала она. – Во-вторых, над левым плечом здоровенная заплата, причем другого цвета.
Я нахмурился.
– Я ношу эту тунику со дня высадки, – сказал я. – Мне казалось, весьма уместно надеть ее как раз сегодня, просто чтобы продемонстрировать...
– ... в какого неряху ты превратился. Нет уж, спасибо. Люди всегда винят жен, и это несправедливо. Иди и переоденься.
Кроме того, она настояла, чтобы я взял кувшин – ты помнишь, о каком кувшине речь, о том самом, в котором не было змеи. На самом деле, я и сам не возражал; именно вера Олимпиады в то, что змея в нем все-таки есть, привела нас сюда, и согласно некой извращенной логике, прихватить его представлялось вполне уместным.
Как ни странно, процессия мне страшно понравилась. Бессмысленные гражданские ритуалы никогда меня не привлекали, но тут мне удалось обманом убедить себя, что этот конкретный ритуал исполнен смысла. Проклятье, я был так горд, когда увидел сына, ковыляющего в первых рядах, мрачно вцепившись в корзину – взгляд устремлен строго вперед, будто у копейщика во главе клина, устремляющегося в битву. Конечно, это постыдная сентиментальность, но хлеб, наполнявший корзину, и сама корзина были сделаны в Антольвии, и давно пора было отблагодарить за все это Аполлона – на тот маловероятный случай, что он все-таки существует. Ты, должно быть, заметил, что я не слишком религиозен, но случаются моменты, когда акт веры оказывается сам по себе гораздо важнее, чем ее объект. Может быть, такие моменты и создают богов. Кто знает.
Мы выстроились в линию, чтобы исполнить гимн.
Ворота остались открытыми.
Ну, никто не обратил на это внимания.
По иронии судьбы строка, которую мы пели, когда все началось, звучала так: «я буду помнить о Нем всегда, мечущем стрелы издалека» – так вот, мы не помнили. Мы о нем начисто забыли. Как и большинство других выживших, с которыми я разговаривал после, сам я точно помню, о чем думал за мгновение до того, как просвистела первая стрела – я думал о том, что поскольку ольвийский виноград крупнее и сочнее греческого, то мы без особого труда сможем получить настоящее сладкое белое вино, наподобие финикийского. Перед глазами у меня прямо стояли эти большие сочные ягоды, лопающиеся под коленом виноградаря в винном прессе. Я видел первые тяжелые капли сока, падающие из-под надорванной кожицы и бегущие по гроздям вниз, прокладывая дорожки сквозь восковый налет.
Затем кто-то завопил. Мы подняли глаза, не понимая, что происходит.
Как-то раз я оказался в полях у Филы, на пикнике. Мы выбрались туда под предлогом приношения в местном храме – мне, должно быть, было лет семь, не больше – и мы, дети, играли в догонялки, когда какой-то дурак метнул камень и угодил в полый ствол дерева, служившего прибежищем рою диких пчел.
Они вырвались наружу, как кавалерийский отряд, внезапно возникающий на незащищенном фланге, и пикник в одно мгновение превратился в дикое, объятое паникой сборище безумцев – люди метались туда-сюда, пряча лица в ладонях, налетали друг на друга, опрокидывали кувшины и чаши, били посуду, сквернословили и визжали. До этого случая я не сталкивался с дикими пчелами, и потому застыл на месте, как идиот, опасаясь только, что меня затопчут. Из-за моей неподвижности пчелы не идентифицировали меня в качестве цели и оставили в покое, в то время как все остальные оказались жестоко искусаны. Тогда все это происшествие казалось мне довольно забавным.
Нам потребовалось какое-то время, чтобы уразуметь, что нас расстреливают в спину. Мы не могли сообразить – кто, пока не увидели их: настоящие дикие скифы, высокие мужчины на низкорослых конях, выполняющие сложнейший из всех маневров – стрельбу с седла. Искусство этого народа удивительно: они бросают поводья и управляют лошадью одними лишь легкими нажатиями коленей, в то время как руки заняты луком и стрелами. Мне подобные трюки не по силам; с этим надо родиться. Я видел даже, как они на полном скаку одной рукой натягивают на лук тетиву.
Я видел, как Мелантий, один из Основателей, спотыкается и валится на колени. Мне никогда особенно не нравился Мелантий. Я видел Эвригию, жену горожанина, имя которого я позабыл, но который помогал строить мой первый амбар, ползущую через площадь на одних руках с застрявшей в позвоночнике стрелой. Ей было шестьдесят, и артрит мучил ее так жестоко, что она и в лучшие дни перемещалась с трудом. Я видел Аза, своего телохранителя-будина, который натягивал лук, не обращая внимания на стрелу, вонзившуюся ему между ключицей и шейным сухожилием. Я видел Агенора-каменщика, с криками толкающего людей на землю. Я видел Основателя Пердикку, атакующего скифских всадников с разделочным ножом в руке; скиф увидел его первым и снес верхушку его лысой головы ударом сабли – так разборчивый едок срезает вареное яйцо. Я видел Феано, сообразительную девочку, присевшую за перевернутым столом и прикрывающую голову бронзовым блюдом, будто щитом. Я видел Болла, иллирийца, как-то вернувшего мне сбежавшую козу, стрелой сшибающего скифа с седла за семьдесят пять шагов от него. Я же просто стоял совершенно неподвижно, сжимая свой кувшин без змеи и никто, как будто, мной не интересовался.
Я уже говорил раньше – что бы ни происходило, я всегда оказываюсь в стороне, хотя на сей раз я хотя бы смотрел в правильном направлении. Я видел Язона, иллирийца-колесника, большого специалиста по овечьим хворям, приколотого к двери, и его жену, швыряющую в застрелившего его скифа тарелки – скиф развернулся к ней, занося саблю, но тарелка с такой силой ударила его в лицо, что глаза ему мгновенно залило кровью – ему пришлось придержать коня, чтобы стереть кровь. Когда он снова поскакал на нее, то получил еще один удар, но на сей раз успел ее зарубить. Я видел моего друга Тирсения – одна рука его свисала безжизненно, а в другой руке он сжимал трофейную саблю, которой рубил свалившегося с коня всадника. Я видел своего сына Эвпола, бегущего в сторону дома, а полет убившей его стрелы проследил от самого лука.
Я не видел, как Марсамлепт и Основатель Харикл возглавили контратаку и отогнали скифов прочь, орудуя палками, горшками и голыми руками. Я как-то видел пчеловода, поймавшего дикий рой при помощи одного лишь пустого горшка из-под меда; он выбрал верный момент и стремительным движением выхватил рой прямо из воздуха; его даже не ужалили. Пока все это длилось, со мной не произошло ничего. Впоследствии как всегда говорили, чтоб им всем провалиться, что меня уберегла моя змея.
Полагаю, атака длилась столько времени, сколько закипает вода в миске; казалось, что она продолжалась гораздо дольше и в то же время – будто все случилось в один момент.
Кто-то закрыл и запер ворота, другие устремились на стены. Люди бродили или бегали туда-сюда, выкрикивали имена, вопили и рыдали. Агенор, не слишком разбиравшийся в медицине, но навидавшийся несчастных случаев, работая каменщиком, организовал присмотр за ранеными и сбор убитых. Главное в уходе за тяжелоранеными – спокойствие и терпение; однажды я видел, как Агенор склеивает разбитую вазу – я бы сдался сразу и отшвырнул ее прочь. Разумеется, отшвыривать людей несколько сложнее, но чувства возникают те же самые.
Я перешел через площадь и посмотрел на тело своего сына, которые был мертв в той же степени, что и Филипп Македонский. Почему я вспомнил о нем в такой момент? Конечно, мысли мои путались, как в тот раз, когда я резко выпрямился под нависающей балкой и череп мой едва не раскололся от удара. Долго время все казалось далеким и очень медленным, и я припоминаю, как гадал, жив ли я еще, и как с удивлением обнаружил, что да. Вином воспользовались, чтобы промывать рубленые раны, оставленные саблями. Я видел двух детей, совершенно неподвижно стоящих над мертвым телом. Они стояли в точности, как я; вдруг один из них пнул мертвеца, который оказался не вполне мертв – может, за то, что тот был скифом, да только этот скиф был будином, защищавшим нас от врагов и павшим с топором в руке. Конечно, в его состоянии лишний пинок в голову, нанесенный ребенком, погоды не делал, но полное отсутствие всяких чувств на детском лице – вот что застряло в моей памяти, будто зазубренное жало пчелы.
Я не подозревал, что Феано способна буквально развалиться на части. Трудно этому удивляться, конечно, но как я уже сказал, мысли мои тогда путались. Я ожидал, что она останется холодной и твердой, запрет свои чувства или протолкается через них, как невоспитанный покупатель через очередь за рыбой. Но нет – ее разрывали слезы и ярость, и к стыду своему должен признаться, что никак ее не поддержал.
Что до меня – иногда о пьяных мы говорим: боли не чувствует – так вот это обо мне. Мое состояние очень напоминало крайнюю степень опьянения – бесцельный, бесчувственный дрейф, когда все силы уходят только на то, чтобы не потерять равновесия и не свалиться наземь, и ни на что другое их не остается. В некотором смысле, я никогда не чувствовал себя более живым, чем тогда, поскольку любое действие, обычно совершаемое автоматически, требовало полной концентрации ума. Да, это обо мне. Боли не чувствует. Я был полностью вовне. Думаю, меня защищала змея.
Когда случается по-настоящему ужасная катастрофа, то после нее на тебя обрушивается огромное множество дел – уборка, починка, копание могил и помощь раненым, неспособным даже подоить своих коз; собрания военных и гражданских руководителей – для них мы использовали Основателей, пятеро из которых были убиты, а семеро – серьезно ранены – и боги ведают, что еще. Как предлог не появляться дома все это подходило как нельзя лучше. За следующие несколько дней я неслабо сбросил вес.
Мой телохранитель Аз умер на четвертый день после нападения от отравления крови.
Я был с ним, когда он умер, и он говорил только о том, как он подвел меня, как не справился с работой, как он должен был сохранить жизнь моего сына. Я просил его не думать об этом, но он не слушал. Он умер с мокрым от слез лицом, пытаясь вспомнить, как будет по-гречески «честь». Как ни странно, я тоже не мог вспомнить.
Глава шестнадцатая
– Уничтожим тварей, – сказали мне. – Уничтожим их всех. Каждого.
– Поверьте, я сам этого хочу, – ответил я. – Ничто не доставит мне большей радости. Если у кого-то есть предложение, как добиться цели без того, чтобы перебили всех нас...
– Неверный ответ, – мой друг Тирсений покачал головой. – Если ты это скажешь, какая-нибудь горячая голова заявит, что у нее есть план, как поставить их на колени в течение месяца, остальные примутся ликовать и размахивать руками, так что придется тебе либо поручить воплощение этого плана его автору, либо взять командование на себя. И то, и другое – катастрофа.
– А если это будет один из иллирийцев, – добавил Основатель Продром, – который и в самом деле возьмет все на себя и победит? С тем же успехом мы можем прямо сейчас передать им правление городом и покончить с этим. Именно так Клеон захватил власть в Афинах во время Великой Войны, когда спартанцы заняли Сфактерию.
Типичный для Основателя ход мысли, но я был не в настроении для политических игрищ.
– Ладно, – вздохнул я. – Так что, по-вашему, я должен им сказать? Предлагайте!
– Запросто, – сказал Тирсений, слегка выступая вперед (многолетний опыт деловых переговоров). – Они говорят: уничтожим тварей. Ты говоришь: конечно! Это мы и собираемся сделать. Мы уже работаем над этим. Разумеется, пройдет некоторое время, прежде чем мы сможем сделать свой ход, но будьте уверены, когда этот момент наступит, они заплатят за все. Что-то в таком духе, – добавил он. – На это абсолютно нечего возразить, хотя ты не берешь на себя никаких обязательств.
Я покачал головой.
– По мне так я беру на себя открытие военных действий против скифов, – сказал я. – Они не дураки, знаешь ли. Этот подход позволит снять нажим на неделю-две, но вряд ли они позабудут обо всем, едва появятся новые предметы для разговоров. И чем дольше я медлю, тем слабее становится моя позиция.
Тирсений на мгновение задумался.
– Ладно, – сказал он. – Тогда попробуем так. Это старый трюк и он никогда не подводит. Ты говоришь: да, конечно, мы собираемся напасть, и напасть прямо сейчас, сразу же, как будут готовы все наши союзники, а они будут готовы со дня на день. Кто-нибудь спросит с озадаченным видом: союзники? Какие союзники? А, ну как же – ответишь ты, – я не собирался делать официальных объявлений до полной готовности, но я договариваюсь с нашими соседями в Ольвии и Одессосе; в принципе, несогласованным остался только один вопрос – сколько кораблей они должны отправить. Таким образом, видишь ли, – добавил Тирсений, – когда по прошествии времени ничего не произойдет, это будет не наша вина, а Ольвии и Одессоса. Наконец, потянув достаточно долго, ты объявляешь, что заключение союза сорвалось, потому что те, другие, в последний момент взяли слова назад; к тому времени, конечно же, все так привыкнут к идее альянса, что не захотят браться за дело в одиночку. Все уляжется само собой, чего мы и добиваемся.
Продром сурово посмотрел на него.
– Нет, мы добиваемся не этого.
– Не будь смешным, – отрезал Тирсений. – Нам незачем ввязываться в войну со скифами. Чего ради?
Я на секунду зажмурился.
– Тирсений, – сказал я.
– Ох, да ладно тебе, – отозвался он недоверчиво. – Только не говори, что относишься к этой чепухе серьезно.
Это был тот самый Тирсений, которые всего несколько дней назад заявлял, что когда мы возьмем деревню («когда», обрати внимание, а не «если»!), то сожжем ее дотла, перепашем место, где она стояла, а землю разделим между гражданами. Я-то знал, о чем он; он планировал скупить всю эту лишнюю землю, лежащую в дне пути от нас и потому совершенно неудобную для обработки, по дешевке, с прицелом продать ее новым поселенцам, которых собирался привезти сюда после того, как со скифами будет покончено. Можно было прозакладывать голову, что перемена его настроения имела под собой не менее серьезное коммерческие основания, но мне не хотелось о них знать.
Тирсений убил четырех скифов, орудуя захваченной у одно из них саблей, несмотря на то, что при первом же залпе стрела пробила ему левый бицепс, и из него вытекло столько крови, что после драки он потерял сознание и ночью едва не умер. Я, разумеется, тем временем просто стоял на месте, ничего не делая, весь прикрытый кольцами священной змеи, которая языком отбивала стрелы, направленные мне в голову.
– Не верю своим ушам, – говорил между тем Продром. – Ради богов, Эвксен, на кону само будущее колонии. Проклятье, да как нам жить с подобной угрозой, которая будет висеть над нашей головой до самой смерти? Ты должен на что-то решаться, и чем быстрее, тем лучше. Еще две семьи собираются отплыть на следующем же корабле. Скоро здесь не останется никого, кроме иллирийцев.
Тут он меня достал.
– Вот что тебя на самом деле угнетает, да? – яростно сказал я. – Боишься, что если мы, истинные греки, не возьмем ситуацию в свои руки, иллирийцы потеряют терпение и сами ею займутся; после этого ты из Основателя превратишься в простого грека, вынужденного трудом зарабатывать себе на жизнь?
– Я возмущен, – довольно предсказуемо заявил Продром. – Думаю, тебе лучше взять эти слова назад, прежде чем...
– Эй! – сказал я. – Достаточно. Так уж вышло, что я согласен с тобой, а не с Тирсением. Я хочу смерти этих ублюдков, всех и каждого. Или они, или мы; после того, что случилось, мы не сможем жить с ними в мире, и я не желаю никакого мира. Все, что я хочу сказать, что если мы не сделаем все правильно, они вырежут нас.
– Чепуха, – сказал Продром. – Так ведь?
Последние слова он адресовал Марсамлепту, который был неподвижен и тих, будто бревно, и несмотря на заявления Продрома о лукавых и неверных иллирийцах, ни разу не оторвал взгляд от противоположной стены.
– Нет, – сказал он. – Эвксен прав. Если мы нападем, мы должны сделать это правильно.
– Если? – повторил Продром. – Ты только не начинай. Мало нам Тирсения, который притворяется, будто ничего не произошло. Ради всего святого, Эвксен, хоть раз в жизни отнесись к своей власти серьезно и скажи ему...
Я поднял руку, призывая к тишине, и, к моему удивлению, настала тишина.
– Когда мы нападем... заткнитесь, вы оба, не то пропустите что-нибудь важное… когда мы нападем, мы сделаем это как надо. Так вот, пока что я не слышал ни одного осмысленного предложения на этот счет. Пока я не увижу план действий, который сулит хотя быть семьдесят пять процентов успеха, мы не шевельнем и пальцем, потому что если вы думаете, что сейчас дела обстоят скверно, то только потому, что не представляете, что будет, если мы нападем и нас побьют. Вот это будет настоящий конец всему, и не ждите, что я готов его увидеть только потому, что вы, Основатели, желаете остаться первыми в очереди за рыбой.
Нарисованная мной мрачная картина должна была обеспокоить и его – так и вышло; ничто не могло поставить Продрома на место, кроме ощущения, что его не воспринимают всерьез. То есть он был довольно разумным Основателем, и в целом я предпочитал иметь делом с ним, а не, скажем, с Пердиккой (чьи мозги украсили ступени рыночного зала; четыре дня спустя там все еще оставалось бурое пятно. Когда мы его хоронили, то попытались приладить верхушку черепа на место, но кожа уже съежилась. Пришлось примотать ее тряпкой, и он отправился под землю, похожий на старуху, замотанную головным платком).
– Ладно, – сказал Продром. – Я буду считать это явно выраженным намерением действовать, и скажу всем, что выслушал ваши предложения и согласен с ними. Но предупреждаю тебя, если я увижу, что ты тянешь время и ничего не делаешь для уничтожения врага, тебе придется туго.
Я потер глаза; за четыре дня поспать удалось всего ничего.
– Согласен, – сказал я. – Хотя не то что бы меня волновало, что ты там себе считаешь. Итак, Марсамлепт, не подумать ли о некоторых простых вещах? Какое войско мы можем собрать?
Прежде чем ответить, он надолго задумался.
– Мы сильны тяжелой пехотой, – медленно, как всегда, произнес он. – Во всем остальном мы слабы. Мои люди в большинстве своем неплохо стреляют из луков, но захотят драться копьями. Будины хорошие лучники, но их слишком мало. Кавалерии у нас нет. Если мы собираемся сражаться, мы должны ясно понимать их силу и найти способ превзойти ее.
– Понятно, – ответил я. – И в чем их сила?
– Кавалерия, – сказал он. – Кавалерия и лучники. Не могу сказать, как будет протекать битва между конными лучниками и тяжелой пехотой, потому что ни разу ее не видел, но думаю, конные лучники победят, если ими будут управлять с умом.
– Необязательно, – вмешался Тирсений. – Вспомни Леонида при Фермопилах. Или греков при Платеях. Или Ксенофонта...
Я нахмурился. Разумеется, ни в одном из упомянутых им случаев тяжелая пехота не сражалась с конными лучниками.
– Марсамлепт, – сказал я. – Если бы тебе пришлось драться в таком раскладе, как бы ты поступил?
Он снова погрузился в размышление.
– Тирсений говорит о битве при Платеях, – сказал он. – Когда персы стали стрелять в греков, греки встали на колено за своими щитами и сделались маленькими, а персы потеряли терпение и пошли в атаку с копьями. Это была их ошибка. – Он посмотрел на потолок. – Может быть, скифы тоже сделают ошибку. Сколько я их знаю – вряд ли. Конечно, атаковать их в этом случае будет тяжело.
– Я в этом не уверено, – влез Тирсений. – Подумай о карфагенянах при Химере.
Этот пример был столь смутен, что я не дал себе труда о нем подумать. – Я так понимаю, ты хочешь, чтобы они атаковали нас, – сказал я.
– Чего они не сделают, – продолжил Марсамлепт, – если опять-таки не совершат ошибку. Нас больше. Зачем бы им атаковать превосходящие силы?
– Понимаю, о чем ты, – признал я. – Тебе лучше пойти и все обдумать. Продром, я хочу, чтобы ты попробовал успокоить людей. Идея Тирсения послать за помощью в Ольвию неплоха. Тирсений, я хочу, чтобы ты написал своим друзья в Ольвии, просто чтобы они были готовы помочь нам. Я знаю, у них нет никакой вражды с соседями, но ты может попробовать подкинуть им то соображение, что если скифы избавятся от одной греческой колонии, то они могут захотеть избавиться от них от всех. Можешь также узнать насчет наемников: легкая пехота, лучники, может быть, даже какие-то опытные фракийские всадники, если такие найдутся поблизости.
Тирсений покачал головой.
– Сомневаюсь, – сказал он. – Все, кто хоть на что-то годен, ушли с Александром. Ты не поверишь, сколько он платит.
Это верно, я и забыл; Александр отправился со своим войском завоевывать мир.
Ты-то все об этом знаешь, Фризевт, ты вырос в этом завоеванном мире. Когда ты был маленький, папа рассказывал тебе истории о великом воине, основавшем ваш город. Позже ты присутствовал при декламации официальной истории на Днях Основателей, когда детей угощают яблоками и медовым печеньем, чтобы подкупом склонить их расти добрыми гражданами. Бьюсь об заклад, ты способен перечислить великий битвы, случившиеся в местах, в которых ты никогда не бывал, в странах, которые не можешь и представить; в детстве, думаю, ты пытался вписать их в известные тебе местности, так что речка, бегущая с гор, становилась Граником, а ручей на общем лугу – Иссом. Ты разыгрывал осаду Тира здесь, в городе; должно быть, на маленькой рыночной площади, забитой сотнями тысяч воинов, было тесновато, когда огромные осадные пандусы и башни Александра нависали над низенькими городскими стенами из обожженного кирпича. Где у тебя располагались Гавгамелы, интересно? Подожди, не подсказывай... либо на том месте, где сейчас стоит храм, либо в чахлом садике за водяными цистернами. Конечно, твой Александр был темноволосым и черноглазым, носил высокую войлочную шапку и кавалерийскую атаку при Арбеле возглавлял верхом на коротконогой, короткомордой лошади; это ведь в битве при Арбеле состоялась знаменитая кавалерийская атака, или я путаю ее с Граником? Мой Александр, видишь ли, с течением лет приобретает все более размытые очертания, в то время как Александр государственный становится все крупнее, массивнее и с каждым годом, с каждым Днем Основателей, приобретает в глазах детей с медовым печеньем, тающим в потных кулачках, все более божественные черты. Наступит момент, когда я вообще не смогу узнать Александра, как впавший в маразм старый отец, забывший собственных детей.
До этого, однако, еще не дошло, так что доверься мне и забудь на секунду собственного Александра, или попробуй представить, что я рассказываю тебе о каком-то другом человеке, по случайности носящем то же имя.
Прежде чем пуститься в свое великое путешествие, Александр Македонский завершил все дела в Греции, которые его отец начал, но не закончил. Он умертвил четверых своих родственников; они были слишком близки к трону, чтобы оставить их дома, а в путешествии они были не нужны. Это были два брата царя Линкестиды, незаконнорождённый сын Филиппа и сын старшего брата царя, от чьего имени Александр сперва регентствовал.
Александр прибыл в Коринф во главе армии, чтобы принять официальный титул Вождя Греков, который носил его отец. Во время его пребывания здесь он нанес визит Диогену, известному так же под именем Брехливый Пес, который перебрался в Коринф из Афин несколькими годами ранее, заботясь о своем здоровье. Может быть, он запомнил кое-какие истории о Диогене, рассказанные ему его старым учителем (я тогда думал, что мой собственный учитель уже оставил наш мир), а может быть, встреча с великим философом являлась обязательным пунктом каждого официального турне – так или иначе, Александр призвал Диогена пред свои очи. Диоген не пришел. Поэтому Александр сам отправился к Диогену.
– Привет, – сказал он. – Меня зовут Александр.








