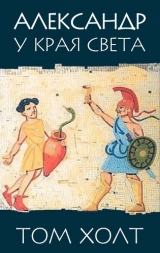
Текст книги "Александр у края света"
Автор книги: Том Холт
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 31 (всего у книги 33 страниц)
Не пойми меня неправильно: я не говорю, что Аммон тут вовсе не при чем.
Но человек не может просто так зайти в здание, веря, что он смертен, а выйти оттуда, будучи совершенно убежденным, что он бог, если в нем изначально не было ни следа безумия.
В чем дело, Эвксен? У тебя такой вид, будто ты проглотил осу. Ты что, не знал? Благие боги, я думал, все знают. Во-первых, это никогда не было секретом.
Да, это совершенная правда – правда не в историческом смысле, а в самом простом. Во время египетского стояния, вскорости после его собеседования с тем, кого уж они там прячут в Сиве, Александр оповестил всех, что с такого-то числа он бог, и все административные и дипломатические протоколы следует соответственно поправить.
Официальное объяснение было таково, что все это ради египтян, которые обожествляют всех своих царей; если Александр станет утверждать, что он не является богом, то и царем Египта он быть не сможет, что приведет к ужасающему восстанию. Совершенно разумное объяснение: египтяне в точности такие и есть. Отправляйся на рынок, собери сотню случайных людей и отруби им головы, и никто даже не подумает раздувать из этого проблемы. Случайно задави телегой священного кота или священного пса и они набросятся на тебя с вилами и косами и не отстанут, пока ты или они живы. В самом деле, начинаешь даже уважать людей, которые столь серьезно относятся к вере (то есть ты – нет, не начинаешь, поскольку так серьезно к вере относятся только опасные психи. С другой стороны мы, как народ, склонны восхищаться опасными психами, поэтому не вижу, почему нам не восхищаться египтянами. Они в точности как мы, если вникнуть в суть и игнорировать то обстоятельство, что они совершенно другие).
В общем, таково было официальное объяснение – логичное и удобное, в стиле «посмотрите только на этих забавных иностранцев»; сперва все относились к божественности как к масштабному розыгрышу, включая Александра, у которого чувства юмора было не больше, чем у сандалии.
Накрывают к обеду; все получают обычную свою чудовищную порцию хлеба и жареного мяса, тарелка Александра пуста.
– А мне? – спрашивает он.
– Тебе – молитвы, – отвечают ему.
Начинает лить дождь, все промокают до нитки. Гефестион сердито смотрит на Александра.
– Завязывай с этим, – говорит он.
– Извини? – отвечает Александр с туповатым видом.
– Говорил я вам, не надо было угощать его арбузом, – говорит Клит, качая головой. Все хохочут.
Кроме меня, конечно. Ну, ты понимаешь, почему; Пифон, однако же, будучи несчастным македонцем, не мог взять в толк, почему это меня так тревожило.
– Это афинское, – сказал я. – Ты не поймешь.
– Так объясни, – сказал он.
Я пожал плечами и поворошил костер.
– Так афиняне почитают богов, – сказал я. – Мы потешаемся над ними. Это самое искреннее выражении нашей веры.
Брови Пифона полезли на лоб.
– Да поди ты, – сказал он.
– Честное слово. Так обычно начинаются комедии: жрецы и прихожане насмехаются над богом. Это наш способ выказывать любовь к нему, которая гораздо важнее веры.
– Странный вы народ, афиняне, – сказал Пифон.
– Многие так думают, – признал я. – Они называют это святотатством, на что мы совершенно обоснованно возражаем, что святотатство – это считать, будто у бога нет чувства юмора. Каковое чувство, – добавил я, – у них совершенно определенно наличествует. Посмотри только на способ, каким люди размножаются и удаляют отходы из своих тел, и скажи мне, что у богов нет чувства юмора. Весьма неразвитое, если не сказать извращенное, но никто не совершенен.
Пифон немного над этим поразмыслил.
– Ладно, – сказал он, – я вижу, что тебя беспокоит, но ты же афинян. Но Александр-то нет – он македонец.
Я кивнул.
– Но вырос он афинянином во всем. Образованным афинянином. Знакомым с афинской драматургией. Ни секунды не сомневаюсь, что он воспринимает все в точности, как я. И это меня пугает. Эти шуточки ничуть не лучше обыкновения египтян при виде его валиться мордой вниз. Хуже даже. Египтяне всего лишь забавные иностранцы; шутки шутят греки.
Пифон глубоко вдохнул, задержал дыхание и медленно выдохнул.
– Хорошо, – сказал он, – понимаю, почему ты встревожен. Но это же ничего не меняет, так ведь? В смысле, если уж мы собирались убить его, когда он был относительно разумен, то теперь, когда он свихнулся, мы обязаны убить его еще больше. Ну, то есть, – добавил он, – ты понял, что я хотел сказать.
– Разумеется, – сказал я. – Но вот мы опять сидим и болтаем, ничего не делая.
– Что бы это значило?
– О, да брось, Пифон. Это значит, что я не понимаю, чего мы ждем? У нас есть ядовитый мед, лучшего времени не будет. Почему бы уже не сделать дело?
Он несколько раз быстро моргнул.
– Что, прямо сейчас?
Я пожал плечами.
– Почему бы и нет?
Он потер лицо ладонями, как будто пытаясь отогнать дремоту.
– Ладно, – сказал он.
– Прямо сейчас?
– Прямо сейчас.
– Хорошо.
Меня пробил озноб.
– Тебе не кажется, что мы могли бы...
– Что? – Пифон взглянул на меня. – Ты только что сказал, что мы должны сделать это сейчас. Только что сказал.
Я покачал головой.
– Я не так сказал, – ответил я. – Я сказал, что не вижу причин, почему бы не сделать этого сейчас. И это не означает, что их нет.
Пифон нахмурился.
– Я запутался, – сказал он.
Я встал, прошелся туда-сюда и снова уселся.
– Давай взглянем правде в лицо, – сказал я. – Мы не очень для этого подходим. Недавно мы чуть не уссались, придумывая, что нам сделать с дохлым верблюдом. А теперь ты говоришь, что мы должны уничтожить царя Македонии и половину его двора.
– Ты передумал, – сказал Пифон. – Испугался.
– Да ни хрена.
– А вот и хрена.
– Ну да, конечно, я испугался, – сказал я. – Если б я не боялся, то был бы еще безумнее его. Страх – драгоценный дар богов, который позволяет нам избегать идиотских поступков ради выживания.
Пифон кивнул.
– Совершенно верно, – сказал он. – Но весь смысл убийства Александра заключается в том, чтобы он перестал убивать нас. Ты можешь назвать это более высоким уровнем страха.
Я плюхнулся на стул.
– Ты прав, – сказал я. – Ну, не знаю. Возможно, мы либо должны сделать это сейчас же, либо не делать вовсе.
– Другой разговор, – сказал довольный Пифон. – В конце концов, что с нами может случиться в самом худшем случае?
– Ты серьезно? – спросил я. – Нас поймают и подвергнут самым ужасным пытками, пока не умрем.
– Ладно, – сказал Пифон. – А если мы этого не сделаем, если мы мы упустим эту возможность – например, армия выступит в поход и не мы сможем уже до него добраться, что тогда? Нас могут убить в битве, или мы можем умереть медленной смертью от ран или отравления крови или от какой-нибудь ужасной болезни; или нас могут поймать персы и бросить связанными в пустыне или...
– Ох, заткнись, ради всех богов, – сказал я. – Никакого проку с тебя.
– Я просто сказал, – ответил Пифон. – Невозможно предсказать, что случится, так какой смысл на этот счет беспокоиться? Только себе хуже делаем.
Я немного подумал.
– Значит, ты хочешь сказать, – сказал я, – нам следует сделать это сейчас. Прямо сейчас.
– Да.
Я вздохнул.
– Хорошо, – сказал я.
– Ты сделаешь это?
– Разве я не сказал только что?
– Конечно. Ладно, давай сделаем это.
– Хорошо.
Мы оба встали, слегка покачиваясь, но это от лекарства, от него иногда покачивает, если резко встать.
– Мед, – сказал я. – Куда ты его дел?
– На склад, конечно, – сказал он. – Ты же не думаешь, что следовало оставить его у себя?
– Почему нет?
– Если меня поймают с двенадцатью амфорами отравленного меда и спросят, что я собирался с ним делать, я замаюсь отвечать, – объяснил он довольно логично. – Поэтому я положил их на складе вместе с остальными, подальше, чтобы никому не навредить. Теперь, если кто-нибудь спросит, я не при чем.
Я нахмурился.
– Одно маленькое замечание, – сказал я. – Как мы теперь, твою мать, узнаем, в каких амфорах яд? Сунем палец и оближем?
У него сделался обиженный вид.
– Думаешь, я дурак, – сказал он. – Я пометил амфоры, так что мы сразу их узнаем. Нацарапал большую букву Я у каждой на горлышке.
– Я, – сказал я. – От слова «яд», я угадал?
– На всех амфорах ставят номер партии, – сказал он. – Я проверял. У последней партии была маленькая О, а на сегодняшние амфоры ставили П, так что нет никакой опасности, что они по ошибке пометят что-нибудь как Я. Понимаешь, – продолжал он, – если делать все вдумчиво и методично, никаких ошибок не наделаешь.
И мы пошли на склад. Было поздно, темно, мы никого не встретили. Я прихватил масляную лампу с коротким разлохмаченным фитилем.
– Я думал, ты знаешь о номерах партий, – говорил Пифон. – Твои собственные проклятые писцы этим занимаются.
Я покачал головой.
– Я за ними не слежу, – сказал я. – Если указывать писцам, что им делать, добра не будет.
– Верно, – сказал Пифон. – Так, вот здесь я их и оставил, за корзинами с зерном, под старыми мешками.
Я поднял лампу.
– Нет, не оставил, – сказал я.
– Что ты имеешь в виду?
– Посмотри, – сказал я. – Старые мешки есть. Амфор нет.
Он нахмурился.
– Твою мать, – сказал он. – Кто-то их переставил.
– Какой-нибудь мудак-писец, – сказал я. – Они постоянно наводят порядок, чудо вообще, что после них вообще хоть что-нибудь можно найти.
Он кивнул и запалил еще одну лампу от моей.
– Очень хорошо, что мне хватило здравого смысла пометить горлышки. Иначе одни боги ведают, что могло бы случиться.
– Совершенно верно, – сказал я. – Хорошо, ты ищи тут, а я посмотрю вон там. Но я тебе еще раз говорю, что не надо было их сюда вообще приносить.
– Расслабься, – отозвался он из темноты. – Это же армия. Всему свое место и все на своем... Ага, ну вот.
Я выдохнул; я был встревожен сильнее, чем думал сам. Глупо, конечно; в конце концов мы всего-то планировали отравить всю командную верхушку македонской армии.
– Обязательно пересчитай их, – сказал я. – Просто на всякий случай.
– Ну конечно, я и собирался... – он осекся, не договорив фразу до конца.
– Что такое? – спросил я, хотя знал и так.
С минуту он ничего не говорил.
– Ну, – сказал он наконец, – я нашел десять.
– Чудесно, – сказал я. – Как насчет остальных двух?
– Да они где-то здесь, – ответил он слегка неуверенно. – Просто какой-то мудила поставил их не... ага, уже одиннадцать, – сказал он. – Ты у себя все осмотрел?
– Да, – ответил я. – У меня с А по М.
– Проверь все, – отрезал он.
– Я и проверил, – с раздражением ответил я. – И это партии с А по М, я же сказал.
Бледный свет его лампы надвинулся на меня из темноты.
– Одной не хватает, – сказал он. Выглядел он ужасно.
Я глубоко вдохнул.
– Главное, – сказал я, – не паниковать. Ладно, давай по порядку. Кто их принимал? Насколько я знаю писцов, тут должна быть опись, складская книга, что-нибудь в этом роде. В этой армии ты вдохнуть не можешь без печати.
– Складская книга, – повторил он. – Ты прав, должна быть складская книга. Где ее искать, как ты думаешь?
– Да откуда мне знать-то? Где сидят писцы?
Он указал в сторону входа.
– Вон там, – сказал он. – На тех бочках.
Я кивнул.
– Готов спорить, что там мы и найдем складскую книгу. Логика, понимаешь ли.
Само собой, рядом с бочками, на которых сидели писцы, мы нашли стопку восковых табличек. Они были покрыты аккуратными рядами и столбцами чисел, зачеркнутых и перечеркнутых, каждая строка и каждый ряд помечены одной или несколькими буквами. Для всякого, кроме армейского писца, полнейшая белиберда.
– Ничего не понимаю, – сказал я.
Пифон покачал головой.
– Нам нужен писец, чтобы разобраться, – сказал он.
– О, прекрасно. Пойдем и разбудим какого-нибудь. Извини, скажем мы ему, похоже, мы не досчитались одной амфоры смертельно ядовитого меда, не мог бы ты просмотреть свои записи, чтобы узнать, кого мы убили? После этого нам точно конец.
Он уставился на меня.
– Так что же ты предлагаешь? – сказал он.
– Свалить отсюда, – ответил я.
Это его потрясло.
– Ты, наверное, шутишь.
– Посмотри на меня. Все в точности, как с тем проклятым верблюдом, – продолжал я. – Никакого отношения к нам.
– Эвдемон, сотни могут умереть...
– Хорошо, – сказал я. – Я знаю. И это очень печально. Но такова жизнь, в особенности на войне. Сотни тысяч гибнут на войне, и никто, по-моему, особенно по этому поводу не...
– Эвдемон, – сказал он. – Мы должны что-то сделать.
– Да, – сказал я. – Свалить отсюда, вот что мы должны сделать. – В конце концов, – продолжал я, – мы же не сами отравили этот мед. Он ядовит от природы. На самом деле это просто трагический инцидент, испорченный продукт смешался с качественным. Как в тот раз, когда фракийская кавалерия отбила груз гнилой пшеницы. По виду ее никто не мог отличить.
Он схватил меня за руку.
– Но мы-то знаем, – сказал он.
– Никто этого не докажет, – возразил я.
Он уставился на меня.
– Мы знаем, – повторил он.
Я отвел взгляд.
– Хорошо, – сказал я. – Смотри, не может быть, чтобы это был единственный реестр; это просто опись, чтобы знать, сколько чего и когда получено. Должна быть такая же для выдачи. Ну ты знаешь, в которой мы должны ставить печать, когда что-нибудь получаем.
Пифон подумал.
– Ты прав, – сказал он. – Но ее, похоже, тут нет. А, ну конечно, – продолжал он. – здесь-то ее не будут держать, так?
– Я не знаю, – сказал я.
– Подумай. Такого рода дела решаются через квартирмейстера. Готов поспорить, каждый вечер они относят записи в контору квартирмейстера, чтобы там могли подбить бабки. Там и лежат таблички, – продолжал он, – в конторе квартирмейстера.
Я уселся на бочку.
– Фантастика, – сказал я. – Ну значит приплыли.
Он сел рядом.
– Не обязательно, – сказал он. – Мы просто смотрим не под тем углом, понимаешь?
Я посмотрел на него?
– Да ну?
– Точно, – сказал он, уверенно кивнув. – Мы смотрим на все с точки зрения двух злобных ублюдков, которые ухитрились потерять амфору с ядом, которым они собирались кое-кого отравить. А дело обстоит совершенно иначе.
– Объясни.
– На самом деле, – сказал он, – у нас – или, точнее, у тебя, потому что ты командуешь долбаными пчелами – возникли причины подозревать, что последняя партия меда – порченная. Может быть, даже опасная, и ты, будучи ответственным и осторожным офицером, собирался выкинуть всю эту партию, просто на всякий случай.
– Точно, – сказал я. – Каждый поступил бы так на моем месте.
– Ну вот, значит. Представь же свою тревогу, когда ты обнаружил, что одна из этих амфор оказалась кому-то выдана...
– Выдана в нарушение порядка, – указал я. – Не по правилам.
– Именно. Какой-то писец получит за это по жопе сапогом, если справедливость еще существует на свете.
– Покатятся головы, – согласился я. – Ошибка вроде этой могла бы стоить сотни жизней.
Пифон посмотрел на меня.
– И все еще может, – сказал он. – Давай, тебе надо к квартирмейстеру, и как можно быстрее.
– Хорошо, – сказал я. – А почему я? Пошли вместе.
Он покачал головой.
– Я к этому касательства не имею, – ответил он. – Это ты долбанный владыка пчел. При чем тут я?
Я вздохнул. Тут он был прав.
– Хорошо, – сказал я. – Зайду к тебе в палатку, когда закончу.
– Лучше не надо, – сказал он. – Просто на всякий случай. Я хотел сказать, – объяснил он, – что если что-нибудь пошло не так и половина лагеря уже мертвы, мне в данный момент лучше не связываться с тобой. Ты же понимаешь?
– Прекрасно понимаю, – сказал я.
– Логика, – добавил он.
Глава двадцать вторая
Вот так, дорогой брат, я и стал героем, спасшим жизни сотен своих товарищей. Как мне кто-то доказал строго арифметически, по шкале спасенных жизней я вхожу в пятерку величайших и славнейших героев войны, поскольку большинство увенчанных лаврами за спасение жизней клоунов спасли на самом деле одного-двух человек, пять-шесть – максимум. Правда, при этом они рисковали собственной, получали ранения и все такое; но если учитывать только результаты, не глядя на обстоятельства того или иного акта героизма, им со мной никак не равняться.
Величайшим и славнейшим героем же я оказался потому, что не подними я тревогу, смертельный мед оказался бы смешан с вином и выпит за здоровье королевы-матери в ее день рождения, последствия чего были бы крайне серьезными, говоря мягко. Сотни, говоря по совести – это недооценка. Легко могло дойти и до тысяч.
Подвиг мой был столь славен и столь велик, что получить венок и дары из рук вышестоящего офицера (главного инженера по имени Диад, неплохого на свой лад мужика) оказалось для мне недостаточно; нет, я должен был получить их из рук самого Александра.
– Прекрасно, – сказал Пифон, когда я рассказал ему об этом.
Я нахмурился.
– Вообще-то, – ответил я, – я бы предпочел поменьше шума на эту тему. На самом деле, чем скорее обо всей этой истории забудут...
– Я говорю не о твоем долбаном лавровом венке, – сказал Пифон брюзгливо. – Я говорю об убийстве Александра. Ты не забыл, а? Наш заговор с целью убийства царя Македонии?
– О чем ты говоришь, – спросил я.
– Боги, ты тупой или что? Это же чудесная возможность, сервированная нам на тарелочке каким-то возлюбившим нас богом...
Я был потрясен.
– Уж не предлагаешь ли ты мне убить его, пока он вручает мне награду? – спросил я.
Это его озадачило.
– А почему, блин, нет? – сказал он.
– Ну... – как ни странно, у меня возникли затруднения с формулировкой. – Это было бы неправильно, – сказал я. – Не в тот момент, когда он столь...
– Милый?
– Ну, за отсутствием более подходящего слова – да.
Пифон уставился на меня, как будто у меня крылья выросли из ушей.
– Поверить не могу, – сказал он. – Пучок сухих листьев и треножник за три обола – и из человека, который готовился одним ударом стереть с лица земли целое поколение македонской аристократии, ты превращаешься в идеального солдата. Благие боги, Эвдемон, если б все не было так серьезно, я бы обоссался от смеха.
Он начинал меня раздражать.
– Проклятый венок тут не при чем, – сказал я. – И да, я по-прежнему уверен, что с Александром надо кончать. Я – за, обеими руками. Просто не понимаю, как можно убить его вот так, глядя в глаза.
– А почему нет? Боишься оскорбить его чувства?
Я пнул стул.
– Ладно, – сказал я. – Ты мне скажи. Вот я у него в шатре. Когда я должен проткнуть его ножом? До того, как он вручит мне венок, или после? Я знаю, что сегодня день рождения его матери и он может предложить мне выпить за ее здоровье. Я мог бы полоснуть его по горлу, пока он наливает мне вино. Или лучше подождать, когда он повернется спиной, чтобы взять треножник?
Пифон покачал головой.
– Допустим, – сказал он, – это как-то слишком хладнокровно. А что тут сделаешь? Боюсь, не существует вежливого способа убийства.
Я сложил руки на груди и посмотрел вдаль.
– Кроме того, – сказал я, – если я убью его там и тогда, то точно не выйду оттуда живым. И почему ты думаешь, что мы окажемся с ним наедине? Он никогда не бывает один. Нынче он посрать ходит в компании дюжины послов и дежурного философа.
– Ну и что, – сказал Пифон, – ты можешь заодно прихлопнуть и свидетеля. Большое дело! Ты же солдат, а это вообще-то солдатская работа – убивать людей.
Я покачал головой.
– Чем дальше, тем хуже, – сказал я. – И даже если мне удастся убить Александра и еще шестерых штабных офицеров, дальше что? Трудновато доказать, что ты не при чем, если тебя находят с окровавленным ножом в окружении трупов.
Пифон немного подумал.
– Хорошо, – сказал он. – Ты входишь в шатер, получаешь награду за геройство. Пока ты этим занят, какой-то писец или адъютант впадает в неистовство и убивает царя. Ты не успеваешь остановить его, но по крайней мере успеваешь отобрать нож и зарезать гада, прежде чем он убежит. Кто знает? – добавил Пифон кислым тоном. – Может, за это тебе дадут еще один лавровый венок.
– Да никто в это не поверит, – сказал я. – Для меня это самоубийство, и ты это знаешь.
Он уставился на меня.
– Ты, кажется, отчаянно хотел стать героем, – сказал он. – Почему бы не стать им взаправду, а не мошеннически?
– Я возмущен, – сказал я. – И ты начинаешь действовать мне на нервы.
– И?
Мне стало казаться, что ситуация выходит из-под контроля.
– Слушай, – сказал я, – если мы вцепимся друг другу в глотки, лучше никому не станет. Если мы продолжим в том же духе, то убьем друг друга, не успев и подойти к Александру. Просто прими это: я не собираюсь убивать его во время награждения.
– Прекрасно. Такая прекрасная возможность псу под хвост.
– Ошибаешься, – терпеливо возразил я. – Я могу попробовать организовать ситуацию получше, когда буду говорить с ним. Такую, в которой меня самого не убьют.
Пифон издал долгий вздох.
– Хорошо, – сказал он, – какую, например?
– Вот смотри, – сказал я, склоняясь вперед. – Когда он будет вручать мне венок, я шепну, что должен увидеть его наедине. Срочно.
– И у тебя готово какое-нибудь объяснение? Или ты полагаешься на свой золотой язык?
Я собрался с мыслями.
– Я скажу ему, что знаю все о заговоре против него, – сказал я. – Тут он не устоит. Про такое он готов слушать всегда. Он же постоянно выдумает заговоры и комплоты.
– Ты имеешь в виду – вроде нашего?
Я пропустил это мимо ушей.
– Затем, – сказал я, – когда он окажется с нами один, без охраны, адъютантов и тусовщиков, без свидетелей... Вот так надо делать дела, если по уму. Тщательное планирование. Сперва все продумать. А не так, как те психи, которые грохнули царя Филиппа.
Пифон помолчал.
– Хорошо, – согласился он наконец. – Логично. Ну что же, действуй на свое усмотрение. И удачи. Она тебе понадобится.
– Ненавижу, когда люди это говорят.
Никогда не любил полировать доспех: берешь песок, масло и пучок ветоши и трешь, трешь, трешь, пока не заломит запястья. Все это совершенно бессмысленно. Бронза от природы обладает глубоким, насыщенным коричневым цветом, как бульон из бычьих хвостов, и ничего золотого и сверкающего в ней нет. Патина – это естественная защита от яри-медянки и коррозии, единственное, что стоит между металлом и злобствующими стихиями.
Тем не менее я полировал нагрудник и все остальное, пока не стал выглядеть как эти богатенькие детки-солдатики с пятью рабами.
Не знаю, зачем я это делал; возможно, я думал, что Александр с большей вероятностью поверит образцовому солдату, нежели раздолбаю, или просто хотел занять себя в ожидании встречи.
Не первый раз я оказывался в лицом к лицу с Самим... ну да ты знаешь это, я тебе уже рассказывал. Но едва я просунул голову в шатер, то сразу понял – что-то изменилось самым серьезным образом.
Прежде всего, шатер был практически пуст. Помню, в предыдущий раз я думал – ну что за бардак: куда ни глянь, громоздится всякий хлам, собранный им за время его великого похода – например, щит Ахилла, отжатый у жрецов в Трое, измочаленные концы гордиева узла, мечи могучих персидских воинов, убитых им в поединках, редкостная, драгоценная посуда, подаренная царями и наместниками, реликвии (до них он был большой охотник; челюсти гигантов, настоящий драконий зуб в маленьком горшке, зубочистка Геракла, левая сандалия Персея, обрезки ногтей Тезея, словом, все что жуликам удалось всучить Александру Македонскому). Сейчас здесь не было ничего, кроме кровати, большого деревянного ящика размером с гроб и единственного складного стула армейского образца.
И, конечно же, Самого. Он сидел на кровати с приоткрытым ртом, бессмысленно глядя в пространство. Он просидел так столько, что я успел досчитать про себя до сорока.
– Эвдемон, – произнес он наконец, не поворачивая головы. – Брат Эвксена. Входи, садись.
Тебе знакомо чувство, когда ты понимаешь, что все самым ужасным образом не так? У меня было это чувство. О, помнишь старика, который жил около Ахарны, к которому мы как-то забрели, когда заблудились? Ну конечно, помнишь; он выглядел совершенно нормальным, пока не выволок из-под кровати бревно, которое оказалось трупом его жены. Думаю, ты не забыл, как он пытался представить нас друг другу, будто она живехонька. Ну так вот, у меня было такое же чувство: я-хочу-сейчас-же-убраться-отсюда. Не могу сказать, почему оно возникло; может быть, просто от вида того деревянного ящика пробудились старые воспоминания. Одни боги знают, что он в нем держал. Может, чистую одежду.
Что ж, я уселся, примостился на складной стул, как голубь на сучок, и стал ждать. Он все так же таращился в пустоту. Так прошло довольно много времени, пока тот, кто меня ввел – не помню, кто это был, кто-то из внутреннего круга – не прокашлялся и не сказал:
– Александр.
– Да, я знаю, – ответил он, не отрывая взгляда от воздуха. – Хорошо, ты свободен.
Я заметил, что этот человек не хотел уходить, но не посмел ослушаться приказа.
Мгновением позже в шатре остались только мы с Александром. Буду честен с тобой, Эвксен, я был напуган. Ну, ты знаешь, я никогда не любил страшилки.
– Мне сообщили, ты совершил великое благо, – сказал он. – Спас жизни своих соратников. Это хорошо.
Я молчал. Не похоже было, что он ждал от меня ответа. Я сидел и молчал.
– Это приятное чувство, – продолжал он. – Думаю, я должен что-нибудь тебе подарить.
Он повернул голову и посмотрел мне прямо в глаза.
– Думаешь, он знал? – спросил он.
– Господин?
– О, не обращай внимания. Полагаю, знал. Такой человек, как он, должен был это предвидеть. Неважно. Ты очень удачлив, знаешь ли. Нам обоим очень повезло, что мы знали его. И все же он мог бы упомянуть об этом. Если только он намеренно не сделал этого, конечно. – Он улыбнулся этой мысли. – Привыкание оказалось для меня трудным, понимаешь. Если бы он хоть что-то сказал, дал бы мне хотя бы малейший намек, я бы справился лучше. Так или иначе, – сказал он, – хватит об этом. Где венок, который я должен на тебя возложить? – Он оглянулся вокруг. – Кажется, его здесь нет. Надеюсь, тебя не очень огорчит, если мы забудем про него? В конце концов, значение имеет намерение, ведь так?
Я деревянно кивнул. Я знал, что сейчас моя очередь говорить, произнести тщательно подготовленную речь о заговоре, но все, чего я хотел – это выбраться оттуда как можно скорее.
– Александр, – сказал я. – Я должен сообщить тебе кое-что. Это очень важно.
Он посмотрел на меня.
– Хорошо, – сказал он. – Вперед.
Я отрепетированно оглянулся кругом.
– Я могу рассказать это только наедине.
– Мы одни, – указал он. – Давай же.
Помню, в детстве я однажды вскарабкался на старую яблоню в верхнем углу большого поля в Паллене. Там висело здоровенное яблоко, прямо на кончике длинной тонкой ветки, и я всем сердцем его возжелал. Я хорошо запомнил чувство чистейшего разочарования, охватившее меня, когда я обнаружил, что уже не сижу на дереве, а валяюсь под ним со сломанной веткой между ног и такой головой, как будто по ней саданули кузнечным молотом.
– Говори, – сказал он.
Я снова оглянулся. Наверное, пытался создать впечатление, что если на первый взгляд мы и одни, здесь все равно мог скрываться соглядатаи. Где именно они могли скрываться, одни боги ведают, поскольку шатер выглядел так, будто его только что вычистили судебные приставы.
– Заговор, не так ли? – сказал он. Меня как будто ударили изо всех сил в живот: я почувствовал тошноту, слабость, страх, не мог ни вздохнуть, ни двинуться. Просто сидел и все.
– Все в порядке, – продолжал он. – Я знаю. Я все о нем знаю.
И он улыбнулся.
– Ты знаешь, – повторил я.
– О да. Знаю уже некоторое время. На самом деле мне их жаль. Это так бессмысленно, да?
Он сказал «их», а не «вас». Я посмотрел на него. Его улыбка становилась все шире и шире, так что в ее сиянии стало можно сушить рыбу.
– Бедный Эвдемон, – сказал он. – У тебя такой встревоженный вид. Но в самом деле, тут не о чем тревожиться. Они не могут причинить мне вреда. Никто не может. Поэтому я ничего и не предпринимал. По крайней мере, – продолжал он, слегка нахмурившись, – до сих пор. Но я думал об этом, конечно.
– О, да? – сказал я.
Он кивнул.
– Даже неловко, – сказал он. – Я ведь должен знать ответ, но будто бы не могу мыслить ясно. С тех самых пор, как я узнал, это... ну, дезориентировало... думаю, можно назвать это так. Я чувствовал себя, как ребенок, внезапно оказавшийся в теле взрослого, мне требовалось время, чтобы привыкнуть. Нет, единственное, чего я не могу решить – должен ли я что-то предпринять на этот счет? Я хочу сказать, раз их глупый заговор никак не может увенчаться успехом – а он не может, мы оба знаем это... то должен ли я наказывать за него? Должен ли ты карать кого-то за попытку совершить что-то плохое, но при этом физически совершенно невозможное? – Он потер кончик носа костяшкой большого пальца... проклятье, брат, он подхватил этот жест от тебя. Меня все изводило ощущение, где же я мог видеть его раньше?
– Полагаю, я должен, – продолжал он. – То есть, отец всегда так поступал. Он карал богохульников, клятвопреступников и тех, кто осквернял Его храмы. Если так делал мой отец, думаю, я тоже должен; ради них самих, разумеется, не ради меня, потому что если я откажусь, откуда в них возьмется вера? Не знаю, просто это кажется таким необязательным. Таким мелким, если ты понимаешь, о чем я.
Я кивнул.
– Значит, ты знаешь о заговоре, да? – спросил я.
– Конечно, знаю. Всегда знал. – Он ухмыльнулся. – Полагаю, когда люди теряют память от удара по голове, а потом она начинает потихоньку к ним возвращаться, то испытывают похожие чувства. Да, это хорошая аналогия; все, что я знал всегда, понемногу ко мне возвращается. И это много объясняет; например, откуда я всегда точно знал, что мне следует делать в битве, не зная притом – почему. – Он нахмурился. – А ведь верно. Раз я... ну, то что я есть, есть ли какой-то смысл в продолжении войны, как ты считаешь? В смысле, ведь это нечестно. Они никак не могу победить, верно?
Я понял, что не дышу уже довольно давно.
– Э... нет, – сказал я. – Конечно, нет.
– Может быть, в таком случае мне надо остановиться, – сказал он. – Но только я помню определенно больше битв, чем мы уже вели, помню те, которых еще не было. Одна произойдет совсем скоро, едва мы перейдем Тигр. Я ведь не помнил бы битвы, если бы ее можно было избежать? Я помню множество самый странных вещей, знаешь ли. Я помню даже, как умирал, и это действительно странное ощущение, позволь заметить.
– Да уж наверное, – сказал я.
Он вздохнул и покачал головой.
– В том и проблема, – сказал он. – Я бреду вслепую, не имея ни малейшего представления, что делать, и некого спросить, что самое неприятное. Ты, может быть, думал, отец мог бы сказать мне сам или прислать кого-нибудь. Но, возможно, в том и смысл, чтобы разобраться самому. Быть таким очень одиноко, знаешь. Я никогда не был одинок, и не уверен, что мне это нравится. И столько всего я еще не понимаю. Однако, это мои проблемы. Рад был поговорить с тобой. Это почти то же самое, что говорить с твоим братом. Нам надо чаще встречаться.








