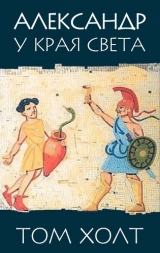
Текст книги "Александр у края света"
Автор книги: Том Холт
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 33 страниц)
Александр у края света
Глава первая
Глава вторая
Глава третья
Глава четвертая
Глава пятая
Глава шестая
Глава седьмая
Глава восьмая
Глава девятая
Глава десятая
Глава одиннадцатая
Глава двенадцатая
Глава тринадцатая
Глава четырнадцатая
Глава пятнадцатая
Глава шестнадцатая
Глава семнадцатая
Глава восемнадцатая
Глава девятнадцатая
Глава двадцатая
Глава двадцать первая
Глава двадцать вторая
Глава двадцать третья
Александр у края света
Геродот из Галикарнаса собрал и записал эти сведения, чтобы прошедшие события с течением времени не пришли в забвение и великие и удивления достойные деяния, как эллинов, так и варваров не остались в безвестности… Геродот
Давайте начнем с того, что обратимся к правде, чтобы видеть все в истинном свете и называть вещи своими именами, чтобы доискиваться правды, говорить правду и жить по правде. Таков будет образ наших действий. Ричард М. Никсон
Глава первая
Записано в Александрии У Края Света, что в Согдиане, в двадцать третьем году от основания города и на семьдесят третьем году жизни Эвксеном, сыном Эвтихида из демы Паллена.
Подумай об Александре, подумай обо мне. Мы оба шли от рождения к смерти, но разными путями; мой увел меня прочь с торной дороги глупости в маленькую деревеньку у самой границы мудрости.
В молодые годы я верил в демократию. Став немного старше, я поверил в олигархию – правление просвещенных; потом в монархию, власть царя-философа. Теперь я верю только в канализацию, общественную санитарию и чистую воду.
Да уж, я зашел куда дальше Александра.
– Отец мой любил повторять, – сказал я тебе как-то, – что величайшее несчастье, какое может выпасть на долю человека – это похороны его сына. Он, без сомнения, цитировал одного из тех заплесневелых трагиков, с которыми дедушка Эвпол некоторое время бился на кулачках, но подобные взгляды весьма распространены. Отец, человек исключительно удачливый, не смог проверить истинность этого утверждения на себе. Это обстоятельство для нас, семи его сыновей, имело катастрофические последствия.
Ты, мой юный друг, выглядел озадаченным.
– Прошу прощения, – сказал ты. – Не совсем понимаю тебя. Каким образом смерть кого-нибудь из вас могла оказаться благом?
Я уверен, Фризевт, ты помнишь тот разговор. Мы стояли в тени надвратной башни и наблюдали за возведением подмостей вокруг будущей цистерны для дождевой воды – первой из них – свидетельство тому, как давно это было. Припоминаю, в тот день даже в тени пекло, как в кузнице. Признаюсь, я пребывал в обычном для меня разговорчивом настроении. Как всегда в таких случаях, я говорил о себе. Большую часть моих излияний ты, вероятно, пропускал мимо ушей.
– В течение моей исключительно долгой жизни, – объяснил я, – я имел все возможности изучить судьбу – примерно как трехногий кот изучает привычки мышей – и уверен, что разобрался с принципами ее проявления. Для примера возьмем историю нескольких поколений моей семьи. Она прекрасно иллюстрирует мою теорию. Ты, если хочешь, можешь вести счет.
– Прошу прощения? – переспросил ты.
– Счет. Сочти случаи удачи и случаи неудачи и скажи мне, каких больше.
– Ладно, – сказал ты.
– Что ж, начнем. Итак, по порядку. Мой прадед (который умер задолго до моего рождения) был человеком самого ничтожного сорта, прожившим лишенную событий жизнь в Паллене, городе приятном, но не сравнимом со славными Афинами…
– Афины, – повторил ты. – В Греции, правильно?
– В Греции, – подтвердил я. – В те дни Афины обладали величайшим могуществом в Греции: единственный город в мире, управляемый демократически, родина величайших поэтов, художников, философов, ученых и прочих.
– Ах, да, – сказал ты. – Ты уже рассказывал.
В те дни, конечно, мы еще толком не знали друг другу.
– Так или иначе, – сказал я, – он пахал землю, голосовал в Собрании, когда мог выделить на это время, ходил на празднества, растил детей, распоряжался своей жизнью более или менее разумно и, надо полагать, отправился в могилу, недоумевая, когда же начнется самое интересное. Он был не слишком богат, не слишком беден, не слишком прославлен, не слишком ославлен, и хотя умер он на военной службе, где оказался на ранних стадиях Великой Пелопоннесской войны со Спартой, я не думаю, что это принесло ему пользу; полагаю, он скромно скончался от дизентерии, выпив дурной воды, а не пал картинно на поле битве под звон мечей. Он был, как ни посмотри, удачливым человеком, хотя удачливость его заключалась единственно в том, что на его долю не досталось никаких подарков фортуны – счастливых или несчастливых.
– Я опять потерял ход твоей мысли, – сказал ты.
– Да? Прошу прощения. Поймаешь по ходу рассказа, я полагаю. Итак, – продолжал я. – Мой дед Эвпол, с другой стороны, был куда большим баловнем судьбы. Он пережил чуму, стершую с лица земли большую часть населения Афин…
– Удача, – сказал ты, загибая палец на правой руке.
– В общем, да, – сказал я, – если не считать того, что болезнь изуродовала его на всю жизнь.
– Неудача, – сказал ты твердо, загибая палец на левой руке.
– Далее, – продолжал я, – благодаря эпидемии он унаследовал изрядное количество недвижимости, поскольку один из всей семьи выжил…
– Удача, – сказал ты и тут же добавил, – Как мне кажется.
– Но он лишился семьи, будучи еще отроком...
Ты сочувственно нахмурился. Конечно, тогда я еще ничего не знал об истории твоей семьи.
– Неудача, – сказал ты.
– ... и его угораздило вступить в чудовищно несчастливый брак...
Ты кивнул.
– И опять неудача, – сказал ты.
Я улыбнулся.
– Вскоре после этого, – сказал я, отгоняя особенно назойливую муху, – он принял участие в злосчастной экспедиции афинян на Сицилию, в ходе которой вся их армия была вырезана...
– И снова неудача, – заметил ты. – Скоро у меня кончатся пальцы.
– Вся их армия, – повторил я, – за исключением его...
– А! – сказал ты радостно. – Наконец удача.
– За исключением его самого и его смертельного врага...
– О. Иными словами, это все-таки опять неудача, не так ли?
– Именно так. Достойный муж любит друзей и ненавидит врагов.
После целой череды невероятных приключений – целого града подарков судьбы, добрых и злых, в целом напоминающих кучу хлама, остающегося после публичных торгов – он сумел вернуться в Афины (удача) только для того, чтобы подпасть под обвинение в святотатстве и измене, был предан суду и едва-едва избежал смертного приговора.
– Удача? – с надеждой предположил ты.
Я кивнул.
– Можно сказать и так, – ответил я, – хотя из того, что мне известно, уместнее говорить о чистом везении. После этого, – продолжал я, – он сделал заметную карьеру сочинителя, опубликовав наконец комедию, которую не успел в свое время закончить из-за войны. Он жил достаточно долго, чтобы стать свидетелем падения великой афинской демократии (неудача), которую он ненавидел по самым веским причинам (стало быть, все-таки удача), пережить лживую и сварливую жену (удача), которую он страстно любил (неудача) и умереть в преклонные годы (удача), подавившись рыбной костью (неудача); после него остался один сын, мой отец Эвтихид.
– Извини, – сказал ты. – Я потерял счет уже некоторое время назад, но думаю, можно говорить о ничьей.
Я пожал плечами.
– По-гречески, – объяснил я, – Эвтихид значит «сын удачливого человека». У деда было много недостатков, но недостаток иронии к ним не относится.
Ты улыбнулся, протянул мне кувшин с водой и рассмеялся.
– Что смешного? – спросил я.
– Ничего, – ответил ты. – Попей. В такую жару надо много пить.
– Не уходи от ответа, – настаивал я. – Скажи мне, что такого смешного я сказал. Обычно, когда я шучу, ты только смотришь на меня с глупым видом.
– Ну ладно, – сказал ты. – Хотя это не смешно, а так – любопытно, скажем. Мне показалось, – продолжал ты, – что дед твой обладал удачливостью так же, как мы владеем крысами, живущими в наших амбарах.
Пока не забыл, я должен, наверное, объяснить, почему я записываю свою историю не по-гречески. Мне следовало писать по-гречески, я знаю. В конце концов, греческий нынче – язык всего цивилизованного мира, в то время как этот варварский скифо-согдийский говор (столь смутный, что даже названия собственного не имеет) никогда ранее не использовался для письма и скорее всего, не будет использоваться никогда в будущем; об этом свидетельствует тот факт, что я пользуюсь греческим алфавитом – несмотря на то, что более чем для половины причудливых звуков, издаваемых этим народом (извини – твоим народом), не подобрать греческих букв. Если мое решение на чем и основано, то только на том, что я больше не желаю быть афинянином в частности и греком вообще. В таком случае, спросишь ты, зачем я вообще занимаюсь делом столь бессмысленным и столь греческим, как написание книги – как выражаются мои соседи, «разговорами с самим собой при помощи палочки и овечьей кожи» – которую никто не захочет и не сможет прочесть?
Хотел бы я сам это знать, будет мой немедленный ответ. Честное слово, хотел бы. Извиняет меня, однако, то, что те из нас, кому выпало стать свидетелем событий исключительной важности, обязаны описать увиденное во благо еще нерожденных поколений, чтобы деяния великих мужей не оказались окончательно забыты, а ошибки прошлого не повторялись по невежеству в будущем. Ну или вроде того.
Итак, о чем бишь я? Ах да, мой отец и судьба.
У нас с тобой состоялась на эту тему еще одна беседа, Фризевт (если тебя вообще так зовут; звучит вовсе не как имя, а будто собака блюет, однако ничего лучшего с помощью греческих букв мне добиться не удалось), месяц или два назад, если помнишь; и поскольку ты, по всей вероятности, будешь единственным читателем этой книги, я не могу взять в толк, зачем мне вообще тратить силы на ее изложение. Тем не менее, как мне помнится, по ходу этого разговора я сделал несколько блестящих наблюдений и вообще выражал свои мысли необычайно ясно, сжато и остроумно; в любом случае, большую часть времени ты наблюдал за жуком, карабкающимся по косяку двери и не уделял моей речи того внимания, которого она была достойна, поэтому она приводится здесь, чтобы ты мог ее прочесть и усвоить к собственной пользе.
– Мой отец, – сказал я, пока мы наблюдали за рытьем глубокой траншеи для главной сточной канавы, на сооружении которой я настоял (весьма любезно со стороны твоих соплеменников, что они сподобились уважить старика), – был человеком простоватым: весь из чистой бронзы безо всяких примесей. Он никогда не носил тонкой серебряной рубашки, притворяясь драхмой.
Ты повернул голову и посмотрел на меня. – Что это – «драхма»? – спросил ты.
– Афинская монета, – ответил я. – Их чеканили из чистого серебра, однако к концу Войны мы так обеднели, что стали делать их из бронзы и покрывать серебром. Это никого не обмануло.
– А, – сказал ты. – Так это мы о деньгах говорим, да?
– Верно, – сказал я, кивая.
– О маленьких круглых металлических пуговицах, на одной стороне у которых лошадь, а на другой – Александр.
(Ты, конечно, не сказал «Александр»; ты не способен правильно произнести это имя, бедный дикарь. Ты сказал что-то вроде «Згунда». Впрочем, я знал, о ком ты говоришь).
– Именно, – ответил я довольно сварливым тоном. – За исключением того, что в те дни никакого Александра на них не было – на них чеканили образ Афины, богини мудрости и бессмертной покровительницы города.
– Понимаю, – ответил ты с излишним, на мой взгляд, самомнением. – Афина – подательница мудрости, и вы, афиняне, особенно ее почитаете.
– Именно так.
– Почему?
Ох уж эта твоя раздражающая привычка задавать трудные вопросы. Трудные, конечно, не в том смысле, как шестнадцать умножить на четыре минус шесть, деленное на три; уместнее говорить о неловких усилиях, которые прилагаешь, пытаясь растолковать нечто совершенно очевидное такой интеллектуально ограниченной личности, как ты.
– Ну, – сказал я, – потому что мы, афиняне, ставим мудрость превыше всех добродетелей.
– О! – ты выглядел озадаченным. – Странно.
Ты решил не расшифровывать это довольно загадочное замечание, а вместо этого спросил, хорошее это или плохое качество – простота.
Я секунду подумал.
– На самом деле ни то, ни другое, – сказал я. – Или и то, и другое сразу. Конечно, он был удачлив…
Ни с того ни с сего ты рассмеялся.
– Извини, – сказал ты. – Пожалуйста, продолжай.
– Ему повезло, – продолжал я, слегка раздосадованный тем, что меня прервали, – жить в необыкновенно мирный период афинской истории. Я сказал – мирный; что ж, он не был таковым. Мы увязли в мерзких маленьких войнах – мы против спартанцев…
– Погоди, – сказал ты. – Мне казалось, ты говорил, что война к тому времени была окончена.
Главная твоя проблема – в невнимательности.
– Да, Война с большой буквы окончилась. Это произошло, когда отцу было семнадцать. Войны со Спартой в его времена были просто войнами. Кроме того, мы воевали против персов, вместе с персами – против спартанцев, вместе с фиванцами – против спартанцами и вместе со спартанцами – против фиванцев…
– Почему? – спросил ты.
– Что? Потому что шла война, конечно.
– Да, но почему? Из-за чего была война?
У тебя был такой встревоженный вид, что смотреть на тебя было почти смешно.
– Ход ее был, должно быть, весьма запутанным, раз ваши враги становились вашими друзьями и наоборот.
Я нахмурился.
– Не помню, – сказал я. – В основном, я думаю, речь шла о том, кто какими городами владеет. Городами различных империй, я имею в виду.
Ты кивнул; затем тебя озадачил другой вопрос.
– Значит, у Афин была империя? – спросил ты.
– В некотором смысле. Мы брали города под защиту, видишь ли. За исключением тех случаев, когда они восставали против нас.
– И тогда вы защищали их от самих себя?
– Примерно так. Видишь ли, спартанцы, фиванцы и персы забирали себе наши города, покушаясь на их свободу, и мы должны были этому препятствовать. Иногда наши города пытались передаться врагу, и этому мы тоже должны были препятствовать.
– Понимаю, – сказал ты, хотя, думаю я, ты лгал. – А защищали их вы потому, что были демократией.
– Правильно. Мы верили, что ни один человек не может быть выше другого.
– Ладно. И поэтому вы основали империю. Кажется, я уловил принцип. Но все эти войны, – продолжал ты, – должны были превратить твою жизнь и жизнь твоей семьи в сплошной кошмар.
Я улыбнулся и покачал головой.
– О нет, – сказал я, – они были совершенно непохожи на Войну. На самом деле это было очень хорошее время для афинян. У нас была демократия – спартанцы сокрушили ее в конце Войны, но когда мы изгнали Тридцать Тиранов…
– То есть они были спартанцами.
– Нет, – сказал я терпеливо. – Они были афинянами. В общем, избавившись от них, мы принялись воссоздавать свою империю, и в город потекли деньги – собираемая с входящих в нее городов дань; дела обстояли практически как во времена моего деда.
Ты на мгновение закрыл глаза.
– Ты хочешь сказать – как во время Войны?
– Ну, да. Но Война – это же не беспрестанные сражения; случались большие перерывы, во время которых жилось не так уж плохо. Во времена же отца мы в самом деле процветали – благодаря принадлежащим городу серебряным копям. За несколько лет до моего рождения мы имели возможность платить людям только за то, что они сидели в Собрании, слушая дебаты.
Ты был весьма впечатлен этими сведениями – или так мне показалось.
– Ты имеешь в виду, никто не ходил на дебаты, если ему за это не платили? Я думал, Собрание – это место, где вы занимались демократией.
Я вздохнул.
– Вот почему на твое обучение уходит столько усилий, – сказал я. – Ты постоянно отклоняешься от темы. Сейчас, например, я говорю о том, что жизнь во времена моего отца, после Войны, была совсем неплоха. Ничего особенного не происходило, не то что во время Войны.
Когда я сказал это, ты посмотрел на меня странным взглядом – возможно, ты так и не смог ухватить мысль, которую я пытался до тебя донести. Может быть, поэтому я и записываю нашу беседу сейчас. Ты сможешь прочесть ее вдумчиво и внимательно и, наконец, постигнуть ее смысл.
– Ты говорил о своем отце, – сказал ты.
– Да, верно, – я тепло улыбнулся. – Он был человеком своего времени. Он заботился о своей собственности и семье, как и полагалось. И у него было семь сыновей.
– А, – сказал ты. – Кажется, ты уже говорил об этом раньше, когда мы беседовали об удаче. Ты, по-моему, считал это большой неудачей.
– Нет, – ответил я медленно, чтобы ты не потерял нить рассуждений. – Это была удача. Во всяком случае, для него. Большая семья – знак благоволения богов. Нет, если кто и оказался неудачниками – так это мы, после того, как он умер. Видишь ли, у нас на родине имущество умершего не переходит к его старшего сыну – оно поровну делится между всеми его сыновьями, поскольку так гораздо справедливее.
– А, – сказал ты. – Демократия.
Я рассмеялся.
– Можно выразиться и так, полагаю. Но в результате раздела собственности отца на семь частей каждый из нас получил не слишком много.
В сущности, никто из нас не смог бы прокормить и свинью. Понимаешь теперь, о чем я говорю? Отец был удачлив всю свою жизнь; но как только он умер, вся его неудачливость пала на нас. Прожить на доставшиеся нам средства было невозможно, поэтому нам пришлось оставить земледелие и искать другие занятия. Вот так, если без подробностей, я и оказался в Македонии, при царе Филиппе и царевиче Александре.
Правда во всей ее простоте такова, что мое детство было слишком приятным, чтобы запомниться. Нет, конечно же, тогда я не считал свою жизнь приятной. Большую часть времени я тратил на то, чтобы прятаться ото всех подряд: от шести старших братьев, которые пытались перевалить на меня свои обязанности по дому, от отца, от самого последнего учителя или наставника в долгой их череде. Я здорово навострился прятаться, но все же делал это недостаточно хорошо. Я познал основы стратегии – никогда не прятаться на деревьях, поскольку если тебя заметят там, бежать будет некуда; последнее место, где тебя будут искать – это место, только что обысканное; и так далее – и, конечно, я проводил много времени в упражнениях на свежем воздухе. Единственный урок, который я так и не смог усвоить, заключался в том, что тратить целый день, чтобы не делать утреннюю работу – глупо.
Простой торгашеский здравый смысл подсказывает, что не стоит тратить весь день, чтобы освободить утро; но ни один из курсов обучения, устроенных для меня отцом (он был фанатиком образования по причинам, о которых я расскажу позже) не включал в себя уроков простого здравого смысла. Как и многими другими вещами, я не смог овладеть этим предметом, пока не стал слишком стар, чтобы извлечь из него пользу.
Если задуматься, мой рассказ создает впечатление, будто неизбежный раздел отцовского состояния на семь ничтожных долей свалился на нас как гром среди ясного неба где-то между моментом его смерти и утром после похорон. Вовсе не так: еще будучи относительно молодым человеком и отцом всего лишь четырех сыновей, он был одержим этой мыслью настолько, что практически не думал ни о чем другом.
Она окрасила всю его жизнь, и он так яростно пытался найти хоть какое-то решение этой проблемы, что пренебрег великим множеством других, сделав ситуацию еще хуже.
Тут стоит упомянуть, что мы, греки (или по крайней мере афиняне – в те дни; я использую это магическое новое слово: «греки», как будто оно что-то означает, а оно не означает ничего. Кроме того, все, что мне известно о греках, не являющихся афинянами, можно записать на задней части черепка ржавым наконечником копья), исповедовали очень строгие взгляды на то, как достойный человек должен обеспечивать свое достояние. В целом, он должен его растить, или наблюдать за тем, как оно растет, пока другие мотыжат, сажают и подрезают. Идеалом являлся человек, унаследовавший от отца землю, которой хватает для выращивания пищи, способной обеспечить ему уважаемое место в обществе; мы разделяли людей на классы в соответствии с количеством мер, получаемых с их земли за год: столько-то мер – и ты можешь голосовать, столько-то – и ты можешь сражаться за свою страну, а если твой надел достаточно велик, чтобы давать пятьсот мер в год, то ты никоим образом не мог, как считали, съесть все это сам, не умерев от ожирения, и поэтому должен был передавать излишки на благо общества – снарядить военный корабль или профинансировать представление на одном из празднеств. Вот так и вышло, что афиняне прежних дней имели лучший флот в Греции, изобрели театр и никогда не страдали лишним весом.
Богатство позволяло переложить все полевые работы на плечи рабов. Самостоятельное возделывание полей считалось утомительным, но весьма почетным делом, и некоторые сказочно богатые личности (дедушка Эвпол, например), с большим удовольствием валяли дурака с мотыгой и серпом. Безусловно, это касалось только работы на собственной земле. Любой, кто работал на кого-то другого, считался ничем не лучше раба, даже если и был свободным человеком. Практически все ремесленники и мастера – кузнецы, плотники, горшечники, колесники и так далее – владели четырьмя-пятью акрами неухоженных виноградников, засаженных еще и ячменем и могли делать вид, что на самом деле они почтенные земледельцы, изготовляющие дверные петли и сандалии для собственного развлечения. Торговцы полагали себя фермерами, совершающими круизы в Египет или Италию, чтобы скоротать время между полевыми работами, когда на земле делать нечего, а чтобы покрыть издержки, они прихватывали с собой несколько амфор с вином, маслом или медом. Люди же, вовсе безземельные и неспособные даже прилечь, не оказавшись при этом на чужом наделе, не имели иного выбора, как признать, что они ни на что не годные отщепенцы и попытаться заработать на жизнь политикой.
Это занятие, по правде говоря, не было особенно трудным. С учетом ставок на посещения Собрания и выполнение обязанностей присяжного в суде (а мы были столь сутяжническим народом, что спрос на присяжных обычно превышал предложение очень значительно) человек мог хорошо питаться сам и кормить семью, просто посиживая на каменной скамье и день за днем наслаждаясь цветами афинского ораторского искусства (дисциплины, в которой по сию пору никто в мире не смог нас превзойти – угадай, почему) и выполняя свой гражданский долг. Если же этих средств оказывалось недостаточно, существовал третий способ заработка, предоставляемый Афинами своим самым незадачливым чадам, а именно три обола в день, которые город платил человеку, сидящему в трюме военного корабля и налегающему на весло. Поскольку именно эти военные корабли, курсирующие туда-сюда вдоль берегов наших верных островных союзников, оказывали на них моральное воздействие, облегчающее расставание с данью, которая затем шла на оплату присяжных и Собрания, этот третий вариант был необходим для обеспечения двух других; отсюда, я полагаю, все эти войны. В любом случае мы, афиняне, гордо возглашали всем, кто был готов слушать, что во всем мире есть только одно место, где человек может себя обеспечить, сидя на заднице и наслаждаясь мастерством профессиональных ораторов – Афины. Это великое достижение, причем такое, которое никто ни до, ни после почему-то даже не пытался повторить.
Понятно, что мне и моим братьям в любом случае не грозила голодная смерть. Жизнь, однако, несколько шире простого выживания; поэтому бедный мой отец довел себя почти до смерти, пытаясь измыслить схему, позволяющую всем его сыновьям жить достойно без необходимости слушать речи. Он был человек изобретательный, мой отец, надо отдать ему должное. Одним из способов преодоления имущественного ценза было владение мастерской или фабрикой. Именно им пользовались многие великие афиняне прошлого: Никий Стратег, Клеон Оратор, Гипербол и многие другие. Это было уважаемое занятие, при условии, что ты всего лишь владеешь зданием и рабами и не мараешь рук работой.
Поэтому отец принялся рыскать в поисках многообещающих предприятий, достойных инвестиций, рассчитывая, что со временем они станут достаточно успешными, чтобы составить для одного из сыновей его долю наследства. Увы, те предприятия, долю в которых отец мог позволить себе купить, были обречены на провал с самого начала. Навскидку я могу припомнить участие в разработке государственных серебряных копей (мы купили пай в обломке скалы в Лаврионе, в котором вообще не оказалось серебра); мастерскую по производству горнов (сколько, по твоему мнение, горнов может потребить в год город размером с Афины, ради всех богов?); сандальную лавку, которая получила бы контракт на поставку сандалий для крупного подразделения афинской армии, если бы это подразделение не было уничтожено фиванцами при Мантинее; угольные ямы на Лемносе, которые он купил незадолго до того, как остров был захвачен спартанцами и продал за стоимость поношенной шляпы как раз перед тем, как Афины отвоевали его назад... Если бы он просто сохранил деньги, поглощенные всеми этими бедствиями, положив их в храме, их хватило бы, чтобы купить по торговому кораблю троим из нас. В общем, благодаря благоразумию и прозорливости отца после его смерти нам не осталось ничего, кроме земли, скота и сельскохозяйственного инструмента; мы были вынуждены даже продать некоторых рабов, чтобы покрыть обязательства в совместном предприятии, профинансировавшем доставку наилучшей эвксинской древесины, корабль с которой налетел на скалу неподалеку от Византия.
Однако именно благодаря ему я получил образование; не уверен, впрочем, не оказались бы полезнее бурав, коловорот и набор стамесок. Еще в мои детские годы отец забрал себе в голову, что я вырасту умником, а ни один город в Греции не ценил ум больше Афин. К несчастью, производство ума в некотором смысле напоминает добычу серы или угля; само по себе дело, конечно, хорошее, но вот побочные продукты способны сделать необитаемыми всю прилегающую местность. Находиться в области действия афинского хитроумия было все равно что сидеть в смоле или селитре, а люди, подвизающиеся в этой индустрии – производстве законов, философии и политики, как будто между ними есть какая-то разница – обычно умирали молодыми. В свете этих соображений, невзирая на настойчивость отца, идея не вызвала у меня особого восторга; поэтому я продолжил совершенствоваться в искусстве убегать и прятаться.
Существовало три способа заработка, связанных с произнесением речей. Первым было старое доброе доносительство, хотя уже тогда оно начало выходить из моды. В общем и целом, доносчик занимался тем, что возбуждал дела против всех, кто подозревался в измене или причинении ущерба государству. Если ему удавалось довести дело до обвинительного приговора, он получал жирный кусок собственности осужденного, а все остальное поступало в казну и тратилось, например, на оплату присяжных. Хорошая, честная работа; однако по каким-то причинам на эту профессию легло клеймо позора и всегда существовал ненулевая вероятность, что как-нибудь темной ночью тебе перережут горло.
Сочинение речей было более социально-приемлемым делом, хотя и гораздо менее прибыльным. Мы, афиняне, люди терпимые; мы понимаем, что не каждый благословлен даром красноречия, и иногда не очень честно сводить в смертельном поединке медоточивого профессионального доносчика и слабоумного престарелого земледельца. Следовательно, ответчик должен иметь возможность нанять того, кто напишет для него речь.
Несколько более престижным занятием было обучение философии, с особым вниманием к этике, морали и искусству применения этих возвышенных концепций задом наперед во время публичных дебатов. Поскольку значительная доля тех, кто практиковал это искусство, были почтенными гражданами, изучавшими его и обучавшими ему скорее в качестве развлечения или по злобности нрава, нежели из соображений выгоды, отец решил, этот вариант наименее унизителен из трех имеющихся, и принялся подыскивать, кому бы отдать меня в ученики.
Коротко говоря, именно так я оказался связан с Диогеном, Брехливым Псом – возможно, самым несносным и отталкивающим типом, какого я когда-либо знал. У него не было ни единой оригинальной идеи, никаких подкупающих качеств, за исключением известного таланта к показной надоедливости и саморекламе, а также полного и совершенного отсутствия страха. Теперь он уже мертв, конечно; и будь я Гераклом, Тезеем или еще каким-нибудь героем из старинных историй и имей возможность спуститься в Аид и вывести назад одну-единственную душу, то это был бы Диоген.
Благие боги, тот день, когда отец взял меня на первую встречу с ним, я помню с потрясающей отчетливостью. Будучи моим отцом, он сконструировал хитроумную схему и всем сердцем поверил в нее, как в окончательное решение проблемы Эвксена, упустив из виду некое базовое обстоятельство, от которого зависел успех всего проекта, а именно – деньги. Беглая инспекция семейного бюджета заставила его решительно изменить выбор моего учителя. До этого момента отец оперировал такими критериями, как репутация, ценные связи, успех учеников и тому подобное. Теперь же все они свелись к одному: кто согласится взять меня за те деньги, которые могли быть на это выделены. Выбор сузился до единственного кандидата.
Это было как раз то время, когда Диоген разыгрывал свой знаменитый (возможно, печально знаменитый) аттракцион «жизнь в бочке». Он был призван низвергнуть безмозглый материализм, свойственный нам, обычным людям, посему Диоген отказался от всех удобств, оставив только самое необходимое – а именно перевернутый сосуд из-под масла с дырой в боку, через которую он вползал внутрь и выползал наружу. Горшок этот имел чрезвычайный успех у публики, которым он бесстыдно пользовался, перекатывая проклятую штуковину с одной гастрольной площадки на другую, стараясь оказаться поближе к большой, благожелательно настроенной толпе; он залезал в свой сосуд и зыркал из него дикими глазами, пока не собиралась аудитория достаточная, чтобы оправдать представление.
Разумеется, он никогда не ночевал в своем сосуде. Как только спектакль заканчивался, он пристраивал его куда-нибудь и прокрадывался в свой собственный уютный теплый дом или же (что случалось чаще) проводил время с той из преданных учениц, чей муж в данный момент отсутствовал в городе. Примечательно здесь то, что никто (кроме меня, конечно) даже не заподозрил его в жульничестве. Оглядываясь назад, я думаю, что всем так хотелось, чтобы он был искренним, что его таким безо всяких сомнений и сочли.
А если подумать, то практически все, что касается Брехливого Пса, было ложью, и ложью самого странного толка: он приложил массу усилий, чтобы казаться гораздо хуже, чем был на самом деле. Когда ему случалось помыться, причесаться и выпрямиться во весь рост (думаю, что одновременно он проделывал это не более пяти раз за всю жизнь), то он оказывался довольно высоким, хорошо сложенным и привлекательным мужчиной, хотя и несколько блеклым; при всем при этом он каким-то образом ухитрялся выглядеть костлявым уродливым карликом. Полагаю, он втирал сажу в кожу под глазами, чтобы они казались запавшими, а скрюченность его фигуры была шедевром актерского искусства, хотя, безусловно, доставляла ему немалые мучения. Как его официальный ученик, я мог наблюдать за ним в отсутствии посторонних, и слышал, с какими душераздирающими стонами он выпрямляет свою натруженную спину.








