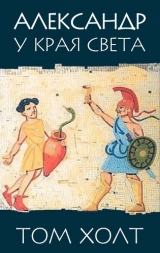
Текст книги "Александр у края света"
Автор книги: Том Холт
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 33 страниц)
– Почему ты лежишь на земле? – спросил кто-то.
Это была Феано. Она была последним человеком, которого я ожидал увидеть (ладно, услышать – я лежал лицом вниз и видел только ее ступни); она никогда не выходила в поля, поскольку женщины так не делают, точно так же как собаки не дерутся в переднем ряду фаланги.
– Спину повредил, – сказал я.
– Чего?
– Спину повредил, – повторил я.
– О. И как это тебе удалось?
– Грузил, – сказал я. – Слушай, не могла бы ты мне помочь?
– Ладно, – сказала она. – Что нужно делать?
Сперва от нее было больше вреда, чем пользы, однако через некоторое время мне удалось (между воплями) разъяснить ей технику обращения с надорвавшим спину человеком, и она кое-как смогла поднять меня и уложить на телегу, поверх прекрасной мягкой соломы.
– Что теперь? – спросила она.
– Правь домой, – сказал я.
– Ладно. И как это делается?
Ничто не проходит бесследно, говорят – опыт обучения юной македонской знати ямбическому пентаметру позволил мне худо-бедно растолковать Феано общепринятый способ управления телегой.
– Возьми вот эту длинную штуку, – сказал я. – Теперь залезай на телегу и врежь ею быку по заднице.
– Готово, – ответила она, когда телега внезапно скакнула вперед.
– Пожалуй, – добавил я, – можно было и полегче. Теперь: видишь эти кожаные ремни?
Она вздохнула.
– Я знаю, что такое вожжи, – сказал она. – Не нужно впадать…
– Хватай их, – сказал я. – Тяни левую, когда надо повернуть его влево, а правую, если...
– Да, я все это знаю. Что там насчет остановки?
Каким-то образом нам удалось добраться до дома; по счастливой случайности, Основатель Архестрат (который не заглядывал месяцев восемнадцать) выбрал этот вечер, чтобы навестить меня и устроить скандал по поводу цвета, в который выкрасили храм. Оглядываясь назад, смело можно сказать, что от трехного пса было бы больше проку, чем от него, однако трехногих псов днем с огнем не найдешь, когда они нужны; поэтому он помог Феано втащить меня внутрь, затем толкнул свою речь и удалился.
– Плохо дело, – сказала Феано, критическим взглядом рассматривая меня, растянувшегося в кресле. У меня было ощущение, что из-за моего присутствия комната выглядит неприбранной, но тут я ничего поделать не мог.
– Еще бы не плохо, – ответил я. – Кстати, где пацан?
– В другой комнате, – ответила она. – Или ты думаешь, что я засовываю его в шкаф, когда ухожу из дома?
– Извини, – сказал я. – Да нет, это катастрофа. Наше пропитание на весь следующий год валяется на земле кормом для грачей, и я не шиша не могу сделать, чтобы помешать ему сгнить.
– О, – сказала она. – И что ты ждешь от меня?
Я пожал плечами.
– Не знаю, – ответил я. – Впрочем, для начала можно собрать его и перевезти в амбар.
Она нахмурилась.
– Что, в одиночку? Ты, наверное, шутишь. Я намного попозже обойду твоих друзей, уж конечно они не откажутся помочь, когда узнают…
Я потряс головой, хотя это была неплохая идея.
– Сама подумай, – сказал я. – У них самих сейчас дел невпроворот, это же самое жаркое время в году. Может, получишь несколько обещаний помощи, но не думаю, что кто-нибудь из них на самом деле придет. Что вполне можно понять, – добавил я.
Она, кажется, не поверила мне и ушла. Через час или около того она вернулась в полной ярости.
– Хорошие же у тебя друзья, – сказала она.
Я вздохнул.
– Надеюсь, ты не нагрубила им?
– Я сказала им все, что думаю о людях, которые из эгоизма и лени позволяют урожаю своего друга сгнить...
– То есть да, нагрубила?
Она пожала плечами.
– Без таких друзей ты прекрасно обойдешься, – сказала она. – И что теперь?
Я лежал на чем-то (что впоследствии оказалось деревянной лошадкой, вырезанной мной для мальчика). Когда я попытался подвинуться, то почувствовал себя рыбой, которую потрошат заживо.
– Лежи спокойно, ради всех богов, – рявкнула Феано. – Никому не станет лучше от того, что ты корчишься, как червяк на крючке.
Я сдался и замер с вонзившейся в спину лошадиной мордой.
– Если они не станут помогать, а я не могу пошевелиться, что остается? – ласково спросил я.
– Ты хочешь, чтобы я это сделала, – сказала она.
– Да.
– Ладно, – сказала она.
И сделала.
Если быть точным, в первый день приехал Тирсений, который где-то с час наблюдал за ее работой, давая полезные советы; несколько человек смогли выкроить немного времени, чтобы придти и помочь. В основном, что любопытно, это были иллирийцы – люди, имен которых я не знал, а если б знал, не смог бы произнести. Позже я узнал, что они, как и царица Олимпиада, были благочестивыми змеепоклонниками, а слух о том, что у меня в кувшине сидит священная змея, все-таки успел распространиться... Неважно; они помогли, чем смогли, и в конце концов работа была сделана; я провалялся без движения десять дней, а делать хоть что-то полезное смог еще через три, занявшись веянием.
– Спасибо, – сказал я.
– Все нормально, – ответила она.
К этому моменту мы были женаты четыре года, и это были самые любезные слова, которые мы когда-либо говорили друг другу. После этого, впрочем, отношения между нами стали несколько полегче. В ее случае, думаю, роль в основном сыграли время и признание сложившегося порядка вещей – чем дальше оставались обиды, тем менее значимыми они казались. Что касается меня, то я не мог не испытать уважения к тому, как она справилась с кризисом, который оказался бы куда серьезнее, если бы не ее решительные действия. Мы понемногу начали разговаривать о том о сем, она стала проявлять больше интереса к работе на земле, а я обнаружил, что к ее мнению стоит прислушиваться. Часто она удивляла меня, быстро находя решение проблемы, заставлявшей меня безрезультатно ломать голову, или напоминая о простых вещах, которые я совершенно позабыл – как, например, перекрестная вспашка: один раз проходишь вверх-вниз, второй раз – от края к краю.
Когда плуг, который мы привезли с собой, развалился в конце сезона на части без всяких шансов на ремонт, она помогла мне сделать новый. Сперва мы обшарили лес и нашли молодой вяз нужной высоты и толщины, согнули его пополам и стянули веревкой, придав форму будущей рамы, и оставили так на месяц. Когда пришло время, мы подогнали к дуге рамы ясеневое дышло в восемь шагов длиной, с литыми отвалами и двойной перекладиной. Затем мы срезали молодую липу для ярма, она выстругала ивовую рукоять, и все это мы забросили на стропила, чтобы хорошенько прокоптить. Затем мы извлекли железный лемех из сломанного плуга, разогрели, чтобы он расширился, а затем охладили, чтобы вбить железо в деревянную подошву. Это была прекрасная работа, особенно когда она закончена, сказал я себе.
Были в моей жизни такие периоды, которые я как будто провел во сне.
Сон – вообще занятная штука, если подумать. Ты ложишься навзничь, закрываешь глаза, твой мозг все еще вибрирует от различных проблем и задумок – не забыть бы завтра починить треснувшую половую доску, пока кто-нибудь не поранился, зажило ли сухожилие у тяглового быка, надо бы замотать, почему проклятые скифы такие смирные и почему Тирсений так носится с этими семью амфорами негашеной извести? – и незаметно для тебя самого это скучное и непродуктивное время суток – ночь – уже закончилось, вокруг достаточно светло, чтобы можно было начинать с того места, где прервался накануне. Сон вырезает из нашей жизни эти никчемные периоды, чтобы мы не свихнулись, сидя без дела в темноте.
Что касается моей жизни, то с ней все было точно наоборот. Спал я в основном в хорошие, спокойные времена, а просыпался, когда что-то шло не так или под ногами возникала новая река говна, которую требовалось перейти вброд. Вот, например: десять лет я провел в Ольвии. Когда мы прибыли, мне было двадцать восемь лет, я находился, предположительно, в самом расцвете сил и способностей – достаточно взрослый, чтобы оставить позади неловкую, неискушенную юность, и достаточно крепкий, чтобы махать весь день мотыгой, а на следующее утро быть как огурчик.
Когда я в следующий раз открыл глаза, мне было тридцать шесть; я был почти совершенно лыс, в бороде моей появились серые пряди, спина и ноги гнулись уже не столь легко, суставы левой руки подергивало. У меня был сын десяти лет, уже достаточно взрослый, чтобы приносить пользу и недавно начавший делить со мной работу. Я начал узнавать его, хотя и не без разочарований; в те редкие моменты, когда я задумывался, кем может стать мой сын, я почему-то приходил к мнению, что он будет вроде меня – умеренно способный, одаренный живым умом и хорошо подвешенным языком. Однако пока я спал, он вырос копией моего брата Эвтифрона, идеального маленького землепашца, чьи интересы совершенно не выходили за границы наших тридцати акров.
За работой я пытался учить его тому-сему – поэзии, истории, философии, науке, даже (да простят меня боги) Гомеру. Он был вежливый мальчик и притворялся, что слушает, чтобы порадовать меня, но я видел, что его совершенно не интересуют вещи, не имеющие непосредственной практической ценности. Когда я рассказывал ему о далеких землях, что уж мне там удавалось припомнить из Ксенофонта и Геродота, он глядел вдаль и думал о работе или просто ни о чем, пребывая в том подобном трансу состоянии, которого может достичь только земледелец за работой. Только если мне случалось упомянуть, скажем, знаменитых египетских быков или невероятную плодородность илистой дельты Нила, он приходил в себя и действительно замечал, что я ему говорю – и даже тогда я видел, что он думает: ну и что? Об этом стоило бы знать, живи мы в Египте, но мы-то живем здесь, так кому какое дело до быков и ила?
Я пытался рассказать ему историю нашей семьи, о войнах, в которых участвовали наши предки; но он, конечно же, никогда не видел ни Афин, ни Аттики. Я поведал ему истории богов и героев, но он быстро пришел к заключению, что боги и герои – просто сборище богатых засранцев, ни дня в жизни не занимавшихся настоящим делом, и потому не стоящих внимания. Я изложил ему теорию Сократа о происхождении дождя, о том, как солнце вытягивает воду из моря и обрушивает ее на горы, откуда она возвращается по рекам к своему началу; это ненадолго его заняло, но вскоре он понял, что и тут нет ничего важного. В конце концов, кого волнует, почему дождь идет – лишь бы шел. Ладно бы я знал, как заставить дождь пойти или перестать, это было бы здорово – но я-то не знаю; забыли это. Что же до Гомера – ну, несколько отрывков ему удалось выучить, в основном те, в которых описывалась работа в поле. Они поразили его воображение как совершенно идиотские (с высоты его опыта) в смысле реального применения; мы умели гораздо больше, так зачем забивать себе голову очевидным бредом?
Совершенно незачем. Единственной поэмой, которую он выучил, были «Труды и дни», которую он целиком одобрил: даты вспашки, сева, подрезки и пикирования сеянцев, перечисленные легко запоминаемым гекзаметром – разве что архаичное произношение слегка раздражало его. Он погрузился в размышления, а затем заявил, что такие-то и такие-то строки можно изменить так-то и так-то, чтобы они зазвучали нормально, не потеряв информационной ценности, а даже кое-где и приобрели в ней, если заполнить пробелы, оставленные старым дураком; когда я попытался объяснить, что он вообще упустил смысл поэзии, он опять отключился, оставив меня болтать с самим собой, и больше в беседу не вступал.
– Может быть, стоит подыскать ему какое-то ремесло, – предложил я Феано как-то вечером. – Изучение ремесел расширяет сознание, а также может оказаться полезным впоследствии.
Она сухо рассмеялась.
– Например, как это было у тебя, ты хочешь сказать.
Я нахмурился.
– Ну ладно, – сказал я, – в моем случае все пошло не так, как планировалось. Но в результате-то я достиг желаемого результата. Если бы я не учился у Диогена, то зарабатывал бы на жизнь, голосуя в Собрании и питаясь сушеной рыбой да ячменной шелухой. Это мое ремесло привело меня сюда, неважно уж – как.
Она немного подумала, вдевая нить в иголку.
– Помнишь ту игру, которой ты пытался обучить меня – с костяными фишками и расчерченной доской?
– Шашки, – сказал я.
– Да-да, шашки, – она прищурилась и облизнула кончик нити. – Я запомнила только, что эти твои шашки, вместо того чтобы ходить по доске вперед и назад, передвигаются как бы вбок, через углы своих квадратов…
– По диагонали, – сказал я.
– Неважно. Ну так вот, ты прожил свою жизнь, как ходят шашки – ты двигался, но никогда прямо вперед, туда, куда хотел, всегда… как ты сказал, это называется?
– По диагонали.
– Что означает, – продолжала она, – что ты прошел куда как долгий путь, но это совсем не тот путь, который ты намеревался пройти. Разве не так?
Я помолчал мгновение и кивнул.
– Можно и так сказать, – ответил я. – Хотя ты все-таки немного подгоняешь факты под сравнение. Ну так что ты думаешь? Стоит нам найти кого-то, к кому он мог бы пойти в ученики?
– Я не уверена, – сказала она. – Это серьезное решение. И оно сильно зависит от того, кого ты имеешь в виду.
Я глубоко вдохнул.
– Мне пришло на ум, – сказал я, – что мы могли бы отправить его в Афины, где легко найти любого учителя. Он может отправиться с другом Тирсения, ты знаешь, с рыботорговцем…
Она посмотрела на меня так, будто я предложил запечь сына в горшочке с луком-пореем и, может быть, самой чуточкой майорана.
– Нет, – сказала она.
– Но подумай о преимуществах жизни в Афинах, которых ему никогда не добиться здесь, – сказал я. – Он мог бы жить в имении с Эвтифроном и Эвгеном и ходить в город учиться банковскому делу или медицине – у нас здесь самого завалящего доктора не найдется, он мог бы обеспечить себя…
– Он сможет обеспечить себя с наших тридцати акров, – ответила она сурово. – Что сверх этого ему может понадобиться?
Я помассировал шею сзади, там у меня все время сводило мышцы.
– Он столько всего потеряет, живя здесь, – сказал я. – Проклятье, он же вырастет как все остальные тут, которые даже и не совсем греки. Я что хочу сказать – если не считать языка и вкуса к оливковому жмыху, мы ничем не отличаемся от скифов, там, в деревне. Ведь он лишится все, что и означает быть греком…
– О, да? – сказала она. – Чего, например?
– Например...
Разумеется, я знал ответ: всех тех вещей, которым я пытался учить его, и о которых он не хотел и слышать. Тут я понял, что по какой-то причине Феано тоже не слишком высоко их ставит. Это меня изрядно потрясло.
– Ты хочешь, чтобы он стал как ты, – продолжала она тем спокойным тоном, который означала, что она находится на грани настоящей ярости. – Ты хочешь, чтобы он изучил все эти ваши мудрости – белое это черное, я прав, а ты нет – всю эту вредоносную чушь. Что такого неправильного в тихой честной жизни? Почему он обязан стать греком, а не просто человеком?
Несколько мгновений я в самом деле не мог понять, что она пытается мне сказать.
– Все, что мы знаем, – ответил я. – Наука, поэзия, философия…
– Все это бред собачий, – прервала меня Феано. – Эвксен, ты зарабатывал на жизнь, притворяясь, что волшебная змея предсказывает тебе будущее. Ты знал, что это бред собачий, иначе ничего бы у тебя не получилось. Чего такого важного в этом бреде, что ты хочешь заставить нашего сына отправиться в Афины и учиться ему?
Я покачал головой, пытаясь сдержать гнев.
– Я думал, ты понимаешь, – сказал я. – Уж за десять-то лет совместной жизни, думал я, ты могла бы начать понимать…
Мгновением позже я понял, что брякнул что-то действительно скверное. Сперва она даже не смогла ответить, только смотрела на меня...
– Ну же, – сказал я. – Разве не в этом смысл? Новое начало, совершенно новый город, возможность создать идеальное общество на основе греческих идей и всех преимуществ, которыми мы располагаем, но вдали от каменистой почвы и мертвых, голых гор…
К этому моменту она уже начала дышать через нос – верный признак пробуждающейся вулканической активности.
– Ах вот оно как, – сказала она. – Вот, значит, в чем смысл. У нас тут – как ты там это называешь? – научное исследование.
– В некотором роде.
– В том же роде, как разрезать трупы, чтобы посмотреть, как устроены кости. И что же произойдет, когда твое научное исследование будет закончено, Эвксен, и ты доложишь результаты кому уж вы их там докладываете – толпе старых афинских бездельников, рассиживающих в теньке? Что ты будешь делать потом, какой ты замыслил следующий эксприе… проклятье, как правильно?
– Эксперимент, – подсказал я.
– Спасибо, да, эксперимент. Не собираешься ли ты попробовать приделать себе пару крыльев или стянуть луну с неба в ведро? Или, может, ты думаешь найти еще одну глупую крестьянку, чтобы разрезать ее и посмотреть, как она работает?
Признаюсь честно, я не увидел в этом заявлении никакой логики, и по сию пору не вижу.
– Да брось ты, – сказал я успокаивающе, – ты слишком уж круто забираешь, сама подумай. С чего ты вообще взяла, что я собираюсь вернуться в Афины? Вообще когда-либо? Там у меня ничего не осталось.
Она уставилась на меня так, как будто хотела взглядом поджечь мне бороду.
– Тогда почему, во имя богов, ты постоянно талдычишь об этом ужасном городе? – сказала она. – И мне, и Эвполу, и вообще всякому, кому хватает терпения тебя слушать. В Афинах мы делаем так, в Афинах мы делаем эдак, в Афинах нам бы пришлось только попросить... и так далее и тому подобное.
Я потряс головой.
– Я же вырос в Афинах, – сказал я. – Там я выучился всему, что знаю. Поэтому когда я говорю, как делать то-то и то-то, я говорю о том, как я об этом узнал. Вот и все.
– Как бы не так, – рявкнула она. – Знаешь что, Эвксен? На самом ты деле вообще не здесь. Для тебя все здесь, как... как посольство, в которое тебя послали собрать и информацию и провести эсперик…
– Эксперимент.
– Ох, заткнись! Настоящий Эвксен по-прежнему в своей проклятой Академии с теми старикашками, а ты... ты... . – она зажмурилась, с чудовищными усилиями извлекая из памяти нужные слова, – аккредитованный наблюдатель, – сказала она с торжеством в голосе, – вроде учеников твоего приятеля Аристотеля, которых он посылает в другие города писать отчеты об их законах и управлении. И знаешь, что самое смешное, Эвксен? Ты изображаешь из себя философа и ученого, но это все ложь. Ты никогда не был философом, ты был мошенником. Ты никогда не водился с этими многоумными стариками, – продолжала она. – Ты крутился на рыночной площади, продавая змею в горшке. Только без змеи, – добавила она мстительно. – Да провалиться тебе. Можешь делать, что хочешь, но Эвпол не поедет в Афины и не станет учиться никакому ремеслу.
И с этими словами она умчалась в заднюю комнату и грохнула дверью.
Я слушал великих ораторов. Демосфена я знал лично. Но никто из них не смог бы впихнуть в двухчасовую речь и десятой части того комплекса значений и смыслов, который Феано могла вместить в один хлопок дверью. Даже удивительно, что петли выдержали.
Глава тринадцатая
Случаются дни, когда мир меняется. В промежутке между восходом и закатом происходит нечто такое, после чего он никогда уже не будет прежним. У меня всегда было подозрение, что если и случится в моей жизни такой день, то он наступит после отвратительной пьянки, которая продлится всю ночь и наградит меня таким жестоким похмельем, что я проведу весь этот день в постели, проспав великое событие, изменившее мир, и впоследствии должен буду полагаться на чужие рассказы.
Ну что ж, в данном случае дурное мнение о себе самом для разнообразия не оправдалось. На седьмой день месяца метагитнион десятого года моего пребывания в Ольвии, в краткое затишье между сбором урожая и лихорадочным временем обмолота, я находился на нашей новенькой дамбе, помогая загрузить тридцать семь амфор моей пшеницы на борт корабля, уходящего в Афины. Это было начало торгового сезона – море относительно спокойно и предсказуемо, никаких особых дел на ближайшие пять-шесть недель, что подталкивает предприимчивого человека к поиску интересных возможностей вдали от дома как лично, так и через посредничество своих товаров. До сей поры у меня никогда не образовывалось тридцать семь лишних амофор зерна, и настроение у меня было самое светлое и радостное. Мне почти захотелось отправиться вместе с ними, повидать Афины, может быть, встретиться с братьями, узнать, как у них дела, познакомиться с новой порослью родственников, пройтись по знакомым полям и похвастаться, насколько они лучше у нас в Ольвии...
Однако этот план предусматривал плавание на корабле, а мне всегда было не по себе на этих проклятых хреновинах (это мне-то, афинянину! Какой позор!), поэтому я подавил этот непрошеный импульс и пошел домой.
Было раннее утро, примерно тот час, когда люди выходят из города, направляясь в поля. Это радостный час; ты видишь сбившихся в группы соседей, движущихся в одном направлении и болтающих о прекрасных перспективах (они всегда прекрасны по дороге туда, и мрачны на обратном пути), к беседе присоединяются другие люди, а затем сталкиваются с группами из другой части города, бредущими той же дорогой. Тут границы беседы раздвигаются, чтобы вместить все возможные темы, какие только могут придти к ним в голову, включая комедии с Ленайи прошлого года, цены на гвозди и политическую ситуацию во Фракии… и не имеет значения, что никто из них понятия не имел об этих вещах – афиняне никогда не позволяли низменной фактографии встать на пути хорошо обоснованного мнения.
На седьмой день мегагитниона десятого года от основания города, как бы этот город не назывался на этой неделе, я оказался в составе весьма разнородной группы горожан, идущих на свои поля. Впрочем, для нашего города это была совершенно типичная смесь. Тут были два македонца, Птолемократ и Аминта, чьи участки примыкали к моему; коринфянин по имели Периклид с другой стороны долины, с которым мы были шапочно знакомы; милетец Фрасилл, довольно хорошо игравший на флейте, а также пять иллирийцев, чьих имен я не знал даже по прошествии десяти лет. Один из них прекрасно владел греческим и сообщил мне, что его зовут Илл; как и его товарищи, он шел на работу с колчаном на поясе и луком в чехле через левое плечо. В ответ на мое недоуменное замечание, он объяснил, что это главным образом привычка, вполне понятная для наемника с сорокалетним опытом, впервые отправившегося на войну в четырнадцать лет. Двое иллирийцев, а также Аминта и Периклид были с сыновьями, что добавляло к нашей группе еще пятерых членов в возрасте от шести до девяти. Все мы несли мотыги, а у Птолемократа и иллирийца по имени Басс или что-то вроде того были с собой лопаты. Было рано, с рассвета прошел всего час, и день обещал быть знойным и солнечным. У большинства были широкополые шляпы, за исключением Аминты и двух его мальчиков, которые красовались в войлочных шапках местного фасона.
Мы почти дошли до места, где Фрасиллу и Бассу-иллирийцу надо было сворачивать с общей дороги, когда один из мальчиков вдруг остановился и уставился на горизонт, словно увидев там нечто совершенно удивительное.
Вышло так, что его отец, иллириец, чуть раньше расхвастался поразительной зоркостью своего сына, и Птолемократ, скептически воспринявший это заявление, решил поставить эксперимент и попросил мальчика описать, что он видит.
– Всадников, – ответил тот.
Птолемократ нахмурился.
– Где? – спросил он. – Я ничего не вижу.
– Вон там, – кивком показал мальчик. – Вон, смотри, солнце на чем-то сверкает.
– Он прав, – вмешался я. – Я только что видел какую-то вспышку.
Птолемократ был впечатлен.
– Будь я проклят, – сказал он. – Я верю, что он прав. Мне и самому показалось, что я что-то вижу, но всадников я не разглядел.
К этому моменту мы уже все остановились и принялись всматриваться.
– Я вижу пару точек, – сказал Илл. – И сдается мне, что они движутся слишком быстро для пеших, а поскольку на них какой-то металл, это не могут быть быки или олени. Так что парень прав. Но он он не мог разглядеть ничего, кроме пары бликов, так что остальное он домыслил. – Нет, мог, – ответил мальчик. – Они все в желтом, так что я думаю, это скифы.
(Местные действительно предпочитали желтое, почему – понятия не имею. Дело, вероятно в какой-то траве или цветах, растущих тут повсюду и дающих превосходную краску для шерсти).
– Ты уверен? – спросил я.
– Конечно, уверен, – ответил он.
– Хорошо, – сказал я. – И сколько же их, по твоему мнению?
Парень кивнул и забормотал, считая себе под нос.
– Четырнадцать, – сказал он.
Это меня насторожило.
– Ты уверен? – повторил я, понимая, что произвожу полное впечатление помеси идиота с деревом. Мальчик не стал тратить на меня слов и просто кивнул.
– Охотятся, я думаю, – заметил кто-то.
Илл покачал головой.
– Не в это время года, – ответил он. – Не на что сейчас охотиться. Может быть, ищут отбившийся скот, но почему их так много?
Исключив из мысленного списка, который был у всех на уме, два или три пункта с конца, мы остались лицом к лицу с вариантом номер один, который не слишком нам понравился.
– Военный отряд, – сказал наконец Аминта. – Может, угоняют скот у своих друзей из верхней части долины?
– Я так не думаю, – сказал мальчик. – На самом деле они скачут сюда.
– Ты уверен?
– Да конечно же уверен, – обиженно воскликнул он. – Почему вы меня все время спрашиваете?
– Уймись, – приказал его отец. – Попробуй определить поточнее, куда они направляются.
Мальчик вскарабкался на приземистый ясень.
– Прямо сюда, вроде, – сообщил он сверху.
– Ты уверен? Ну, то есть, они не к городу скачут?
– Нет, – ответил мальчик. – Не думаю.
Ох, подумал я. Я рассчитывал, что это может быть посольство с эскортом, но направление их движения опровергало эту теорию. Мы расходовали успокаивающие объяснения, как голодающая семья, подъедающая посевное зерно.
– Наверное, ты не можешь рассмотреть, вооружены ли они, – сказал я.
– Не с такого расстояния, – ответил мальчик. – У большинства из них какие-то штуки, которые блестят на солнце, но чтобы точно сказать, что это, они должны подъехать поближе.
Некоторое время мы стояли в молчании и ждали, когда он сможет сообщить нам дополнительные подробности. Было совершенно очевидно, о чем мы все думаем.
– Может, нам не стоит вот так вот торчать здесь, на открытом месте, – нервно сказал Периклид-коринфянин. – Ну, – добавил он, – если это военный отряд и он направляется сюда…
Он озвучил то, о чем мы все думали; проблема заключалась в том, что мы стояли посреди открытой, плоской равнины, просматриваемой до горизонта. Спрятаться было негде.
– Слушайте, – подал голос мальчик, – там еще какие-то люди только что показались из впадины.
– Скифы? – спросил я. – Или тебе не видно?
– Они идут пешком, – сказал он. – Я думаю, это наши.
У меня появилось дурное предчувствие, и не только у меня одного.
– Сможем мы предупредить их, как вы думаете? – спросил кто-то.
– Нет смысла, – ответил Илл. – Если мы видим скифов, то и они тоже. Может быть, даже, скифы еще не увидели нас. В таком случае, чем дольше это продлится, тем лучше.
Я немного подумал.
– Лучшее, что мы можем сделать, это сидеть тихо, – сказал я. – Положите инструменты и вообще все, что блестит, а затем станем под дерево.
Все так и сделали.
– Они увидели тех пеших, – объявил мальчик. – Точно увидели их – они сменили курс и скачут к ним.
– Что делают наши? – спросил Фрасилл. – Можешь разобрать?
– Просто стоят на месте, вроде, – ответил мальчик.
– Как будто им есть, куда бежать, – добавил кто-то безо всякой нужды; то же самое можно было сказать и о нас. Я пожалел, что я не иллириец, который прихватывает с собой лук, даже направляясь посрать в соседний лесок. У меня была мотыга, конечно; а получить такой мотыгой по башке тоже не подарок. Но скифы пользуются луками, пуская стрелы с большого расстояния, а потом налетают с копьями и саблями, чтобы добить выживших. Меня начало подташнивать.
– Есть идеи? – нервно спросил Аминта.
Никто не ответил.
– Теперь они совсем рядом с нашими, – чуть позже сообщил мальчик. – Они перешли на галоп и атакуют. Не могу рассмотреть... кажется, они собираются объехать их по дуге.
– Что, намереваются оставить их в покое? – спросил Фрасилл.
– Нет, – ответил мальчик.
К тому моменту мы и сами все видели прекрасно, но мальчик продолжал комментировать происходящее, как некоторые зрители на Играх. Как ни странно, в это мгновение я подумал об Александре; кем бы ты хотел быть, спросил я его – чемпионом Олимпийских Игр или маленьким толстячком со свитком, выкликающим имена победителей?
Дальше события развивались так. Скифы проскакали вокруг горожан – тех было пятеро или около того – и выпустили стрелы, убив двоих. Затем они бросились прямо на них. Один человек остался стоять неподвижно и был зарублен. Другие двое успели немного пробежать. Скифы оставили их там, где они упали и направились к нам.
– Вы это видели? – спросил Фрасилл. – Они просто…
– Ладно, – мне удалось взять себя в руки, хотя это было нелегко. Видишь ли, до сих пор мне не приходилось видеть убийства воочию. – Довольно болтать. Илл, ты воин – можем мы что-то сделать? Или нам остается только стоять и ждать?
Илл покачал головой.
– Нам некуда спрятаться и вокруг нет никаких укрытий. Я не вижу, как мы можем из этого выкрутиться.
Чудесно, подумал я, но сказал:
– Посмотрим. Илл, я хочу, чтобы ты и твои друзья перестреляли столько скифов, сколько сможете. Мало ли, может мы сможем их отпугнуть.
Илл посмотрел на меня. На мгновение ему показалось, что я сейчас выдам какую-нибудь хитроумную идею, но я его разочаровал.
– От того, что мы застрелим одного-двух, дело обернется только хуже, – сказал он. – Мы можем попробовать сдаться. Если мы скажем им, кто ты, может быть, они возьмут нас в заложники.
Я покачал головой.
– Не думаю, – сказал я. – Делайте, как я сказал.
Я помню, как они, приближаясь, превращаются из маленьких абстрактных всадников в людей с различимыми лицами. Все они были молоды – от шестнадцати до девятнадцати лет; я припомнил, как читал где-то, что молодые скифские воины должны завоевать право зваться мужчинами, убив кого-нибудь, и решил тогда, что это чепуха, вроде историй о египетских крокодилах или острове на далеком севере, над которым в полночь сияет солнце. Однако лица этих мужчин, или мальчишек, или кем там они были, показались мне перепуганными не меньше, чем наши; им предстояло нечто, что их ужасало, но чего они не могли не выполнить. Вещи такого рода были им внове, в точности как и мне, и они знали, что собираются сыграть с нами в игру без правил и без каких-либо гарантий собственной безопасности. Они так же боялись быть убитыми, как и мы.
В семидесяти пяти шагах от нас они сорвали коней в галоп и изменили построение, ринувшись вокруг нас по дуге, как бурная река. Один из иллирийцев натянул лук и пустил стрелу; она никого не задела. Теперь скифы натянули свои луки; пара выстрелов ушла в пустоту, а затем Периклид из Коринфа зашатался и рухнул на колени. Стрела торчала у него из живота, где-то на палец выше пупка и чуть вправо от центра. Он был жив, но боль и шок были так велики, что он не мог ничего сказать и вообще не издал не звука, а только шевелил губами, как будто не хотел, чтобы враги его подслушали. Я смотрел на него, пытаясь сообразить, что делать, когда Птолемократ неожиданно громко выругался и упал навзничь, пораженный прямо в сердце. Мгновением позже я услышал, как что-то валится сквозь ветви дерева, а затем тяжелый удар о землю; они застрелили мальчика. Другой мальчик, стоявший рядом со мной, начал кричать – стрела пробила его левую руку. С другой стороны от меня иллириец согнул лук и как раз выбирал цель, когда стрела вошла в его челюсть. Лук вылетел у него из рук, стрела закувыркалась в сторону; я уставился на скифскую стрелу, пронзившую его лицо; широкий зазубренный наконечник высунулся из его щеки на ладонь. Он все еще стоял, ошалевший от шока; он попытался что-то сказать и стрела задергалась вверх и вниз.








