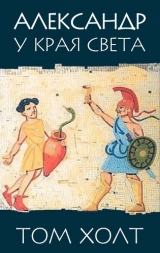
Текст книги "Александр у края света"
Автор книги: Том Холт
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 33 страниц)
Описанное развитие событий, как я уже сказал, типично, но Миронид имел предложить кое-что получше.
Филипп уже какое-то время усиливал собственные войска наемниками для ведения своих крошечных войн. С чисто военной точки зрения это было неплохим решением. Из наемников, как правило, получаются лучшие воины, чем из гражданских, поскольку они дерутся за деньги, а деньги получают только в случае победы. Проблема Филиппа заключалась в том, что на данный момент в его ведомости числилось гораздо больше наемников, чем он мог себе позволить, посему близился чрезвычайно щекотливый момент, когда вы вознаграждаете своих помощников за прекрасно выполненную работу и предлагаете им покинуть эту процветающую плодородную страну и вернуться в свои скалистые пустоши. Иногда они не желают уходить.
В отличие от большинства других нанимателей, у Филиппа было достаточно граждан-воинов, чтобы вышвырнуть наемников вон и проследить, чтобы они там и оставались, если придется.
Но стоит ли идти на подобный расход человеческих и финансовых ресурсов, если его можно избежать – притом что и то и другое вскорости понадобятся для следующего цикла крошечных войн? Идея Миронида заключалась в том, чтобы разместить наемников на хранение в колонии, устроенной в идиллической Тавриде, где древний Борисфен изливается лениво в морские волны; это практически ничего не стоит, царь избавляется от докучливой обузы, наемники счастливы, как свинья под дубом, а Македония получает стратегически важный форпост на пути из Греции в Персию, на тот случай, если царю вздумается обратить заинтересованный взгляд в том направлении.
И Миронид – толстый, громогласный, надоедливый ловкий жулик – должен был стать первым наместником этого форпоста.
И стал бы им, если бы не наша оливка.
Как я уже сказал, когда это произошло, я смотрел в другую сторону. Однако до того, как я потерял интерес к разговору, я принимал самое живейшее участие в дебатах об Идеальной Колонии. Как ты, может быть, помнишь, я уже упоминал о том, какой популярной эта утомительная и смехотворная тема была в то время на философских дебатах. Если да, то ты помнишь и то, что тема эта была моей любимой – не потому, что я страстно ею интересовался, вовсе наоборот – но потому, что я хорошо в ней ориентировался, а кроме того, она предоставляла неоценимую возможность сплясать диалектический танец вокруг Аристотеля, обладателя мегалитической коллекции различных конституций, который относился к ней со смертельной серьезностью.
В этот вечер я был в прекрасной форме, но потом у меня разболелась голова. Главным образом для того, чтобы досадить Аристотелю и отомстить Мирониду за то, что моя идея пришла в его голову, я решил разгромить оба возможных способа управления будущей колонией – и демократию, и прямое военное правление. Разгромить Аристотеля было несложно – в конце концов, это совершенная правда, что демократия не подходит для подобных случаев, а причины я уже изложил выше. Выступая против предложения Миронида, я чувствовал себя гораздо менее уверенно, однако в споре со мной ораторского мастерства Миронида не хватило бы даже на то, чтобы доказать, что огонь жжется. Сейчас я уже не помню точно, что говорил тогда, но к тому моменту, когда я потерял интерес, у Миронида было меньше ног, чтобы стоять, чем у камбалы, и он пришел в совершенное отчаяние – отсюда, полагаю, его бесшабашность при поедании оливок. Проклятье. Прежде мне это и в голову не приходило. Если посмотреть под таким углом, выходит, что его смерть на моей совести. Ну так вот, по каким-то причинам кончина Миронида будто бы аннулировала все возражения против его идеи, и даже после того, как тело унесли и вытерли пролитое вино, никто не желал продолжать дебаты с того места, на котором они прервались. Я извинился и ушел, как только это стало удобно. По иронии судьбы, это была как раз одна из тех шести ночей в месяц, когда муж Феано уезжал с табуном (я не упоминал о Феано?
Да особо и не о чем говорить. Она была дочерью местного арендатора и женой одного из главных конюхов Филиппа, за которого вышла в надежде выбраться из Миезы; однако муж ее влюбился в кухонного мальчика и выбил себе назначение на конезавод на той стороне долины, чтобы быть к нему поближе. Она нашла меня интересным, поскольку я был экзотическим афинянином и обладал привлекательно-утонченным, как она считала, аттическим акцентом. Ну, всякое случается), но из-за этой смерти за столом и больной головы я был вовсе не в том настроении. Она пожала плечами и сказала, что она все равно немного задержится; даже просто уйти из дома и посидеть у кого-то для нее большое удовольствие. Я сказал, да пожалуйста, но хорошей компании из меня не выйдет.
– Как будто в первый раз, – любезно ответила она и развела себе вино.
– Не возражаешь? – добавила она вдогонку.
Я ответил невнятным жестом, призванным выразить горячее гостеприимство.
– Давай, действуй, – сказал я. – Прикончи этот кувшин, если не боишься, что у тебя все зубы растворятся. Только подумать, я еще считал аттическое вино крепким.
– Спасибо, – сказала она. – Но я не о вине говорила. Я имела в виду, не возражаешь, если я еще побуду?
– Будь моим гостем! Ну, строго говоря, ты уже мой гость, так что я скорее имел в виду, продолжай быть моим...
– У меня будет ребенок, – сказала она.
Я некоторое время обдумывал ответ.
– Это прекрасно, – сказал я. – А когда?
Она уставилась на меня.
– Нет, – сказала она. – Подумай получше. У меня будет ребенок.
– Я думал, ты так и сказала, – ответил я. – Конечно же, это здорово.
– Я не думаю, что муж решит так же.
Я не всегда такой тупой, на самом деле, но за спиной остался долгий день и утомительный вечер, и ты сам знаешь, как трудно думать, когда у тебя голова раскалывается.
– Понимаю, – ответил я.
– Ты понимаешь, – повторила она, и я не мог не заметить, что она говорит тем же ровным, невыразительным голосом, как и Александр, когда он в ярости. Наверное, это что-то сугубо македонское, сказал я себе. – Что ж, это хорошо.
Я сбросил ноги с кушетки и сел.
– Ладно, – сказал я. – Я открыт для предложений. Что ты думаешь делать?
Она смотрела в стенку примерно на шаг выше моей головы.
– О, я не знаю, – сказала она. – Лучше всего было бы повеситься, наверное. Говорят, болиголов хорош, но я не знаю рецепта, а пробовать не хочу. Может быть, ты спросишь у своего друга Аристотеля рекомендуемую дозу? Он ведь знающий ботаник.
Мне совершенно это не понравилось; как правило, Феано была вовсе не склонна к мелодраме.
– Могу и спросить, наверное, – сказал я. – Но болиголов – довольно неприятная тема для нас, афинян, и в особенности – для философов. Тебе не кажется, что ты немного перебарщиваешь?
Александров взгляд сменился смертельно ядовитым.
– Перебарщиваю, – сказала она.
– Да, – ответил я.
– Перебарщиваю.
– Возможно, тебе будет трудно поверить, но в моих родных местах беременность не рассматривают как некая разновидность смертного приговора. На самом деле, людей сегодня было бы очень мало, если бы никто никогда не беременел. Скажи мне, не просочилась ли часом в вашу прекрасную страну затейливая концепция развода? Или мне предстоит поединок не на жизнь, а насмерть или что-нибудь другое, в равной степени причудливое?
Она еще больше нахмурилась и вдруг хихикнула.
– На самом деле, – сказала она, – это очень мило с твоей стороны. Но я не думаю, что если Писандр убьет и тебя заодно, это сильно улучшит положение. Вообще-то да, у нас есть развод, а законно убить прелюбодея можно, только застав его на месте преступления.
Я кивнул.
– Как в Афинах, – сказал я. – Более или менее.
Она вздохнула.
– Ох, ты совершенно прав, – сказала она. – Худшее, что тебе может грозить, это пеня за причиненный ущерб.
– А тебе? – спросил я.
Она покачала головой.
– Он меня не убьет, – ответила она. – Мертвая я ничего не стою. Нет, он разведется со мной и засудит тебя, вот и все. Тебе это обойдется в стоимость двух хороших лошадей, но ты можешь себе это позволить, я уверена. Все же я извиняюсь. Я не специально.
Я нахмурился.
– Не говори глупостей, – сказал я. – Все будет хорошо, вот увидишь. Я имею в виду, такое происходит не в первый раз, и не уверен, что в последний. Если мы примем это, как есть и не будем паниковать…
Тут она по-настоящему взъярилась.
Знаю, знаю. Но в самом деле, это было совершенно вне моей компетенции. В конце концов, я ее едва знал. В Афинах на подобные вещи смотрят гораздо прагматичнее. Ну, для начала они решаются между мужчинами; ее отец или брат переговорил бы со мной, и мы заключили бы с ее мужем некоего рода сделку, а затем составили бы дополнительные соглашения касательно ее самой и ребенка. Нация, породившая величайшие умы в истории человечества, уж наверное способна разрешить мелкий семейный кризис самым организованным и эффективным образом. Что до дикого варварского севера, то, как начало казаться мне, здесь такая ситуация требует более эмоциональной реакции.
– Ты, козел, – сказала она, и явно собиралась развернуть эту тему во всех подробностях, когда кто-то забарабанил в дверь.
Вот дерьмо, подумал я.
– Ты же говорила, что он на пастбище, – прошипел я.
– Так и есть, – нервно ответила она. – Он уехал еще утром с табуном однолеток.
В дверь опять заколотили.
– Хорошо, – сказал я. – Иди в заднюю комнату и сиди там, пока я от них не избавлюсь.
Хорошие новости заключались в том, то это был не ее гнусный муж Писандр. Плохие новости – это были три воина.
– Ты Эвксен? – спросил один из них. – Афинянин?
Я кивнул.
– Он хочет тебя видеть.
– О. Ладно.
Не надо быть Солоном или Пифагором, чтобы понять, кто это – он; а чтобы уяснить причины, по которым он желал меня видеть, не требовалось большого воображения. Мне следовало этого ожидать, конечно. Человек валится мертвым на царский стол, а его сосед поспешно удирает прочь. Более того, указанный сосед прямо перед этим спорил с мертвецом; указанный сосед и указанный мертвец оба были афиняне. Проклятье, на месте Филиппа я арестовал бы меня еще до того, как со стола смели просыпанный горошек.
– Могу я хотя бы взять плащ? – спросил я, отступая в заднюю комнату.
– Плащ не нужен, – сказал воин. – Нам только двор перейти.
Да и не то чтобы тебе это помогло, читалось на его лице. Военная история, семинар по тактике номер три: всегда выставляй караул у окна задней комнаты.
Совершенно непонятно, чему я их мог научить такому, чего они сами не знали.
– Хорошо, – сказал я. – Есть соображения, зачем я ему нужен?
Воин покачал головой.
– Извини, – сказал он, и оттенок искреннего сочувствия в его голосе был, наверное, самым леденящим душу звуком, который я только слышал в жизни. Когда человек, который тебя арестовывает, испытывает жалость, можно быть уверенным, что веселые развлечения тебя не ждут.
В качестве источника справедливости Филипп пользовался своеобразной репутацией, во всяком случае, в своей трезвой ипостаси. Например, приговаривая двух неугодных к вечному изгнанию, он повелел: (первому неугодному) «Покинь Македонию немедленно»; (второму) «Догоняй». Потом был еще случай со стариком, которому вздумалось, что Филипп решил дело не в его пользу из-за его преклонных лет, поэтому тот выкрасил волосы и подал аппеляцию.
– Убирайся, – сказал Филипп. – Я уже сказал нет твоему отцу.
Иными словами, умора, если ты сидишь на другой стороне зала.
Поэтому когда меня вели назад, я не ощущал особой веселости, а остатки уверенности, которые еще у меня оставались, испарились, когдя я увидел, что помимо царя Филиппа меня ожидают Парменион, царевич Александр и целая толпа знатных македонцев, которых и не было на пиру. Воздух в собрании так отдавал судилищем, что я задумался, нет ли смысла напирать на то, что я, строго говоря, все еще аккредитованный афинский дипломат (поскольку так и не доложился Собранию, не составил отчета и не был освобожден от своих обязанностей), и тут Филипп посмотрел на нас и кивнул солдатам. Они отошли на несколько шагов назад, а Филипп жестом пригласил меня присоединиться к посиделкам.
– Не побеспокоил тебя, надеюсь, – сказал он.
– Нет, нет, вовсе нет, – ответил я.
Филипп кивнул.
– Это хорошо, – сказал он. – Я боялся, что ты уже лег в постель.
Я так энергично затряс головой, будто он обвинил меня в убийстве матери.
– Ни в коем случае, – сказал я. – Ни в одном глазу.
– Ну что ж, прекрасно, – сказал Филипп, слегка ошарашенный моим напором. – Вечер оказался богатый на события, – продолжал он. – И, насколько мне известно, ты не любитель сидеть допоздна.
Это, безусловно, была насмешка над моей привычкой избегать пиров, по македонским стандартам довольно скверная. Я не нашелся, что на это ответить и промолчал. Филипп подлил себе вина и продолжал:
– Если ты вернешься мыслями к тому, что мы обсуждали ранее, – сказал он, – прежде чем с Миронидом приключился этот... несчастный случай. Помнишь?
Ну вот, подумал я.
– Более или менее, – сказал я, старясь, чтобы это не прозвучало уклончиво; я решил, что буду придерживаться линии озадаченной невинности (и, если подумать, я и был невиновен, хотя в сложившихся обстоятельствах вовсе себя таковым не ощущал. У тебя бы тоже не получилась, в присутствии всех этих мрачных типов, пялящихся на тебя). – Предложение по колонии. И колонии вообще.
– Точно, – сказал Филипп. – Это весьма интересная тема. И то, что ты говорил, представляется очень осмысленным.
– Благодарю тебя, – сказал я.
– Ну что ж, – продолжал Филипп. – Мы обсудили этот предмет, и склоняемся к тому, что в пользу идеи Миронида можно сказать многое, но твои возражения также довольно весомы. И за, и против хорошо обоснованы, иначе говоря.
– А, – сказал я.
– И раз уж об этом зашла речь, – сказал Филипп. – Я не забыл, но ты напомнил мне, что Архилох вывел колонию в Причерноморье. Интересно.
Я моргнул. Какое-то мгновение я не мог сообразить, о чем он вообще говорит.
– Прошу прощения? —сказал я.
– Архилох, – повторил Филипп. – Архилох, знаменитый поэт. Знаменитый поэт, стихи которого ты преподавал Александру и его друзьям.
– Хорошо, – сказал я. – Архилох. Да. Я нашел книгу его стихов, видишь ли, она была в сарае и…
С нехарактерной для него выдержкой Филипп проигнорировал меня.
– Очень интересно, – продолжал он. – Не могу понять, как среди трудов по устройству совершенно нового города ему удавалось выкроить время на всю эту поэзию.
– Э, совершенно согласен, – сказал я, тряся головой, как паяц. – С другой стороны, ты знаешь, как говорят – хочешь, чтобы работа была выполнена, поручи ее занятому человеку.
Филипп улыбнулся.
– А ты занятой человек, Эвксен? – спросил он.
– Я? – в голове у меня образовалась полная пустота. – Думаю, да, – сказал я. – Ну, не так чтобы очень занятой. Но довольно занятой.
– Вот и хорошо. Потому что я собираюсь кое-что тебе поручить.
Тоненький голосок на задворках моего разума робко предположил, что, может быть, я не обязательно умру сегодня.
– Что угодно, – сказал я. – Только назови. Будет честью для меня, конечно же.
Филипп прищелкнул языком.
– Ты ведь даже не знаешь еще, о чем речь, – сказал он.
– Нет. Нет, не знаю, истинная правда. Что я могу для тебя сделать?
Филипп проглотил остатки вина и щелкнул пальцами, требуя еще.
– Эта идея с колонией, – сказал он. – Как я говорил, она мне нравится, но не нравятся проблемы, на которые ту указал. Скажи мне, как ты полагаешь – можно ли эти проблемы решить, или сам замысел не стоит того?
– Я не знаю, – ответил я. – Мне надо немного подумать.
– Ну так подумай, – сказал Филипп. – А когда найдешь ответ, придешь и расскажешь мне. И чтобы тебе было проще сосредоточиться, знай, что если проект выполним и ты хотел бы за него взяться, я не вижу причин, почему бы тебе не возглавить его. В конце концов, – продолжал он, – Александр очень высоко отзывался о тебе. В самом деле очень высоко, – добавил он с легким нажимом. – И Аристотель считает, что ты достаточно искушен в политике, экономике и всем таком прочем и не обделен здравым смыслом, который я бы назвал самым главным условием. И Олимпиада... – он улыбнулся; нет, ухмыльнулся. Определенно это была ухмылка. – Я уверен, ты можешь рассчитывать на ее поддержку. Она считает, что твои навыки уникальны. Итак, почему бы тебе не отправиться в кровать, хорошенько выспаться и все обдумать с утра?
Я чувствовал себя как рыба, обнаружившая дырку в сетях прямо перед тем, как их вытащили из воды.
– Точно, – сказал я. Прямо сейчас. То есть. . . Что ж, благодарю тебя. Да. Прямо сейчас.
И, не прекращая бормотать, я попятился назад и со всей возможной скоростью вылетел вон.
Когда я вернулся домой, Феано еще не ушла.
– Ну? – сказала она. – Значит, ты жив. Что это было?
Я рухнул на стул и принялся трястись.
– Все в порядке, – сказал я. – Все будет просто прекрасно.
– И что это должно означать?
Я заставил себя выпрямиться и посмотреть ей прямо в глаза.
– Иди домой и собирай вещи, – сказал я. – Мы уезжаем в Ольвию.
Глава десятая
Разумеется, это тоже было мелодрамой. Мы, конечно, ехали в Ольвию, но не прямо сейчас же.
Будь ты даже царь Македонии, ты не можешь за одну ночь организовать нечто столь сложное, как основание нового города. Как правило, когда в Афинах или Коринфе решают вывести колонию, где-то около года уходит на дебаты, препирательства, обмен колкостями и обзывательства, прежде чем проект хотя бы пройдет утверждение в Собрании (и я не слышал, чтобы хоть один такой проект не одобрили; но если уж ты делаешь дело, то делай его правильно и на соответственном уровне публичности и театральности). После этого от года до полутора лет идут споры, кому быть ойкистом... извини, я опять забылся. Ойкист – это официальный основатель города, тот, кто закладывает первый камень и проводит первую борозду, человек, чье имя будут скандировать смеющиеся дети на каждом празднике Основателей, чья голова окажется на монетах, чьей душе будут адресоваться молитвы и жертвоприношения, подобающие мелкому божеству, в течение всего существования города. Нет нужды, если он, заложив этот первый, идеально обтесанный камень, или угрюмо подержавшись за специально изготовленную из черного дерева рукоять плуга, немедленно сиганет на быстрый комфортабельный корабль и умчит домой, чтобы никогда не возвращаться; теперь он стоит так близко к бессмертным богам, как это только возможно для человеческого существа, как будто он пробрался по водосточной трубе в олимпийский дворец, где все знай себе валяются в постелях и хлещут амброзию из немытых кубков. В нашем случае ойкист у нас уже был (я), но на этом сложности не заканчиваются, как ни крути.
О, прежде чем экспедиция отправится в путь, следует решить целую прорву всяческих вопросов, некоторые из которых могут даже оказаться важными; и можешь быть уверен, что каждое решение будет выковано в яростном споре между двумя ни в чем не согласными фракциями, в то время как третья, четвертая и пятая фракции будут возиться у них за спиной, формируя альянсы и ища занять их место. Почему-то я воображал, что в Македонии этот процесс будет протекать по-другому, с участием властного царя-автократа, принимающего все действительно важные решения. И в самом деле, он принимал; но не эти решения отнимали все время. На самом деле как раз те мелочи, которые он поручал временному правящему совету протоколонии, и порождали всю неразбериху – уж кто-кто, а человек вроде Филиппа мог бы это предвидеть. Ибо, конечно же, это те самые предметы, дискутировать о которых я и мои собратья-болтуны были обучены с младых ногтей, самым квалифицированным образом и до тех пор, пока нам не заплатят, чтобы мы заткнулись, и хотя все мы знали, что на сей раз почасовая оплата нам не светит, но противостоять привычке и профессиональным инстинктам были не в силах.
Что ж, по крайней мере я получил все возможности познакомиться поближе со своими коллегами-основателями; задним числом я могу смело сказать, что для всех нас было бы лучше всего встретиться первый раз непосредственно на пристани. Эти люди относились к идеалистической доле колониальной смеси, те самые, которые отправляются в путь в надежде построить прекрасный новый мир и проложить путь в светлое завтра. По общему правилу город, в точности как любой благоразумный человек, жертвует на благое дело то, что ему самому вряд ли когда-нибудь пригодится, и потому верхушка будущего колониального общества обыкновенно оказывается составлена из равных долей бесполезных и злонамеренных типов. В полном соответствии с этим принципом, среди Отцов-Основателей моего города я обнаружил двух отпрысков благородных семей, совершенно непонятным мне образом ухитрившихся в свои небольшие годы развить разрушительную активность, которая должна была бы загнать их в гроб, но почему-то не загнала; выдающегося политического неудачника, поставленного перед выбором между светлым завтра в Ольвии и полным его отсутствием в Македонии; пять или шесть невероятно серьезных и чрезвычайно юных аристократов, изучивших Платона, Аристотеля, Ксенофонта и боги ведают кого еще и в результате решивших, что люди в целом не столь уж и плохи, если только дать им возможность сесть и обсудить все возникающие проблемы; одного глухонемого, одного клептомана и одного кретина.
И так далее и тому подобное. Коллеги мои спорили и ныли; Филипп слал составленные в грубых выражениях записки, вопрошая, как долго он еще должен оплачивать услуги всех этих назойливых наемников, которых я еще боги ведают когда должен был сбагрить с глаз его долой; я крутился, как юла, колотил по столу кулаками, льстил, люто торговался и слал ко двору отношения – и даже не совсем лживые, если правильно их интерпретировать; и всем этим, разумеется, я занимался в свободное время, когда не учил юных македонцев правильному применению цезуры в архилоховом ямбе и истории спартанской блокады Аттики во время Великой Пелопоннесской Войны. На тот случай, если мне всего этого не хватало для счастья, оставались развод Феано и иск Писандра против меня.
Писандр, по местным меркам, повел себя неожиданно благопристойно.
Если не считать пары плюх, которые он отвесил жене, а также прелестных узоров, выжженных им на ее руке раскаленным железом, он принял создавшееся положения без гнева и горечи и при встрече со мной вел себя самым вежливым и деловым образом, как продавец с покупателем. К несчастью, я оказался далеко не столь цивилизованным и прагматичным, как он. Раньше мы не встречались; как только он представился, а я обнаружил, что он на голову ниже меня и притом довольно хрупкого сложения, то мой гнев на его гнусное обращение с Феано вырвался на волю; он успел несколько раз отлететь от ближайшей стены, прежде чем я справился с собой и попросил повторить высказанные им перед этим предложения.
После этого случая переговоры велись через посредника.
Сама Феано не слишком старалась облегчить положение. Она жила отдельно, не отвечала на записки, которые я слал ей, убеждая покинуть дом мужа и перебраться ко мне; она даже не сказала окончательно, собирается она ехать со мной в Ольвию или нет. Когда бракоразводный процесс достиг стадии, на которой ей следовало съехать, она отправилась к отцу, к великой его досаде, поскольку он сам не так давно повторно женился и в маленьком доме не оставалось места для второй женщины. Я сходил к нему и заявил, что поведение его дочери не принесет никому добра; все в полном беспорядке, а ведь ребенок еще даже не родился. Некоторое время покобенившись, вымогая мзду, он наконец согласился с моими доводами и сказал, что подумает, как ее переубедить – амбициозное намерение, в котором он совершенно преуспел, добившись цели с помощью всего двух коротких слов («Вали отсюда!») – там, где я сам полностью провалился со всеми своими длинными и изысканно составленными письмами. В свою защиту могу только сказать, что она их не читала, главным образом потому, что не умела. Я-то, будучи афинянином, разумеется полагал... Ну да ладно, из этого опыта я вынес один ценный урок, и, как ты сможешь убедиться, пропустил целую кучу других.
Итак, Феано переехала ко мне и положение стало крайне неловким. Сейчас ты, мой искушенный в мирских делах юный друг, начнешь говорить мне, что любой, обладающей чувствительностью хотя бы черствой булки, давно бы догадался на моем месте, что вряд ли она бросится в мои объятия со страстью и притом почтительно (как подобает женщине ее социального положения), а сияющие глаза ее будут молча благодарить меня за спасение от несчастной, унылой, лишенной любви жизни. Но я ничего подобного и не ждал, честно. Однако получить глиняным горшком по голове я тоже не рассчитывал.
– За что? – спросил я, ощупывая голову, чтобы узнать, пошла ли кровь. – Это было просто предположение, не более того.
– Проваливай в пекло, – ответила он.
Я нахмурился. До меня начало доходить, что налицо проблема коммуникации.
Неудивительно. Имей в виду, что я вырос в традиционной афинской семье, а моя мать умерла, когда я был совсем маленьким. Соответственно, в детстве у меня не было особых возможностей пообщаться с женщинами; моя жена умерла молодой, так что мне не удалось выучить язык и на той жизненной стадии, на которой большинству мужчин удается наконец овладеть этим исключительно замысловатым искусством. Также стоить принять во внимание тот факт, что я потратил весьма существенную часть своей взрослой жизни на разговоры с мужчинами (причем в формате диспута). Я был по любым меркам изрядно подкованным спорщиком, понаторевшим в логичном и антагонистичном искусстве мужского разговора. Я воображал, что беседа с женщиной протекает, в целом, по тем же канонам.
Ошибался.
Думаю, не в самой маленькой мере это вопрос воспитания; если мы станем учить девочек поддерживать структурированный, логически аргументированный разговор, как мы учим мальчиков, то сможем, вероятно, избежать всех этих ужасных сложностей, с которыми мы сталкиваемся, когда нам за неимением другого выхода приходится вступать в хоть сколько-нибудь осмысленную беседу с женщиной. На практике, в повседневной жизни подобная необходимость возникает так редко, что не может оправдать предполагаемых затрат на обучение, поэтому мы эту возможность даже не рассматриваем. Уметь поддерживать интеллектуальную беседу должны призовые жены из верхних слоев общества, а также дорогие проститутки; что касается всех остальных, то они не стоят того, чтобы тратить на них время и силы.
(Мне известно, Фризевт, что в здешних краях дела обстоят по-другому, что местные мужчины и женщины живут общей жизнью, а не существуют параллельно под одной кровлей, как афиняне. Не хочется говорить, но это еще один признак примитивности вашей культуры. Видишь ли, подобные симбиотические отношения характерны для некоторых слоев греческого общества, а именно самых бедных и отсталых, где женщины вынуждены трудится в поле вместе с мужчинами и выполнять ту же работу, так что мужья и жены проводят вместе практически все свое время. Однако едва лишь поднявшись над этим самым нижним слоем, ты увидишь совсем другой порядок: мужчины отправляются работать поутру и возвращаются на закате, проводя все время в одиночестве или в мужской компании, женщины сидят дома, выполняя женскую работу, ходят друг к другу в гости и так далее. Поэтому, кстати, если ты посмотришь на росписи на греческих вазах, деревянных изделиях и тому подобном, то увидишь, что мужчин изображают красно-коричневыми, а женщин – белыми или бледно-розовыми; мужчины весь день находятся на солнце, а женщины едва ли покидают дом. Впрочем, переживать по этому поводу не стоит. По мере развития и взросления общества вы постепенно придете к более просвещенным обычаям, поведению и, наконец, манерам речи).
– Хорошо, – сказал я. – Я вижу, нам надо об этом поговорить. Поэтому почему бы тебе не успокоиться и не взять себя в руки? После этого мы сможем разобраться, что тебя раздражает.
Она издала причудливый яростный визг.
– Спасибо, я не хочу успокаиваться, – ответила она. – И я без тебя прекрасно знаю, что меня так «раздражает», распроученый господин афинянин.
– Хорошо, – сказал я. – И в чем проблема?
– В тебе.
Я вздохнул. Менее терпеливый человек давно бы сдался, но я был не таков.
– Если мы хотим хотя бы сдвинуться с места, тебе придется выражаться поопределеннее. Посмотрим, сможешь ли ты немного сузить претензии. Что именно во мне заставляет тебя терять контроль и швыряться предметами. Лицо? То, как я ем суп? Звук моего голоса?
Она уставилась на меня.
– Да все вместе, – сказала она.
Я задумчиво почесал ухо.
– Странно, – сказал я. – Я выглядел, действовал и звучал точно так же всю свою жизнь, и тем не менее до этого момента никто не метал в меня посуду. Можешь ты объяснить этот феномен?
Она покачала головой.
– Там, откуда ты явился, пользуются посудой? – спросила она.
– Моя дорогая девочка, Афины являются ведущим поставщиком наилучшей столовой посуды в Греции.
– Тогда я не понимаю, – сказала она. – Я думала, что такой высокомерный, назойливый, манипулятивный, завернутый на своей особе ублюдок, как ты, должен был научиться увертываться от летающих тарелок раньше, чем ползать.
Я был поражен.
– Не понимаю, – сказал я. – О чем, ради всех богов, ты говоришь?
– Ох, отправляйся в преисподнюю, – сказала она.
– Это не ответ, – заметил я. – Нужно что-то поубедительнее, если ты хочешь, чтобы я согласился…
Она грохнула кулаком о стену.
– Я ничего от тебя не хочу, – сказала она, – только чтобы ты убрался из моей жизни и не возвращался назад. Можешь ты это уразуметь? Ты мне не нравишься, и ты опасен. Из-за тебя меня вышвырнули из моего собственного дома и из дома отца, я осталась без мужа и я беременна. Если ты можешь придумать что-нибудь похуже этого, за исключением потери руки или глаза, то у тебя адски могучее воображение, – она бросила на меня яростный взгляд и добавила, – О да, я забыла. Чтобы довести ситуацию до совершенства, ты предлагаешь отправиться с тобой на край света и жить там в деревянной будке, осаждаемой дикарями, в качестве твоей подстилки, племенной кобылы и прислуги. Уж конечно, от подобного предложения ни одна девушка в здравом уме не способна отказаться.
Она опустила руку на стол недалеко от маленького кувшинчика с маслом, и я инстинктивно пригнул голову. Хорошо известный факт: стоит им войти во вкус – и уже ничто не сможет удержать их от метания различных предметов. Она заметила это движение и посмотрела на меня взглядом, способным поджечь траву.
– Все в порядке, – вздохнула она. – Я не собираюсь тебя поранить, если ты об этом беспокоишься.
– А, но ты уже это сделала, – немедленно отозвался я (даже мне трудно было пропустить такой очевидный намек). – Ранила меня, я хочу сказать, – я печально покачал головой: чистейшее воплощение уязвленной добродетели. – Попробуй все-таки взглянуть на ситуацию рационально, хотя бы для разнообразия, вместо того чтобы давать волю свои неистовым женским чувствам. Мы начали с дружеского делового соглашения, устраивающего обоих – предложенного, кстати говоря, тобой, если ты еще этого не забыла. Хорошо, кое-что пошло немного не так и ты оказалась в неприятном положении – не столь уж неожиданном для тебя, если только тебя не удосужились научить самым элементарным вещам – но я полагаю, ты решила не обращать внимания на эту возможность, считая, что с тобой ничего подобного не произойдет; некоторые люди обладают особой способностью к этому, и я им даже завидую временами. Сам-то я с рождения одержим сомнениями. В общем, возникла проблема; ты весьма разумно обратилась ко мне за помощью…








