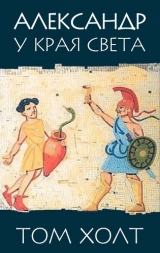
Текст книги "Александр у края света"
Автор книги: Том Холт
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 33 (всего у книги 33 страниц)
Конечно, у меня под рукой не было и змеиной кожи, но зато была идея, где ее можно раздобыть. Ты, может быть, помнишь, что когда я был в Македонии, Александр засунул в мой кувшин змею, и она выскочила оттуда в самый неподходящий момент. Незадолго до этого я заметил, переставляя кувшин с места на место, что в нем есть что-то маленькое и легкое, и это что-то шуршит; логично было предположить, что александрова змея воспользовалась тишиной и покоем моего кувшина, чтобы сменить кожу. Так или иначе, мне ничего не стоило достать кувшин и посмотреть.
Я встал на стул и потянулся, чтобы снять его с крюка, привязанного к стропилам, куда я его повесил, но оказалось, что я выбрал очень старый, усталый стул. Я услышал резкий треск как раз в тот момент, когда я снял кувшин с крюка, а мгновением позже уже сидел в неловкой позе на полу с ногой, согнутой под крайне необычным углом, и чувством невероятной жалости к самому себе.
Как ни странно, если мой брат сломал левую ногу, то я – правую.
Я был слишком занят воплями и рыданиями, чтобы обратить внимания на то, что раньше было кувшином; но когда я сорвал голос, а никто так и не явился (дворецкий и повар были на рынке, служанка и садовник куда-то исчезли), я слегка успокоился и увидел, что кувшин разбит. Это потрясло меня, должен признать. Кувшин был со мной очень долго, он зарабатывал мне на пропитание и оказывал огромное влияние и на мою жизнь, и на жизни многих других... подумай только, если бы не он, царица Олимпиада никогда не выбрала бы меня в наставники сына; если бы я не наставлял Александра... Ну ладно. И вот теперь он разбился; и там, среди острых черепков я увидел высохшие останки змеи, свернувшейся в тугое кольцо и сохранившейся не хуже, чем египетские цари.
Что ж, говорят, что змеи тоже бессмертны; вместо того, чтобы умирать, как это делаем мы, они просто сбрасывают старые тела и ползут дальше. Хотел бы я знать: если они вылупляются из мертвых, как цыплята из яиц, то помнят ли будущую жизнь сразу или же им приходится ждать постепенно возвращающихся воспоминаний, как нам, заурядным богам? Понятия не имею – либо я никогда не знал ответа на этот вопрос, либо позабыл его.
Нынче я стал очень забывчивым, Фризевт; я забываю буквально все, если вовремя не запишу где-нибудь. Сломанная нога послужила великолепной отговоркой не открывать святилище; и как-то раз, когда я лежал в ожидании перевязки, вбежал садовник с корзиной в одной руке и длинной палкой в другой. Я спросил, из-за чего эта суматоха.
– В кладовку заползла змея, – сказал он. – Фрасса загнала ее в угол, а я сейчас покончу с ней.
Я приподнялся на локте.
– Сделай одолжение, – сказал я. – Когда поймаешь ее – не убивай, а посади в кувшин и заткни горло соломой. Я найду ей применение.
Он посмотрел на меня как на сумасшедшего; впрочем, он всегда так на меня смотрел.
– Хорошо, – сказал он. – Где ее оставить?
– О, да где угодно, – сказал я. – Где от нее не выйдет вреда.
Итак, святилище получило свою змею, маленькую юркую зеленую сволочь, которая улизнула прочь, едва я выдернул соломенную затычку. Собравшиеся местные почитатели была бесконечно впечатлены и отступили прочь, когда я проходил мимо, чтобы моя тень не упала на них. Еще чуть-чуть, подумал я, и они станут поклоняться мне, как богу.
У македонцев есть закон или, может быть, традиция – не начинать войн в месяц дайсос (который примерно соответствует афинскому таргелиону; боги ведают, как вы его называете. В общем, это период от восхода Плеяд и до солнцестояния, время молотьбы, и если ты не закончил к этому времени перекапывать виноградники, то сильно отстал). В середине месяца дайсос на тринадцатый год его правления, тридцатидвухлетний Александр пребывал в Вавилоне, готовый отправиться на завоевание Аравии – огромной и бесполезной пустыни к югу от города. Раньше в таких случаях он обходил традицию, приказывая астрономам повторять в календаре предыдущий месяц, артемизий; на сей раз он даже этого не сделал. В конце концов, заявил он победно, вставной артемизий был явно фальшивый, и в глазах его божественных собратьев он и раньше выступал в поход именно в дайсос – и ничего, поэтому нет никаких причин избегать этого месяца сейчас.
За день или два до запланированного выхода Александр отправился на прием, который давал человек по имени Медий. Прием, по всей видимости, удался, потому что наутро он встал, чувствуя себя отвратительно, и приказал прислуге переселяться из дворца в парковый домик на берегу реки, где было мирно и спокойно, и где человек мог восстановить свои силы, полеживая в обнимку с амфорой. В этом доме был бассейн, и он решил спать около него, под звездами.
Вавилон в это время года напоминает печь, и около воды был немного прохладнее.
На следующий день он почувствовал легкий озноб, поэтому принял баню и до вечера оставался в доме с Медием, несколькими другими друзьями и парой собак, поскольку хотел быть в форме к моменту выступления армии в поход. Этой ночью он спал не очень хорошо, а на следующий день лихорадка усилилась. Военачальники начали строить планы отложить экспедицию, но он не хотел и слышать об этом, несмотря даже на то, что днем позже, когда должен был отплывать флот, лучше ему не стало. Но еще через день он почти полностью исцелился и дотемна работал, чтобы нагнать упущенное за время болезни время. Возможно, он перетрудился; на следующий день он был так плох, что его перенесли назад во дворец.
Он прожил еще четыре дня. Большую часть этого времени он был слишком слаб, чтобы говорить, а когда слабость отступала, начинал бредить и городил чепуху, как это обычно бывает при сильном жаре. Ближе к концу речь его прояснилась, но когда верховные военачальник попытались поговорить с ним о порядке наследования, оказалось, что он их не узнает. Умирая, он кричал, что на подушке змеи, но ничего страшного – он задушил их, поскольку он был младенцем-Гераклом и скоро родится. Затем он сказал, что Аристотель отравил его, поскольку Аристотель не верил в богов и думал, что их не должно быть; рецепт яда он узнал из книги своего племянника Каллисфена, и об этом ему поведал некий Эвдемон, а яд был подан в кубке, выточенном из копыта мула, потому что боги-полукровки не могут иметь детей. Он приказал выжечь Вавилон до самой земли, а затем и всю землю, потому что в прошлый раз он пробовал уничтожить человечество с помощью потопа и нет смысла повторять то, что не сработало. Затем он сел прямо и попросил почитать ему из книги Эвксена о войне, потому что ему хочется узнать, что случилось в конце. Ему сказали, что Эвксен не писал книг, и спросили, кому из полководцев он хочет передать империю после своей смерти. – Откуда мне знать? – ответил он яростно. – Я еще не дочитал до этого места. – После этого военачальники приказали очистить комнату.
Некоторые говорят, что он умер крича или заливаясь слезами; что он лег в постель, прежде чем умереть; что в последний момент его жизни могучий орел влетел через окно и унес его душу на Олимп. Другие скажут тебе, что он не умирал вообще, что набальзамированное, нетленное тело, что лежит в Александрии Египетской (в совершенной сохранности, как мертвая змея в кувшине) принадлежит кому-то другому, что старое тело он сбросил и до сих пор где-то живет в ожидании некоего неопределенного события, которое скажет ему, что пришло время вернуться и продолжить с того же места. Кое-кто верит, что он никогда не умрет, что он живет в коллективном разуме македонско-греческого роя, который нынче накрывает своим жужжанием Европу и Азию, собирая нектар и поселяясь в каждой трещине земли, вплоть до восточных границ Скифии.
Лично я полагаю, что он умер – и скатертью дорога.
Если бы эта история закончилась здесь, со смертью Александра и распадом его империи, то это была бы негодная история; много трудов было бы потрачено ни на что и еще не рожденные поколения совершали бы паломничество, чтобы помочиться на наши могилы. Я хочу этого избежать. Я, может быть, и стар, но не настолько, чтобы перестать мечтать об идеальном обществе или хотя бы идеальном городе.
Это началось около года назад, когда сюда явился лидийский торговец с маленькой тележкой, полной трофеев, добытых в какой-то битве. Странные они создания, эти лидийцы; в них столько же греческого, сколько в реке Ганг, но они жили по соседству с греками так давно, что полиняли, так сказать, и если послушать, как некоторые из них говорят, почти начинаешь верить, что они такие же греки, как я сам. Это лидиец был как раз из таких; он назвался Теоклом или каким-то похожим греческим именем, а послушать его, так все в его телеге, что не было произведено в Афинах, сделали в Коринфе, Мегаре или Фивах. В общем, среди окровавленных сапог и слегка побитых доспехов (принадлежавших некоему бережливому, но неудачливому солдату) было кое-что, что я, по его словам, обязательно захочу купить. На самом деле, сказал он, стоит мне узнать, что это за вещь, я так отчаянно захочу приобрести ее, что без сомнения предложу ему такую сумму, какую вряд ли могу себе позволить потратить, и он, в качестве услуги и в знак уважения к памяти божественного Александра, отдаст ее всего лишь за десять статеров, не глядя.
Не стоит и говорить, я сразу предложил ему пойти подальше и размножиться; лицо его приобрело очень печальное выражение того сорта, под которое лидийские лица как будто специально спроектированы, и заявил, что цена теперь стала двенадцать статеров. Это меня заинтриговало; я сказал ему, что если он скажет, что это за вещь, я дам ему полстатера, местную монету. Физиономия у него вытянулась, он протянул руку ладонью вверх и сказал, что это книга.
– Книга? – спросил я.
– Книга. Греческая книга, – добавил он.
Он был прав, это меня заинтересовало.
– Какого рода книга? – спросил я.
– Примерно вот такой длины, – ответил он, – вот такой толщины, в собственном бронзовом тубусе. Тубус бесплатно, – быстро добавил он.
– Прекрасно, – сказал я. – Но о чем она? Кто ее написал?
Он пожал плечами: комплексное, в нескольких измерениях сразу, складывание костей плечевого пояса, как будто он собирался взять и аккуратно отстегнуть руки.
– Да какая разница? – сказал он. – Это книга. На греческом.
Я немного подумал.
– Может, мне и интересно, – сказал я. – Где-то на три статера.
Честное слово, он чуть не расплакался.
– Прошу прощения, – сказал он; потом порылся у себя под туникой и извлек книжный тубус, из которого торчал измочаленный краешек собственно книги. Он вытащил ее из тубуса, развернул примерно на ладонь, оторвал кусок и съел его. – Пятнадцать статеров, – сказал он.
Мне захотелось посмотреть, чем это кончится.
– Семь, – сказал я.
Он отмотал и сожрал еще примерно с ладонь.
– Семнадцать, – сказал он.
– Договорились.
– Ты не пожалеешь, – сказал он, сплевывая полупережеванную египетскую бумагу. – И три за тубус.
– Сам знаешь, что ты можешь сделать с тубусом, – сказал я.
Как я и опасался, книга оказалось проклятой богами долбаной Илиадой, скверно скопированной безграмотным писцом где-нибудь в Египте. Тем не менее, книга – это книга, так что тем же днем, когда стало слишком жарко, чтобы заниматься чем-нибудь еще, я уселся под деревом и стал лениво проматывать ее, больше интересуясь пометками на полях и короткими комментариями, оставленными предыдущими владельцами, чем бессмертными строками Гомера. Когда я добрался до конца, я увидел нечто занятное: писец, весьма плотно умещавший строки, остался один на один с пустым пространством бумаги и заполнил его чем-то еще. Текст, который он выбрал для этого, был для меня новым; нечто под названием «О Смерти» за авторством некоего Ферекрата из Книда. Совершенно случайно я наткнулся на драгоценность дороже золота: никогда нечитанную книгу неизвестного мне автора.
Счастливый день!
В тот день я очень хорошо узнал Ферекрата из Книда. Он не был особенно трудным для понимания человеком: такой же благородный земледелец, как и я сам, в свободное время арендовавший место на судне богатого соседа, чтобы загрузить на него излишки своего труда и какие-то безделицы, прикупленные им по случаю, и плавать с этим добром вдоль побережья между Родосом и Геллеспонтом. Такие люди, как Ферекрат, обычно не тревожат страницы истории, и сам Ферекрат не являлся исключением из этого правила до того дня, как он сошел на берег в маленьком порту на острове Хиос, название которого он позабыл. Утром он заключил несколько разумных сделок, меняя смоквы на сыр, а дешевые серебряные заколки на дешевые костяные гребни, но к полудню дела закончились и он было подумывал собрать манатки и вернуться на борт, когда к нему подошел некий человек и предложил купить пару обуви.
Это была, согласно Ферекрата, очень старая обувь, которая, надо думать, дошла до Испании и вернулась обратно, и Ферекрат сказал, что ему она не нужна. Продавец не настаивал, но не выказывал желания убраться, и за неимением занятия получше Ферекрат принялся с ним болтать.
Как эта тема всплыла в разговоре, Ферекрат не помнил; каким-то образом они затронули некую историческую личность, а человек с обувью обронил, что он знал этого типа когда-то, многие годы назад.
– Это невозможно, – возразил Ферекрат. – Он умер шестьдесят лет назад.
– О, но я его видел, как тебя, – ответил тот человек. – Ты что же, хочешь назвать меня лжецом или что?
Ферекрат покачал головой.
– Не обижайся, – сказал он, – но ты просто не мог его встречать. Как я и сказал, он умер шестьдесят лет назад, а тебе, и это очевидно, не дашь и дня сверх пятидесяти пяти.
Тот человек ухмыльнулся, показав прекрасно сохранившийся комплект зубов.
– Мне восемьдесят семь, – сказал он.
Само собой, это пробудило все любопытство, каким обладал Ферекрат, и не будем говорить, что это был скептицизм.
– Более того, – сказал человек. – Я это докажу. Стой тут.
– Я никуда не тороплюсь, – сказал Ферекрат; немного спустя человек вернулся и привел с собой двух других, которые выглядели как его копии, может, чуть помоложе.
– Вот это мой сын, – сказал продавец обуви, – ему шестьдесят шесть. А это мой внук, ему только что исполнилось пятьдесят. Я ничего не перепутал, мальчики?
Те предложили сходить и привести других родственников – праправнуков и прапраправнуков, но Ферекрат убедил их, что в этом нет нужды. Он им поверил.
– Это весьма удивительно, – сказал он.
Сын покровительственного улыбнулся.
– Вовсе нет, – сказал он. – Всего-навсего разумная и чистая жизнь.
– О, да? – сказал Ферекрат, подозревая, что сейчас ему что-нибудь продадут, если он потеряет осторожность.
– Именно, – сказал старик. – Я всегда жил в чистоте и мои мальчики всегда жили в чистоте, и только посмотри на них. Не болели ни дня за всю свою жизнь.
Ферекрат нахмурился (или же я представляю, что он это сделал; в книге он ничего про это не говорит, но человеческая природа просто требует, чтобы он нахмурился в этот момент).
– Когда ты говоришь «жить в чистоте», – сказал он, – что конкретно ты имеешь в виду?
Старик объяснил. С самого детства, сказал он, у него развился страх грязи; он не мог противостоять ему и сделался страшным чистюлей. Поэтому, когда он построил собственный дом, то сделал все, чтобы в нем всегда царила чистота. Сортир он поставил вдалеке от дома, вниз по течению маленького ручья, который протекал поблизости.
Он следил за тем, чтобы в доме подметали раз в день, а залежавшуюся пищу выбрасывали или отдавали нищим, а не хранили до последнего в кладовой; он настоял, чтобы одежда и постельное белье всей семьи регулярно меняли и стирали; он запретил пускать в дом животных и построил для них особый сарай на изрядном расстоянии от дома и от источников воды.
Если кому-то случалось пораниться или занести в рану грязь, он заставлял промывать ее и накладывать чистую повязку. Короче говоря, он свихнулся на почве чистоты. И никто в его доме никогда не болел.
Что ж, Ферекрат выслушал его и забыл. Но с течением времени то, что старик сказал ему, все больше царапло его ум, как крючок, застрявшей в жабрах, и он начал прикладывать его слова к тому, что видел. Когда он отправлялся в плавание и посещал различные города, где заключал сделки, он смотрел, что там происходит и делал выводы: эпидемия в Приене, где сточные воды одного квартала проникли в источники соседнего; смерть человека в Эфесе от укуса ядовитой мухи; пересказанные стариками услышанные от отцов истории времен Великой Чумы в Афинах; смерти здесь, смерти там, смерти везде – пока наконец не пришел к заключению, которое потрясло его более всего, что случалось с ним ранее.
Теперь он был твердо уверен, что причиной половины смертей, о которых он слышал, были болезни, вызванные или осложненные грязью. Невероятное количество людей поднимаются на борт парома через Стикс и вручают перевозчику по два обола каждый только потому, что они, в отличие от старика с Хиоса, жили в грязи. Если верить Ферекрату, то очистив воду в Греции, можно спасти такое количество народу, что хватит на армию, способную завоевать мир, основать колонии в каждой провинции – и все равно останется столько, что не миновать голодных бунтов. Если бы удалось сохранить жизнь хотя бы половине мудрецов, философов, ученых, поэтов и государственных деятелей, погибших от инфекций, отравления крови или других видов грязной смерти, человечество очень скоро достигло бы таких высот мудрости и мощи, что и сами боги не смогли бы ему противостоять. Мы могли бы изгнать их в Аравийскую пустыню или морозные пустоши за Скифией и править миром сами. Все, что для этого необходимо – несколько акведуков, дренажных канав и выгребных ям, а также еженедельная уборка в доме; эти простые меры позволили бы нам овладеть призом столь драгоценным, что похищенный Прометеем огонь на его фоне показался бы пустяком. Так говорит Ферекрат.
Итак, сперва он испытывал скептицизм, как испытывал его я и испытываешь ты. Сразу вопрос: почему человеческие выделения столь опасны и ядовиты, если они исходят из собственных наших тел?
Если они не убивают нас, находясь внутри, почему превращаются в смертельный яд, выйдя наружу и просочившись в деревенский колодец? И грязь – честная пыль и глина: на них мы растим свою пищу, а вырастив – съедаем. Если грязь способна убить, попав в порез или царапину, то почему наша пища не является таким же страшным ядом, как отравленный мед моего брата? Разве не гораздо более логично предположить, что болезни и смерти есть то, чем они являются в соответствии с нашими всегдашними верованиями – сверхъестественными сущностями, невидимо для глаз кружащими и роящимися вокруг нас в поисках неудачливых и проклятых, а не извращенными продуктами доброй земли и наших собственных тел?
Ферекрат не может ответить на этот вопрос; он только представляет свои доводы и утверждает, что выведенное из них заключение стоит самого серьезного осмысления. Этим заключением он завершает свою книгу и покидает мою жизнь, возвращаясь во тьму, из которой таким чудесным образом возник.
Да, я знаю. Все это звучит как безумные причитания одержимого, вроде тех типов, которых ты стараешься обойти по широкой дуге на рыночной площади и которые прилагают все усилия, чтобы убедить тебя в том, что царь Индии подсылает к ним наемных убийц или что звезды выедают им мозги. Но что, если он прав? Что, если в его утверждениях есть хотя бы крошечная частица истины? Единственный способ узнать наверняка, я думаю, это проверить их на практике и посмотреть на результат; выстроить город в соответствии с изложенными им принципами и посчитать, сколько людей умрет, а сколько – нет. Если говорить о великих экспериментах, то этот не более безумный, чем любимый проект Александра по скрещиванию цветов македонского мужества с жемчужинами персидской женственности с целью выведения расы господ для заселения Азии. Выбирая из двух замыслов, отчего бы не предпочесть тот, который причинит меньше неудобств участникам эксперимента и принесет большее благо, буде окажется успешным?
Итак, Фризевт, перед тобой старый дурак, ничему не научившийся и снова пытающийся играть в бога и построить идеальный город. Возможно, это заболевание, вызванное старостью и бездельем; определенно идея из тех, которую могли выдвинуть отцы-основатели Антольвии (а я бы в ответ вежливо, но твердо предложил им засунуть ее туда, куда солнце не заглядывает, поскольку у людей, загруженных реальными проблемами, просто нет времени на участие в безумных идеалистических проектах – а если бы они таки пропихнули ее, то она закончилась бы сущей катастрофой, как платоновские опыты по созданию философского царства на Сицилии). Ну и что? В теории, согласно составленной Александром хартии, я, как ойкист, обладаю в городе абсолютной властью, и я разок воспользуюсь ею хотя бы для того, чтобы показать людям, как им со мной повезло, ибо на моем месте мог оказаться тип, который занимался бы этим постоянно.
В любом случае, этот город долго не протянет. С какой стати? Греческий город, основанный по мановению великого царя, превратившегося на некоторое время в бога, но теперь мертвого, населенный дикарями и управляемый безумным стариком. Я помню другой город, столь похожий на этот, что порой с трудом различаю их. Временами, Фризевт, мне начинает казаться, что на самом деле ты мой друг Тирсений или будин-телохранитель, а вокруг меня Антольвия, и с минуты на минуту из дома выйдет Феано с большой кружкой вина с медом и корицей; или что в любое мгновение через городские ворота хлынут другие дикари с натянутыми луками и перебьют нас всех. Иногда я сижу здесь, Тирсений, и мнится мне, будто я припоминаю некий небольшой инцидент, приключившийся в старом городе, а не наблюдаю его повторение в новом. История, разумеется, это запись деяний великих людей и хода великих событий, с тем чтобы они не были забыты и чтобы многочисленные и прискорбные ошибки прошлого можно было распознать и избегнуть в будущем; записывая историю, я фиксирую наше время, чтобы оно не было принято за время до или время после.
Думаю, это фокус, который я проделываю, чтобы не сойти с ума. Запирая то или иное событие в книге, я могу быть уверен, что оно и в самом деле происходит, а не просто вспоминается мне.
И, как и большинство фокусов, он не работает.
Недавно меня стали одолевать боли в суставах правой руки, и одна очень милая женщина с овощного рынка, которая полагает, что если она окружит меня заботой, я завещаю ей свои деньги, дала мне нечто, чтобы утишить боль. Это был маленький ящичек с сушеными листьями; если бросить их в огонь и вдохнуть дым, ты перестаешь ощущать боль. Ну что ж, она была абсолютно права, боли я больше не чувствую; но когда бы я не сидел вот так, накинув на голову простыню и глубоко вдыхая, мне кажется, что рядом с мной, вдыхая и наслаждаясь дымом, сидит кто-то еще. Понятия не имею, кто это; сквозь дым я не могу разглядеть его лица, голос его неразборчив, как гудение далеких насекомых. Иногда я думаю, что это мой отец или Диоген; иногда, что это Александр или Аристотель, Тирсений или Агенор-каменщик, или Феано, или один из моих братьев, или мой дед Эвпол, или Ферекрат, поклонник канализации, или друг Эвдемона Пифон (которого я, конечно, никогда не видел). Иногда, когда на меня нападает сонливость и я не могу мыслить ясно, мне кажется, что это ты, и что ты читаешь мою книгу, а я – книга, которую читают.
Наверное, мне стоит начать беспокоиться. Но время для беспокойства уже прошло. В эти дни я охотно поменяю размытые границы моего здравомыслия на то, что уносит боль прочь. Здравомыслие – чудесная вещь, но оно не заменит крепкого ночного сна или возможности помочиться, не чувствуя при этом, что тебе в почки вгоняют кол. Я не чувствовал боли всю свою жизнь и прыгал по ней, сопровождаемый смертью и разрушением, как собаками, выведенными на прогулку, пожиравшими всех и вся вокруг меня, покуда я не остался один. Не такая уж это и великая цена – общество некой неразличимой фигуры, смутно напоминающей мне облик какого-то давно умершего человека, которого я едва могу вспомнить и который похож на персонажа моего исторического сочинения. Как сказал человек, просидевший пятьдесят лет в одиночке: мука делить камеру с дьяволом, но все лучше, чем быть одному.








