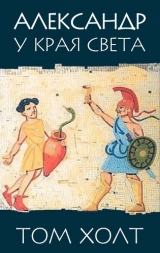
Текст книги "Александр у края света"
Автор книги: Том Холт
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 33 страниц)
Диоген ухмыльнулся.
– Ты сочиняешь, – сказал он. – Звучит слишком прекрасно, чтобы быть правдой.
– Ты бы поверил мне, увидев Крепостную Скалу, – ответил Кориск. – Мы, безусловно, должны были предвидеть подобное развитие событий, но увы, не смогли. Наше правительство было стерто с лица земли в одно мгновение, и не осталось никого, уполномоченного проводить выборы, собирать внутренний совет, номинировать кого-то на должности архонтов и так далее.
Так вот, после того, как мы разобрали завалы и похоронили погибших – занятие довольно утомительное, учитывая, что в обычной жизни мы в основном плели корзины – мы наконец осознали, в каком затруднительном положении находимся. Положение это ухудшалось продолжительной историей внутренних стычек, которая простиралась во времена до основания города. Изначально, видите ли, земля принадлежала потомкам отцов-основателей, и они не желали отдавать ее без драки. По сию пору они составляли влиятельную долю жителей города и добивались возвращения исходной конституции, которая была, конечно, совершенно олигархической.
– Уверен, вы не пошли у них на поводу, – заметил кто-то. – Это, безусловно, был бы шаг назад.
Кориск кивнул.
– О, конечно же, нет, – ответил он. – Геоморои – так мы называли семьи отцов-основателей – были столь непопулярны в торговом сообществе, что дело шло к гражданской войне. Торговали мы весьма активно, как и любая колония на Черном Море, и сообщество это было весьма обширно.
– Так что же вы предприняли? – спросил Мемнид.
Кориск поднял свою чашу, чтобы ее снова наполнили.
– К этому я и подхожу, – сказал он. – Но сначала я расскажу, как мы пришли к окончательному решению. В конце концов, решение это было принято не на пустом месте, и истинно научный метод…
– Да, да, – вмешался кто-то. – Продолжай. Звучит занятно.
Молодой племянник Мемнида подхватил пустую чашу и снова наполнил ее. Когда чаша вернулась к Кориску, тот продолжил свою речь.
– К этому моменту собрались практически все граждане, – сказал он. – Поэтому те немногие, кто еще кое-как соображал, засуетились, вооружившись красными веревками…
– О, вы тоже так делаете? – вмешался Аристотель, шаря в рукавах в поисках восковых табличек, без которых он не выходил из дому. – Это интересно.
(Они говорили о длинных веревках, окрашенных в красный цвет, которые афинская городская стража обычно растягивает через агору и затем, прямо перед началом Собрания, медленно тянет вперед, сгоняя народ с площади и прямо в Собрание. Всякий, кто проявляет нежелание отдать свой гражданский долг, получает широкую красную полосу через всю спину и должен терпеть шутки друзей и родственников, пока краска не сойдет. В старые времена демократия в Афинах была обязательной; на самом деле, после окончания одной из наших маленьких и ужасных гражданских войн Совет постановил, что всякий, кто в завершившейся кровавой бане не поддерживал ту или иную сторону, обрекался на крупный штраф и поражение в правах. Безразличие, как ты можешь заметить – не наш путь.)
– Так или иначе, – продолжал Кориск, пытаясь не выказать раздражения, вызванного вмешательством, – когда всех собрали, один из жрецов Диониса – из того, что у нас осталось, он больше всего напоминал представителя власти – поднялся и сказал, что мы все будем стоять здесь, пока не примем решение по новой форме конституции подавляющим большинством голосов. А чтобы мы быстрее соображали, он приставил к колодцу шестерых храмовых стражей и именем бога приказал сбрасывать в него каждого, кто попытается напиться воды до окончания дебатов. День был жаркий, а по стражам было видно, что свое дело они разумеют; дебаты, соответственно, получились очень конструктивные и упорядоченные.
Я не буду утомлять вас порядком выступлений или подробностями аргументации – точнее, буду, но не сейчас; я собираюсь как-нибудь их записать, потому что некоторые из них были весьма хороши. Достаточно сказать, что голосование состоялось уже во второй половине дня, необходимое большинство было сформировано, и вот что мы решили.
Первое предложение было – монархия. Сперва никто не желал с ним соглашаться, но некоторые аргументы за это устройство – последовательность, непрерывность, законодательство, находящееся превыше партийных или личных интересов – было трудно отрицать. Согласились с тем, что было бы неплохо включить положительные стороны монархии, если удастся исключить ее изъяны.
Затем кто-то предложил демократию – полную демократию в стиле Афин. Сначала это было очень популярное предложение, но потом мы приняли во внимание его недостатки; решения, принимаемые не на основе информации, а по воле толпы, иррациональная перемена настроений, склонность большинства обрушиваться на меньшинство, если эта склонность ничем не сдерживается, опасности безразличия народа и так далее. И снова мы должны были принять факты как есть и согласиться с тем, что чистая демократия – со всем уважением к присутствующим – крайне неприятное место для жизни, все равно как в доме на краю активного вулкана.
Еще кто-то выдвинул идею олигархии, которая была поддержана обычным крикливым меньшинством. Предложение это не прошло, однако мы должны были согласиться, что нравится нам это или нет, а олигархия имеет некоторые положительные стороны – это опять непрерывность и последовательность, правящие группы, как правило, состоят из профессиональных правителей, а не любителей, и потому от них можно ожидать правильных, пусть и непопулярных решений – то есть большинство преимуществ монархии, притом без необходимости вручать свои жизни и имущества в руки всего одного человека.
Очевидные недостатки каждого из выдвинутых предложений обсуждались также весьма страстно, и игнорировать их мы просто не могли. Все они были хорошо известны – царей невозможно удержать в рамках, олигархи более управляемы, однако склонны поощрять коррупцию и рост монополий, демократии пожирают своих детей, как рассеянные свиноматки. Один из горожан выдвинул идею избираемой олигархии, объединенной с двумя другими предложенными системы: каждые три года или около того Собрание избирает Совет из двух-трех сотен членов, которые управляют городом, как олигархи, до следующих выборов. Этот человек, кажется, так и не понял, чем его предложение так развеселило сограждан, хотя некоторые из них и пытались объяснить ему, что да, он придумал весьма изящный сплав двух концепций, но при этом безошибочно выбрал их худшие составляющие, что должно привести к постоянным склокам между группами членов совета, рвущих друг друга зубами и когтями в попытках склонить на свою сторону избирателей, чье мнение безусловно будет иметь для них куда большее значение, чем процветание города и его обитателей. У него получилась ухудшенная версия правления великих демагогов, таких как Клеон, Гипербол, Ферамен и им подобные, с успехом и неоднократно уничтожавших Город. Постепенно до этого человека дошел смысл предъявляемых к его идее претензий; он извинился за зря потраченное время и уселся на место.
И тут другой человек озвучил действительно хорошую идею, или скорее серию идей, объединенных общей темой: абсолютная власть, сдерживаемая страхом смерти.
Прежде всего, на вершине его системы должны были располагаться цари. Не единовластный царь, а именно цари – двое, как в Спарте; Большой Царь, возглавляющий армию на войне, и Малый Царь, который должен заправлять делами в отсутствие первого. Каждый царь располагал правом вето на любое предложение своего коллеги; пять вето – и нарушитель будет сброшен с Крепостной Скалы без всякой жалости и права помилования. Каждые десять лет Совет реализует право казнить или изгнать любого из царей или обоих сразу, но только по результатам их собственных деяний, совершенных без одобрения Совета.
Далее, в отношении Совета, который формируется из пятисот богатейших горожан, мы позаимствовали у Афин Жалобу на Противозаконие…
(ах да, «графе параномон»: если некто предлагает закон, который, будучи принят, приведет к изменению конституции, то он может быть привлечен к суду и приговорен к смерти, если его вина будет доказана. С другой стороны, если обвинитель не сможет набрать определенную долю голосов присяжных, то казнят уже его. По каким-то причинам афинская конституция не меняется веками даже в мелочах.)
– ... которую мы слегка видоизменили, так что любой из членов совета мог выдвинуть обвинение против предложения любого другого члена совета, и проигравшего ждали цикута или полет со скалы; чтобы уравновесить эту меру, постановлялось, что каждые пять лет Собрание могло выразить недоверие любому члену совета, виновному в заключении секретных сделок, направленных на уклонение от конфронтации, результатом которой может быть смерть обеих сторон, и казнить его. В дополнение к этому, цари и члены совета могут вводить любые налоги, но каждый год они должны отчитываться по всем собранным и потраченным средствам перед Собранием, а за недостоверный отчет царь или казначей Совета карается смертью.
И наконец, отправление общественных должностей было обязательным, под страхом смерти; таким образом, если вы оказывались следующим в очереди на трон или место в Совете, отказаться было невозможно. Это положение давало то неоценимое преимущество, что в любой момент времени по крайней мере девять десятых от состава правительства занимали свои посты против воли, что сводило шансы попадания власти в руки властолюбца к приемлемому минимуму.
Последовало продолжительное молчание.
– И эта система действительно работает? – спросил наконец кто-то. – В смысле, город на самом деле управляется таким порядком?
– По меньшей мере последние сто двадцать лет, – ответил Кориск.
– Понятно, – пробормотал Аристотель, левой рукой потирая подбородок, а правой яростно строча на табличке. – Могу я спросить, сколько царей и членов совета, по приблизительной оценке, были казнены за этот срок?
Кориск улыбнулся и взял чашу вина.
– Ни одного.
Глава пятая
Царь Македонии Филипп начал свое правление с серии тяжелых войн против, как казалось, неистощимых сил дикарских и варварских племен, которыми кишат гористые пустоши к северу и западу от его владений – иллирийцев, фракийцев, фессалийцев, трибалов, пеонов и гетов. Ко всеобщему удивлению он побил их всех, и, что еще более удивительно, вместо того, чтобы сжечь их деревни, перебить мужчин и продать в рабство женщин и детей, он умудрился превратить большинство этих полулюдей в добрых македонцев или, как минимум, в их ближайшее подобие.
Все это представляло для афинского наблюдателя некоторый интерес: мы смаковали странные истории с гор, и к тому времени, конечно, уже с определенным вниманием следили за последними отчетами из этой области, поскольку имели в тех местах ценные для города колонии, населенные истинными афинянами, покинувшими Афины по резонам, связанным с предпринимательствам или состоянием здоровья.
Интерес этот вырос, когда Филипп, исчерпав запасы волосатых дикарей, пригодных к уничтожению или приручению, повернул на юг. Это долгая история и весьма печальная для любого афинянина. Короткая версия: он начал именовать себя стражем Аполлона; мы всегда полагали, что Аполлон – как-никак божество – достаточно велик и страшен, чтобы присмотреть за собой самостоятельно, но как выяснилось, ошибались; Филипп обратил внимание, что нечестивые мерзавцы из Фокиды аннексировали священный храм и дельфийского оракула, получили в свое распоряжение огромные финансовые резервы, сосредоточенные там (Аполлон являлся почетным банкиром греческих городов; лично я находил это весьма странным; в конце концов, он все-таки бог, то есть тот, кому вы не доверите присмотреть за своим плащом в бане, а не то что за сбережениями всей жизни) и ведут себя в высшей степени неуважительно. К тому моменту, когда ему удалось измыслить повод для вторжения, виновник захвата храма был мертв, а его приспешники рассеялись; тем не менее Филипп двинул свои силы вперед, растер фокидян в труху, прикарманил парочку плохо лежащих городов и забрел еще на пятьдесят миль южнее, по всей видимости, заблудившись; тут, у знаменитого прохода Фермопилы, его поджидала афинская армия. Мы бросили сюда наши силы, чтобы защитить свои колонии, копи и другие ценности, просто чтобы Филипп по рассеянности не уронил их к себе в рукав, как иной раз гости прихватывают на обеде всякие мелочи; в этот раз Филипп понял намек и дальше не двинулся.
Так или иначе всякий, кто никогда не слышал о Филиппе раньше, узнал о нем теперь, а мы оказались в неловком положении людей, у которых вдруг появился шумный антисоциально настроенный сосед, дети которого воруют яблоки из соседских садов, а собаки – гоняют соседских овец.
Пустяки, думали мы все, за исключением человека по имени Демосфен, профессиональный юрист-заика, который начал произносить в Собрании тревожные речи вскоре после пикника, устроенного Филиппом в Фессалии. Демосфен был одарен красноречием, и слушать его жарким, ленивым утром, когда больше нечего делать, было одно удовольствие. Едва пробегала весть, что он собирается выступать, в Собрании становилось людно; но особого внимания на него никто не обращал. Сама идея о том, что дикий, завернутый в овчину Филипп может представлять для Афин серьезную угрозу, казалась фантазией, столь же умозрительной и забавной, как старая комедия Аристофана, в которой женщины захватили власть в Афинах и принялись голосовать в Собрании. Мы, афиняне, любим комические фантазии.
Недавно я повстречал человека, который рассказал мне историю о юном Александре, сыне Филиппа; по его словам, событие это произошло как раз в это время. Я убежден, что история эта частично или даже целиком лжива – ты чуть позже поймешь, почему – но зерно истины в ней может быть, поэтому я пересказываю ее здесь, а ты можешь поразмыслить над ней сам.
Контекст, Фризевт: ты, вероятно, уже знаешь, что у нас, греков, есть истории о могучем герое Геракле, сыне самого Зевса. Согласно этим историям, первое деяние Геракла, отметившее его как героя, заключалось в удушении голыми руками двух змей, забравшихся к нему в колыбельку, когда ему было едва несколько дней отроду, и собиравшихся его ужалить. Итак, этот человек рассказал мне, что жена Филиппа Олимпиада решила, будто ее сыну требуется достойный жизненный старт, не хуже, чем у Геракла, и потому выпустила к нему в постель двух престарелых, беззубых змей; замысел ее заключался в том, что юный царевич (который был уже достаточно взрослым, чтобы справиться со змеями, и знал историю Геракла), поймет намек, распознает прекрасную пропагандистскую возможность, удавит незадачливых гадов, а остальное доделает богиня Сплетня. План удался на славу, но до определенного момента. Змеи свою работу выполнили, двигаясь по дорожке из живых муравьев, увязших в пролитом меду до самой постели царевича; Александр заметил их и, быстрый как молния, выхватил кинжал из-под подушки (о наличии которого никто не подозревал) и отсек им головы быстрее, чем ты произнес бы слово «чеснок». Пока что все хорошо.
К несчастью, следующее, что сделал Александр, это выбежал в главный зал дворца, швырнул обезглавленные останки на колени матери и очень громко потребовал от нее объяснений, почему она желает ему смерти. Это поставило Олимпиаду в весьма неловкое положение – она не могла сказать правду без того, чтобы не оказаться полной идиоткой, однако улики в виде мертвых змей и следа из муравьев и меда со всей очевидностью указывали на попытку убийства. Поэтому Олимпиаде пришлось обвинить в ней мелкого македонского вельможу и его жену и тут же предать их смерти; Филипп, узнав об этом, пришел в раздражение и на некоторое время поссорился с женой.
Как я говорил чуть раньше, ты скоро поймешь, почему я не могу считать эту историю полностью правдивой. Но в образ Александра, расталкивающего изумленных придворных и тянущего за собой пару мертвых змей, как другие дети его возраста тянули бы деревянную лошадку или еще какую игрушку – в этот образ я верю; и если это не правда, то должно быть ею. Поэтому, включая этот рассказ в свою книгу, я придаю ему некоторую степень достоверности и, таким образом, улучшаю историю.
Афиняне моего поколения развлекаются мнемонической игрой – это своего рода соревнование в памятливости.
– Где ты был и что делал, впервые услышав об Олинфе? – спрашивает, например, один другого.
– Подрезал виноград, – отвечает тот.
– На рынке.
– В Собрании, конечно.
– Помнишь тот бордель на улице Треножника? Так вот, я как раз возвращался оттуда и встретил двоюродного брата, он мне и рассказал... .
Но это и в самом деле так – каждый помнит, когда он услышал ту или иную новость. В эти моменты – достаточно редкие, благодарение богам – ты чувствуешь, как внешний мир прорывается сквозь стены, которые ты возводишь, чтоб удержать его за пределами собственной жизни, подобно потоку, размывающему плотину, и ты внезапно оказываешься по щиколотку в истории, и уровень повышается гораздо быстрее, чем ты можешь бежать.
Я был в Паллене, как ни странно, и помогал своему брату Эвтифрону. Одни боги знают, что я там делал; однако Эвтифрон, когда я столкнулся с ним на улице, говорил таким жалобным голосом, рассказывая, как он в одиночку пытается сделать всю работу, которую должна быть сделана в середине лета на отчаянно каменистом участке вроде его – и не справляется с ней.. Я предложил поменяться тут же с ним местами; он притворился, что не расслышал.
– Помнишь террасы в горах? – вздохнул он, навалившись на свой посох, как семидесятилетний старик (он был на год младше меня). – Три вспашки за лето, не меньше; нет, в самом деле – это абсолютный минимум, а хочешь добиться хоть чего-нибудь – четыре. Меньше трех, и осенью ты понимаешь, что только зря потратил посевное зерно.
– Не могу не согласиться, – ответил я. – И это заставляет меня спросить, почему ты здесь, в городе, вместо того чтобы работать в поле?
Я не помнил, чтобы Эвтифрон когда-нибудь жаловался на слух, но что-то с ним с тех пор случилось, видимо, потому что меня он почти не слышал.
– И как будто этого недостаточно, – продолжал он, – проклятый плуг практически разваливается – лемех тонкий, как лист, а то место на дышле, которое отец починил, обмотав сыромятью – помнишь? Так вот, она начала слезать, но где я возьму сыромятную кожу в это время года? Такое уж мое везение, что мне достался раздолбанный плуг, а не…
– Мое сердце разрывается, – прервал его я. – Конечно, тебе не пришло в голову взять и сделать новый.
Это он расслышал прекрасно, должно быть, поскольку наклонил голову, как ворона, сидящая на трупе, и одарил меня тем особым мрачным взглядом, каким работяга-земледелец смотрит на безземельного горожанина.
– Тебе хорошо говорить, – сказал он. – О, да, ты устроился неплохо, а сам забыл уже, что значит настоящий труд. Ну так вот, я тебе скажу. Просто у меня не хватает денег, вот и все, с женой и четырьмя-то дочерьми на горбу; крыша старого амбара требует починки – но у меня нет на нее времени, я бы лучше нанял плотника, и имеешь ли ты малейшее представление…
Я уж было собирался купить ему новый плуг в качестве мирного предложения; но то, как он обставил это, подразумевало, что это будет не подарок, а кровные деньги, которые я отдам, чтобы отвратить от себя гнев двадцати поколений суровых аттических земледельцев, которых я предал, повернувшись спиной к родной земле и предпочтя ей жизнь в персидской роскоши. Благослови его боги, конечно, он не затаил на меня зла за этот откуп. В качестве вознаграждения (хотя на самом деле я всего лишь отдал запоздалый долг) он позволил мне помочь ему со вспашкой, и таким образом восстановить контакт с лучшей частью себя самого, которую я запер в некоем темном закутке разума. Пока Эвтифрон игрался дома с новым плугом, я с его позволения взял старый, этот хрупкий предмет седой старины, и отправился на верхнюю террасу, где камни были размером с человеческую голову и на мой взгляд, росли из земли быстрее винограда.
– Пожалуйста, поосторожнее с ним, – сказал он мне почти умоляющим тоном, когда я запрягал волов.
– Если трещина на пяте разойдется чуть больше, он будет годен только на растопку.
И вот, когда я, забравшись под небеса, как орел, бережно, будто нянька, повел эту дряхлую развалину сквозь слой почвы, больше напоминающий слой пыли, по террасе, ширина которой не слишком превышала ширину моих плеч, мимо, вниз по склону, промчался наш сосед.
Я знал Херея всю свою жизнь – двадцать шесть лет, если тебе это интересно – и ни разу за все эти годы не видел, чтобы он бегал. Мне даже в голову не приходило, что он на такое способен. Насколько я мог судить, Херей только култыхал – бодро култыхал поутру, мучительно медленно – под вечер, когда он тащил свои усталые кости домой (причем вежливость требовала, чтобы я, нагнав его на обратном пути, остаток пути проделал вместе с ним, в его темпе; ты представить себе не можешь, как это выматывало). И тем не менее вот он, мчится вниз по холму, как олень, преследуемый по пятам гончими. Я отпустил рукоять, снял ногу с подножки и уставился на него, совершенно ошарашенный.
– Херей! – окликнул я его.
– Не могу остановиться!
Он увидел плуг, когда тот уже был прямо перед ним, но скорость его была так велика, что обогнуть его было невозможно. Вместо этого Херей перелетел через плуг мощным прыжком, как барьерист-чемпион на Играх. Человек двадцатью годами младше него мог бы гордиться таким прыжком.
– Херей! – завопил я ему вслед. – Что происходит, будь оно неладно?
– Македонцы! – крикнул он. – Они приближаются! Беги!
К этому моменту он был слишком далеко от меня, но я не мог этого так оставить. Я бросил плуг и упряжку – огромное преимущество девятилетних быков в том, что они умеют стоять – и последовал за ним со всей скоростью, какую осмелился набрать на этом склоне, но до него мне было далеко. Догнал я его только у деревни, где он смешался с толпой односельчан, окруживших двух наших соседей, которые что-то вещали о Филиппе Македонском…
Вообще-то ничего такого уж неожиданного не произошло. Филипп уже некоторое время играл в войнушку на Халкидики, пытаясь угрозами и запугиванием заставить наших местных союзников и наши колонии отколоться от нас и перейти на его сторону; мы же по какой-то причине никак не могли набраться энтузиазма, достаточного для отправки армии, которая с ним бы разобралась. Я думаю, виной тому события у Фермопил, где, как ты помнишь, один вид афинской армии, держащей проход, погнал его прочь с поджатым хвостом, как лису, встретившую овчарку. Посылать несколько дешевых наемников никому не хотелось – рано или поздно мы соберемся и продемонстрируем свою мощь, так что он улепетнет обратно в свои горы, к состязаниям в пьянстве с вождями варварских племен. Ведь он, в конце концов, всего лишь македонец; они, может быть, и напоминают слегка истинных греков, но это ничего не значит. Дикарь – это дикарь, когда ты выходишь против него, он бежит. Всем это известно.
Новости, взорвавшие этот летний день на двадцать шестом году моей жизни, заключались в том, что Филипп Македонский штурмом взял Олинф, который был главным городом Халкидики и верным союзником Афин; прорвавшись за стены, македонцы учинили массовую резню, после чего согнали десять тысяч выживших и отправили их в железах на продажу.
Много речей было сказано в то время – и очень неплохих речей, богатых на запоминающиеся фразы. Но лучше всего из того дня мне запомнился старый Херей, перепрыгивающий второй по качеству плуг моего брата с выражением такого ужаса на лице, будто Великий Царь и девяносто тысяч его лучников наступают ему на пятки.
– Они приближаются! – кричал он, но тут он слегка отстал от времени. Они уже пришли, просто мы этого не заметили.
Чрезвычайные времена выводят на первый план исключительных людей; и время падения Олинфа было как раз таким. В час нужды Афины обратились ко мне, Эвксену, сыну Эвтихида из демы Паллена, человеку, исключительно неподходящему для предстоящей ему задачи.
Афинское посольство к Филиппу подобралось пестрое. Здесь был Эсхин, который до ухода в политику подвизался на сцене. Здесь был Демосфен, законник, здесь был Филократ, серьезный и совершенно запуганный человечек, который понимал Филиппа так хорошо, что его даже включать в состав посольства было нельзя, не то что доверять ему руководство – в присутствии Филиппа он смотрел на него с видом бессловесного смирения, как слеток – на хорька, ибо был совершенно уверен, что это только вопрос времени... Послов было десятеро. Поправка: послов было девять плюс я. Домогаясь у родственников и друзей сведений о возможных причинах моего назначения, я получил широкий спектр достоверных соображений, ни в чем не сходных между собой.
Моя невестка Праксагора предположила, что меня выбрали из-за привычки Филиппа умерщвлять посланцев, а кого еще можно было потратить с такой легкостью? Мой брат Эвдор, который был профессиональным актером, придерживался мнения, что мне предназначена роль официального козла отпущения, ничтожества, на которого Эсхин и Демосфен могли бы свалить неудачу всего предприятия. Диоген ухмыльнулся и сказал, что я должен вызвать у Филиппа ощущение полной безопасности. Так или иначе, я поехал.
Прежде чем я расскажу тебе об этом достопамятном событии, мне надо сделать небольшую паузу и предаться нарциссическому самосозерцанию. В свои двадцать шесть лет я был одним из самых высоких людей в Афинах. Где-то между тринадцатью и семнадцатью годами я рванул вверх с невероятной скоростью – люди говорили, что можно стоять рядом и смотреть, как я расту, пока не затошнит. Некоторые считали, что именно из-за своего исключительного роста я начал лысеть в довольно раннем возрасте. На такой высоте, говорили они, не может расти ничего, кроме лишайника и самых живучих видов горных трав. Большинство высокорослых уродов, которых я встречал в жизни, были тощими и гибкими, будто сделанные из воска, так что тела их гнулись в любом месте. Я был не таков. Несмотря на то, что я перестал работать на земле довольно рано и никогда не упражнялся без крайней нужды, плечи у меня были широкие, а предплечья толщиной с иные икры. Я мог поднять большой масляный кувшин, какие обычно носят вдвоем —то есть как правило я этого не делал, но мог бы, если бы захотел – и после тринадцати лет драки и проявления агрессии случались с другими людьми, а не со мной. Оглядываясь назад, приходится признать, что это было скорее недостатком.
В любом деле, требующем выносливости, я сразу проигрывал. Мой маленький братец Эвмен, например, мог пройти под моей вытянутой рукой, не нагибаясь, а когда мы шли куда-нибудь вместе, ему приходилось переходить на рысь, чтобы не отстать. Но если нам случалось идти в гору, то очень скоро он начинал нетерпеливо притоптывать ногами, дожидаясь меня. Эвмен, конечно же, был земледельцем.
Когда афинян спрашивает: «Как выглядит то-то и то-то?», он на самом деле имеет в виду «Красиво ли это?». Для афинянина это весьма важная информация в рамках концепции красоты-добра и уродства-зла, которой я уже касался раньше. Мы считаем красоту печатью, оттиснутой на мягком воске наших лиц при рождении, чтобы с одного взгляда на нас можно было определить, добры мы или же злы. По этому критерию я относился к посредственно-никаким – пожалуй, верно (что не отменяет моего неверия в концепцию как таковую). Облысение в Афинах рассматривается как некая забавная странность, что-то вроде рассеянности, ношения иноземных или неподходящих к случаю одеяний и легких случаев клептомании; мне давали понять, что хотя не замечать этого невозможно, но и винить меня особенно не за что.
(Ты улыбаешься, Фризевт; думаешь, если я тебя не вижу, так и не догадаюсь. Но это правда: в молодости я был очень высок, и если бы я мог воспользоваться этим смехотворным предлогом, чтобы распрямить спину, я бы доказал тебе это. Ладно, можешь мне не верить, если не хочешь, но единственным встреченным мной человеком заметно выше был македонец Гефестион, друг Александра, тот самый, которого персидская царица приняла за Александра, поскольку он был выше всех в комнате. И нет, я не знаю, почему я придаю этому такое большое значение. Полагаю, из-за того, что только в этом я превосходил своих сородичей, и безо всякой разумной причины в глубине души горжусь своим ростом, хотя нет в том никакой моей заслуги).
Филократ должен был проинформировать нас обо всем на корабле, чтобы к моменту прибытия в Македонию мы располагали всеми необходимыми сведениями и были готовы к любому поручению, которое величайший на тот момент переговорщик вздумает на нас возложить. Однако Филократ страдал морской болезнью. Невыносимо страдал. Говоря точнее, он так чистосердечно и беспрерывно страдал ею, что заставил меня серьезно задуматься о теории перерождения душ, предложенной великим Пифагором и не так давно развитой знаменитым Платоном. Она никогда меня особенно не занимала, но глядя на Филократа, неутомимо блюющего в Эгейское море, Эвбейские проливы, Пагасийский залив и Фракийское море, я пересмотрел свое отношение. Было совершенно очевидно, что Филократ изверг съеденную в течение всей его жизни пищу еще до того, как вдали завиднелся мыс Сунион, поэтому то, что выходило из него в дальнейшем, могло быть съедено только в предыдущих инкарнациях.
Что же до других моих коллег, то Демосфен и Эсхин находились в столь яростном несогласии друг с другом по любому вопросу, что я не решился их спрашивать ни о чем, опасаясь развязать войну, на фоне которой разрушение Олинфа показалось бы вежливым обменом мнениями; остальные, как оказалось, знали не больше меня. Таким образом я лишился серии вводных лекций о текущем кризисе, македонской культуре и прошлом этой страны, а также о стиле ведения переговоров, свойственном царю Филиппу. С другой стороны, как заметил один из послов, чтобы скулить о пощаде, не нужно обладать обширными познаниями или глубокой подготовкой, так что невелика потеря.
Ты, Фризевт, уж конечно ни разу в жизни не видел корабля, поэтому я ожидаю от тебя напряжения всех умственных мускулов, иначе ты не сможешь вообразить, на что похоже это удивительное сооружение. Попробуй вот как.
Представь довольно глубокую круглую глиняную чашу, все еще влажную, только что с гончарного круга; но ты не знаешь, что она еще не отвердела, поэтому берешь ее в руки и твои пальцы сдавливают ее края, так что в результате она становится немного похожа на половинку персика. Из середины у нее торчит ствол высокого дерева, очищенный от ветвей. К верхушке этого ствола привязан под нужным углом другой ствол, поменьше, а с него свисает полотняный мешок, который ловит ветер – это парус.








