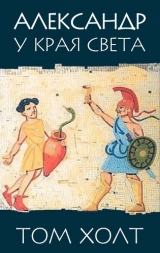
Текст книги "Александр у края света"
Автор книги: Том Холт
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 25 (всего у книги 33 страниц)
Особенно мне запомнился один день: я заседал в жюри, рассматривающем запутанное дело о мошенничестве, а доказательства были скучны настолько, насколько это вообще возможно. Я, должно быть, был моложе самого молодого из присяжных лет эдак на двадцать. Неподалеку расположилась пара завсегдатаев – мы называли их "живыми трупам", поскольку они были такими старыми и иссохшими, что под тонкой кожей можно было разглядеть кости – и вела беседу, которая завязалась лет десять назад. Едва начинались слушания, они принимались разговаривать. Когда суд распускали на ночь, они прерывались посреди фразы и расходились по домам.
На следующий день разговор возобновлялся с той самой точки, на которой был прерван. Никто бы не смог разобраться, что является предметом этой марафонской беседы. Она как-то касалась ссоры между их сестрами, давно покойными, но поскольку они то и дело углублялись в побочные материи, понять, в чем суть, не представлялось возможным.
Сидящий рядом со мной быстро заснул; и не он один, если уж на то пошло. По другую сторону сидел другой старикашка, весь день потихоньку напевающий себе под нос; просить его прекратить было бессмысленно, и даже удар локтем под ребра не имел эффекта. Прямо передо мной располагался другой старик – этот разговаривал сам с собой, а рядом с ним восседал другой знаменитый присяжный, по прозвищу Океан, которого удостоился за то, что никогда не иссякал (однако знаменитость ему принесло обыкновение внезапно опорожнять горшок на расположенные ниже скамьи).
Это было в начале моей юридической карьеры, и я еще не оставил попыток разобраться, что здесь вообще происходит; но благодаря храпу, журчанию, гудению, бормотанию и пронзительным голосам Живых Трупов – это если не упоминать солнечный жар и твердость скамей – безнадежно запутался в первые же полчаса. Когда наступило время голосовать, пристав разбудил спящих и погнал нас со скамей к урнам. Белые камешки означали «невиновен», черные – «виновен»; правда, камешки мы должны были приносить свои, а белые найти труднее. Так или иначе, мы проголосовали и приговор был: виновен, так что мы снова расселись, чтобы выбрать наказание. Мои соседи не затруднились: они вонзили когти в воск и рванули со всей силы, как кот – мертвую мышь, проведя длинные борозды через всю табличку: смертный приговор. Когда его огласили, законник, выступавший на стороне обвиняемого, поднялся и попытался объяснить, что за данное преступление не предусмотрен смертный приговор; оно наказывается штрафом или, в худшем случае, изгнанием. Едва он уселся, как подскочил его оппонент и потребовал от нас обвинить защитника в оскорблении суда, коль скоро тот попытался опротестовать решение квалифицированного жюри. В результате нам пришлось голосовать еще раз, а поскольку это было последнее дело в тот день, то камешки у нас уже кончились. Пристав, однако, нашел выход из положения; он нашел торговца бобами и конфисковал его товар, а затем распорядился использовать бобы вместо камешков. Бобы эти были темно-коричневыми, почти черными, так что адвоката признали виновным и пристав пустил по кругу восковые таблички. Несколькими минутами позже он объявил, что присяжные выбрали смертный приговор, который является законным в случае оскорбления суда; произошло вот что: поскольку нетронутых табличек уже не оставалось, раздали те, по которым определяли наказание для предыдущего подсудимого, забыв объяснить, что их следует перевернуть.
После окончания заседания я из праздного интереса остановил одного из стариков и невинным тоном поинтересовался, что означает длинная черта через всю табличку.
– Она означает, что он виновен, конечно, – сказал старик.
– Правда? Я думал, для этого служат камешки.
– О. – старик на мгновение задумался. – Нет, – сказал он. – Ты не прав. Я хожу в этот суд уже сорок лет и всегда так делал, и никто ни разу мне ни сказал, что я ошибаюсь.
Постепенно я выяснил, что произошло в Антольвии.
Выжил один горожанин – один. Это был иллириец, который спрятался в яме-зернохранилище. Когда его амбар подожгли, крыша рухнула таким образом, что образовался карман, воздуха в котором хватило до конца пожара, поэтому он не задохнулся дымом; но он пролежал там две недели, придавленный упавшей балкой без возможности сдвинуться с места, пока волею случая не был обнаружен одессосцами, пришедшими поглядеть, не уцелело ли зерно. Он выжил, питаясь сырым зерном и каплями воды из мельничного канала, которая разлилась, когда в канал рухнул дом, и потекла по полу амбара. Поскольку пол был хорошо утоптан, вода не впитывалась в него и достаточное ее количество стекало в яму, так что он ловил капли губами и не умер от жажды. Придавило его так надежно, что ему пришлось отрезать обе ноги, чтобы вытащить.
Когда он снова обрел способность говорить, то рассказал, что помнил, то есть немного. Накануне вечером он напился и не смог дойти до дома; добрел до амбара приятеля, залез в него и устроился на куче сена. Когда началось нападение, его разбудили крики и вопли; он сразу сообразил, что происходит, нырнул в яму с зерном и стал надеяться на лучшее. Вышло так, что упал он головой вперед и едва не утонул в зерне; это было, как плыть сквозь грязь, сказал он, зерно набилось в рот и в нос, так что он чуть не задохнулся.
А вообще он не был удивлен тем, что произошло, учитывая, что Генерала убили, а ойкист уехал пару дней спустя, забрав с собой волшебных змей, защищавших город. Совершенно очевидно, сказал он, что змеи предупредили ойкиста о надвигающейся беде и посоветовали уносить ноги, пока жив.
Сложнее оказалось разобраться со скифской стороной истории. В сущности, прошел целый год и я практически потерял надежду узнать правду, когда случайно познакомился со скифским стражником (он арестовал меня за то, что я уснул в одном из своих любимых питейных заведений на агоре). Когда он узнал, что я недурно изъясняюсь на его родном языке, то был весьма впечатлен и отпустил меня; затем он спросил, где я научился скифскому. Я сказал – где, и он впал в задумчивость.
Нападавшие, как выяснилось, были из его народа, савроматов; точнее говоря, это был бродячий отряд, сбежавший после поражения в некой гражданской войне и подавшийся на юг, через земли ализонов и далее в населенные области. Он сам не был в этом отряде, но зато там был его двоюродный брат, который и рассказал ему всю эту историю. Как раз тогда я и узнал историю богача, чей сын похитил лошадь, и все остальное. Когда мы сожгли деревню, богач объехал другие деревни, угрожая, что каждая из них может стать следующей. Все крайне взволновались, как ты можешь вообразить, но никому не улыбалось решать проблему своими руками, поскольку мы были столь воинственны и безжалостны. Затем волею случая появились эти изгнанники-савроматы, которым немедленно и поручили атаковать колонию. Они ответили, что воевали с собственными соплеменниками, с царскими скифами, с ализонами и персами; горстке греков их не запугать. Их было примерно семь сотен, насколько я понял, и все при лошадях.
Прежде чем напасть, они заслали в город лазутчиков, прикинувшихся ищущими работы наемниками. Их отослали, поскольку Генерал погиб, а ойкист уехал, и в данный момент заниматься безопасностью и обороной было некому; дело это считалось задачей старейшин (полагаю, он имел в виду Отцов-Основателей), но они не смогли решить меж собой, кто должен взять на себя эту роль, а тем временем на стенах даже не выставляли стражу.
Атака, сообщил мне мой друг-стражник, оказалась сущим разочарованием, к вящей скорби воинственных савроматов. Они взялись за работу не только ради денег (небольших, к слову сказать, поскольку деревни и в лучшие времена едва сводили концы с концами), но и чтобы помериться силами с непобедимыми греками, но когда при свете дня пошли на штурм, то обнаружили открытые настежь ворота и всякое отсутствие сопротивления. Перебив жителей и спалив все в городе, они прочесали поля, согнали скот и сожгли посевы, прежде чем убраться восвояси.
После этого деревенские, сформировавшие альянс против Антольвии, собрались и решили, что не могу здесь оставаться, поскольку другие греки захотят им отплатить, а савроматы откочевали и оставили их без защиты. Поэтому они поступили так, как всегда поступают скифы перед лицом вторжения – разрушили все постройки, сожгли посевы, отравили колодцы, погрузили добро на кибитки и отправились на север, в земли кочевников. Вскоре после этого я узнал, что Ольвия и Одессос решили не предпринимать ничего: в конце концов, скифы ушли и вся область пришла в запустение.
Но поскольку Антольвия номинально считалась македонской колонией, они отправили петицию Александру, прося отомстить за резню и прислать карательную экспедицию. Александр получил послание и ответил, но ничего сделано не было; Александр был уже далеко и другие материи занимали его ум.
Ну что ж, надеюсь, богач сумел вернуть сына. Было бы очень печально, если бы все его хлопоты пропали зря. Имени его я так и не узнал, и как историк, сожалею об этом. Долг историка состоит в том, чтобы мимолетные деяния людей, изменяющие форму мира, не остались забыты, а если кто и входит в их число, то это он.
Через месяц или около того после завершения моего дела, убедившись, что мой седьмая-вода-на-киселе родственник упаковал пожитки и отбыл, я вернулся в Паллену.
Все тот же старый дом; отец все собирался снести его и построить что-нибудь получше, да так и не собрался, и во времена моего детства он оставался примерно таким же, каким его построил мой прапрадед. В центре располагался дворик, с двух сторон защищенный простыми стенами необожженного кирпича, а на двух других стояли пристройки с плоскими крышами, соединяющиеся под прямым углом на северо-востоке, образуя главный зал (выходящий на север) и внутреннюю комнату (на восток). Ворота прорезали восточную стену, с верандой на внешней стороне. Северная половина двора затенялась портиком. В целом это и все.
Первое, что я увидел, спускаясь с холма – плоская крыша внутренней комнаты, на которой мы спали в самое жаркое время года, когда находиться внутри было невозможно. Спустившись пониже, я разглядел башню, отдельное строение в нескольких шагах от дома, спрятавшуюся за легкой завесой яблонь. За время моего отсутствия они сильно разрослись – полагаю, никто не потрудился подрезать их – поэтому только сойдя с дороги в миновав два больших валуна – мы называли их Сторожевыми Постами – я смог увидеть сам дом. Если не считать разросшихся деревьев, он был в точности таким, как я его помнил. Даже полумертвая смоковница за южной стеной, которую мы подперли кольями, когда я был еще ребенком, все еще торчала на своем месте, навалившись на свои подпорки, как пьяница на плечи многострадальных друзей. Полуразвалившийся амбар, починку которого мы все время откладывали, все еще стоял, не более и не менее ветхий, чем в нашу последнюю встречу. Старое тележное колесо, которое отец повесил на грушевое дерево для наших игр, так и свисало с ветви, и все так же в нем отсутствовали две спицы. Даже пара ульев стояли в точности там же, где и должны были по моим воспоминаниям.
Я был дома. На самом деле.
Я поднялся на веранду, откинул засов и легонько толкнул дверь. Она открылась на ладонь или около того и застряла. Я уперся в нее плечом, расширив щель настолько, чтобы протиснуться, и попал в главный зал.
Конечно, он был совершенно пуст. Мой разбитый противник вывез всю мебель и утварь, и в первый раз в жизни я видел все четыре угла зала одновременно. Он был гораздо меньше, чем я помнил, двери ниже, очаг уже. Здесь было темнее.
Я уже собирался развернуться и выйти наружу, когда услышал какую-то возню в соседней комнате. Я на цыпочках подкрался к двери и распахнул ее.
– Кто здесь? – спросил я.
Внутренняя комната была столь же пуста и еще более темна.
В тени у дальней стены я разглядел нечто, напоминавшее груду старой одежды.
– Ты, – сказал я.
– Кто это? Эвксен?
Я подошел на шаг ближе. Я не узнал голос, хотя мне и казалось, что уже слышал его раньше.
– Кто ты такой? – спросил я.
– Это я, – ответил голос. – Ты меня не помнишь?
Голос был старческий, тихий, с каким-то акцентом.
– Подымайся, – сказал я. – Теперь это мой дом, а ты в него залез.
– Эвксен, это я, Сир.
Несколько мгновений мой ум оставался чист, как свежая восковая табличка; затем я вспомнил.
– Сир? – переспросил я. – Я думал, ты умер.
Помнишь того раба, который разбил колено во время сбора оливок и, таким образом, стал косвенной причиной смерти отца? Это был Сир.
– Нет, – ответил он. – Нет, а то бы ты заметил.
Я подошел поближе и он поднял голову. Это и в самом деле был Сир. Он облысел, борода стала белой и клочковатой, он был болезненно тощ – когда я последний раз видел его, это был статный круглолицый мужчина – а обвисшие складки кожи под глазами и подбородком напоминали брошенные на пол сумки. Я понял, что он слеп.
– Какого рожна ты тут делаешь? – спросил я.
Он посмотрел на меня – точнее, примерно на шаг вправо от меня, довольно неловкое зрелище.
– Некуда больше идти, – ответил он. – Помнишь, по завещанию твоего отца меня освободили.
– Верно, – сказал я. – Ты собирался заняться канатным делом.
– Так и было, – сказал он, кивая. – Пятнадцать лет проработал в канатных мастерских в Пирее, пока не накопил достаточно, чтобы открыть свое дело. И хорошо оно у меня пошло.
Я подождал пару мгновений, потом спросил:
– И что случилось?
– Пожар, – ответил он. – Жена, мой мальчик, два парня, которые работали со мной, дом, все материалы и запасы... канатное дело – хитрая штука. На самом деле, это смола не дает канатам гнить. Одна искра и... – он улыбнулся; или, по крайней мере его губы сжались и растянулись, а тело легонько содрогнулось. – Меня вытащили, но могли бы и не трудиться. Оставить меня в живых – попусту тратить добрую еду.
– Мне жаль, – сказал я. – Так почему ты здесь?
Он пожал плечами.
– Ну, там, в Пирее, мне не к кому было приткнуться, я бы умер с голода. Но я подумал, а мальчики на ферме – они могли бы присмотреть за мной по старой памяти. Конечно, когда я добрался сюда и узнал, что все они... . . Кроме Эвдема, а ему досталось не сильно лучше моего. В битве он лишился глаза, знаешь.
– Я знаю, – сказал я. – Это напомнило мне вот о чем: ты не знаешь, где он?
Сир повернул голову в мою сторону.
– Ты не знал? Он... Мне жаль, Эвксен. Он тоже умер. Какая-то болезнь, больше я ничего не знаю.
Я вздохнул.
– Значит, вот оно как, – сказал я. – Значит, остался я один. И ты, – добавил я. – Итак, ты явился сюда и узнал, все они мертвы. Что потом?
– Твою двоюродный брат, Филокарп... Он разрешил мне спать в амбаре и есть с поденщиками. Это было доброе дело с его стороны, я-то ему был не нужен. Но он только рассмеялся и сказал, что я перешел к нему вместе с землей, как старый корень, который проще обходить плугом, чем выкопать. Потом он пришел и сказал, что должен уехать назад в Приену, потому что ты выиграл дело. Он не сказал, что я могу ехать с ним, поэтому я остался здесь.
Я немного подумал.
– Хоть что-нибудь ты можешь делать? – спросил я.
Он пожал плечами.
– Честно скажу тебе, Эвксен, очень мало.
Он поднял руки и я разглядел следы ожогов даже в этом тусклом свете.
– Я смогу молоть и вращать маслянный пресс, если кто-нибудь будет засыпать оливки. Вот и все.
– Понятно. Хорошим же наследством ты оказалась.
Я откинул клапан сумки и выудил маленький, полупустой кувшин терпкого вина, который составлял мне компанию по дороге из города.
– Вот, – сказал я. – Угощайся.
Он нащупал кувшин обеими руками и сделал глубокий глоток, оросив вином подбородок.
– Только ты и я, – повторил я. – А я так долго сюда добирался.
Он нахмурился.
– Я не понимаю, – сказал он.
– Не переживай, – ответил я. – Слушай, ты можешь и дальше спать в амбаре, а я прослежу, чтобы ты не голодал. Чем ты занимаешься целыми днями?
– Немногим я могу заняться. В основном просто сижу.
– Довольно скучно, должно быть.
– Так и есть, – сказал он. – Но есть вещи и похуже скуки. Спасибо тебе, Эвксен.
– Забудь, – сказал я. – Не то чтобы я тебя облагодетельствовал.
Он снова улыбнулся.
– Это еще как посмотреть, – сказал он.
Вот так, мой юный друг, после странствий длиной в жизнь и погони за удачей я наконец добился того, что всегда было моим самым сокровенным желанием: удела и достоинства благородного афинянина. Забавно; кабы я знал, что все, что для этого требуется – это дожить до сорока одного, не умерев в процессе, я бы мог остаться дома и болтаться на агоре, зарабатывая на жизнь враньем, а не обучать царских детей или основывая города, и может быть, в таком случае множество людей было бы живо до сих пор – скифов, иллирийцев, греков... Это если не считать изрядного количества персов, мидийцев, бактрийцев, каппадокийцев, армян, гедросиан, дрангиан, рыбоядных эфиопов (называемых так, чтобы отличить их от других эфиопов, которые живут в Африке), азиатов, массагетов, египтян и индийцев, чьи смерти, по всей видимости, частично и на моей совести. Припоминаю рассказ о некоем дикарском царе, который замостил дорогу, пролегающую через его царство, черепами своих врагов. Я могу похвастаться достижением почище. Я добрался от Паллены до Паллены через Македонию и Ольвию, шагая по дороге из трупов моих родственников и друзей.
– Жалость к себе, Эвксен, – шепчешь ты, Фризевт, улыбаясь покровительственной улыбкой терпимой к чужим слабостям юности. – Ты снова преувеличиваешь ради эффекта. Это негодный подход для историка.
Не буду с тобой спорить; тридцать лет назад ты бы удостоился настоящего диалектического сражения, в эти же дни звук собственного голоса, возвышаемого в споре, не вызывает во мне ничего, кроме усталости. Я уступлю, если тебе от этого полегчает. Так или иначе, чтобы высказать мою точку зрения, мне не понадобятся философские фокусы. Представь нас с Сиром, сидящих друг против друга в пустом доме в Паллене; куда более красноречивая картина, чем я мог бы описать словами, даже в лучшие свои годы, когда я был молод и горяч.
Так что не будем скатываться в мелодраму. Днем я не пресмыкался в пепле, как героиня Эврипида; днем я отправлялся в поля – мои поля – и работал, тяжко работал. На некоторое время я превратился в предмет вдохновения для своих соседей.
– Встает до рассвета, – пилили их жены, – и уходит, вооруженный мотыгой, никогда не возвращаясь до темноты, и содержит дом в порядке, не хуже отца, все сам. Почему ты не можешь быть, как Эвксен?
Несмотря на это, им все равно хотелось со мной поболтать. Они хотели услышать эпические истории о далеких землях, о дворе царя Филиппа и детстве Александра («Верно ли говорят, что когда он был еще малыш, то задушил двух змей в колыбели?»), об отчаянных битвах с каннибалами-скифами, а также, конечно, мое мнение о последних новостях с востока.
– Мы слышали, Александр достиг Пасаргад, – говорили они. – Где это?
На это я многозначительно улыбался и говорил, что им не стоит верить во все, что они слышат (хороший совет во все времена, хотя Александр действительно достиг Пасаргад, в какой бы заднице мира те не находились, и повернул на северо-восток к Экбатане). Это впечатляло их безгранично, хотя я понять не могу, что тут такого впечатляющего, и заказывали мне следующую порцию вина.
Коротко говоря, я превратился в уважаемого и процветающего гражданина; можно сказать, в образцового гражданина, в личность, достойную быть частью совершенного общества. Я привел в порядок виноградники, вложил массу усилий в почву, вспахивая ее пятикратно и высеивая бобы в пустой год; я починил стены и шпалеры, подрезал деревья, выровнял террасы, засеял ячменем промежутки между рядами олив, чтобы ни клочка земли не простаивало.
Я накопил денег и купил пару рабов – крепких мужчин, которые работали молча и без устали и не доставляли мне никаких хлопот. Я приблизился к образу Доброго Земледельца настолько, насколько это вообще возможно – к этому энигматическому персонажу, о котором сообщают книги о земледелии, столь любимые людьми типа Аристотеля: «Добрый Земледелец», говорят они, «утруждает себя высеванием вики и люпина на паровой земле, с тем чтобы и вернуть земле силу, и обеспечить зимним кормом свой скот». Когда я был помоложе, то воображал этот образец добродетели, пытался представить выражение его лица, когда он осторожно подносит комочек земли к губам на кончике мизинца, чтобы оценить, слишком ли она кисла, чтобы растить пшеницу, или кроткую улыбку удовлетворения, когда он осматривает цветущие побеги, привитые им к виноградной лозе для повышения урожайности. Однако мне никогда не удавалось ухватить этот образ, пока как-то раз, просматривая одно из этих проклятых руководств, наполненных противоречивыми указаниями, я не осознал, что он – это я.
Эти книги, как бы хороши они не были, не сообщают всего.
В них не говорится, чем добрый земледелец занимает свободное время; что ему делать ночью, когда с починкой сломанных рукоятей с помощью мокрой сыромятной кожи или свиванием полезной веревки из собранных прядей покончено, а он сидит один в пустом доме, вместо того, чтобы отправиться в постель. Впрочем, если подумать, то добрый земледелец и не может оказаться в подобной ситуации, ибо он удачно женился в третьей главе (на предприимчивой, искусной в прядении и ткачестве, способной помочь на поле в страду, не склонной к возлияниям и бегущей сплетен женщине), а в главе пятой их союз был благословлен рождением трех крепких, здоровых сыновей (четыре – это чересчур, поскольку возлагает излишнюю нагрузку на ресурсы хозяйства; двое – недостаточно, потому что один из них может умереть молодым, лишив семью рабочей силы), которые унаследуют все в грядущей главе номер двадцать девять, в которой добрый земледелец умрет, окруженный домочадцами и друзьями, заложив книгу пальцем на тот случай, если до наступления конца ему понадобятся те или иные инструкции. Может быть, я все же не был добрым земледельцем; не исключено, что их вообще не существует. Видишь ли, чем больше я читал, тем больше скептицизма испытывал. Мне так и не довелось встретить человека, ведущего хозяйство, как добрый земледелец, солдата, сражающегося как Ахилл или другие герои Гомера, или гражданина, члена идеального общества, или великого исторического персонажа, хоть в малейшей степени соответствующего описаниям в исторических сочинениях – включая, спешу заметить, и мои собственные.
В конце концов мы приступили к починке старого амбара. Толчком послужил внезапный ливень с грозой – такие случаются раз в десять лет – который смыл остатки соломы с крыши и чуть не утопил старого Сира и двух рабов. Следует заметить, что Добрый Земледелец ответственно заботится о своих рабах; в конце концов они являются его самым ценным скоропортящимся ресурсом – смерть от воспаления легких или даже неспособность работать по причине болезни – это чистый убыток. Соответственно, он обязан следить за тем, чтобы жилище их было теплым и сухим, а сами они должным образом накормлены и одеты. Спецификации идеального рациона раба ты найдешь в тех же прекрасных книгах – замечательно уравновешенного в рассуждении питательности и дешевизны; идеал, к которому мне не удалось приблизиться. Они знали, где расположено зернохранилище и обеспечивали себя самостоятельно. Подозреваю, что если бы я отнесся к этому вопросу серьезно, то потратил бы на хитроумные замки и молосских сторожевых псов больше, чем сэкономил на ячмене, сыре и фигах.
Камни лежали там, куда упали; некоторые из них пошли на починку стен в течение многих лет, но далеко не все. Все, что нам оставалось, это разобраться, как они были подогнаны один к другому и восстановить их исходное положение. Просто.
В теории. Основное правило природы состоит в том, что восстановление чего-либо всегда в сотни раз труднее, чем разрушение; свидетельством тому служит этот амбар. Разрушить его было так просто, что ветер и вода справились с задачей без всякой помощи человека. Наверное, мне следовало нанять фессалийскую ведьму, чтобы та поймала ветер в мешок и выспросила у него исходное взаиморасположение камней. Ничего такого я не сделал, а попытался разобраться самостоятельно, произведя в результате на свет Закон прикладной геометрии Эвксена, который гласит, что если предметы некогда были идеально подогнаны друг к другу, то это не значит, что их можно подогнать вновь. Это прекрасный закон, и если ты внимательно читаешь эту историю, то согласишься, что он применим не только к технологии сухой кладки.
После двух утомительных дней, в течение которых мы обдирали пальцы, надрывали спины и тратили нервы, было решено перейти к более радикальному способу с применением зубил и молотов. Я позаимствовал необходимые инструменты у соседей и мы принялись за работу, обтесывая камни и подгоняя их друг к другу. Хотя я никогда не выполнял работы каменщика сам, но много раз наблюдал, как работал Агенор, и с виду все было просто. Не делая ни измерений, ни отметок, он просто приставлял резец, пару раз легонько постукивал по нему, а затем наносил один резкий, сильный удар, отсекая неправильной формы осколок, получая в результате ровную, плоскую грань, идеально подходящую к соседней. От лишнего материала он избавлялся легко, будто смахивая пыль с лемеха; нужная форма изначально содержалась в камне, нужно было только выявить ее.
Он никогда не бил со всей силы, ухватив молот двумя руками: два легких пристукивания и один резкий удар. Определенно, проще некуда; никаких проблем.
Когда мы попытались действовать так же, у нас почему-то ничего не получилось. Мы или попусту тратили силы, едва царапая камень, или же он взрывался от удара молотка, превращаясь в ливень бритвенно-острых фрагментов, как это происходит в каменоломнях, когда глыбы раскаляют жаровнями и мехами, а затем обливают их уксусом. К несчастью для всех нас, полное отсутствие хоть какого-то успеха разъярило меня настолько, что я решил добиться его любой ценой. Я сказал себе: примени к непреклонной твердости камня бесконечную гибкость человеческого ума, и вскоре перед тобой окажутся ряды аккуратно подогнанных каменных блоков, осиянных сознанием победы. Действительно, мой философский мозг оказался не вполне пригоден для построения идеального города, но уж обтесать несколько булыжников – задача, с которой справлялся даже такой необразованный тип, как Агенор – безусловно мне по силам.
– Продолжайте в том же духе, – скомандовал я. – И сконцентрируйтесь, пожалуйста.
Рабы посмотрели на меня, утерли струившийся по лицам пот и возобновили свои атаки на камень. Возможно, они слегка разнервничались, а может быть, увлеклись тем, на что все мы падки, когда выполняем тяжелую работу, предполагающую нанесение тяжелых ударов, а именно представили, что камень – это я; так или иначе, осколки полетели во все стороны, и я, будучи человеком осторожным, а также философом, пробормотал что-то насчет чувства меры и отступил на безопасное расстояние.
Я возился с уровнем, когда услышал, как один из рабов – его звали Склер, по крайней мере я его так назвал; он был кельтом из Галатии, боги ведают, как они там друг друга называют – завопил так, что я уронил уровень, а потом принялся сквернословить по-галатски.
– Что еще? – спросил я.
– Что-то в глаз попало, – ответил он.
Я обернулся и увидел, что он скорчился на земле, прижав руки к лицу. Он перестал ругаться и теперь издавал хныкающие звуки, совершенно не в его духе.
– Что случилось? – спросил я.
– Кусок проклятого камня, – ответил его коллега, сицилиец, которого я назвал Эхром. – Отлетел и попал ему прямо в глаз.
– Дай-ка посмотреть, – сказал я, но Склер не желал убрать руки от лица. Я увидел, что меж пальцев сочится кровь.
– Эхр, держи его руки, – сказал я. – Не время разводить мелодраму.
Эхр был здоровенным парнем; Склер отличался высоким ростом, но при этом был тощ и костляв. Эхр выкрутил ему руки за спину, а я придержал его голову, чтобы он не дергался. Я сразу увидел осколок; он зажмурился, но осоколок торчал сквозь веко, пришпилив его к глазному яблоку.
– Выглядит нехорошо, – сказал я. – Тащи его в дом.
Я содрал бронзовый ободок с деревянной чаши и согнул его вдвое, превратив в пинцет, которым смог через некоторое время вытащить осколок. Это было непросто: осколок имел причудливую форму, и я никак не мог его ухватить, притом что едва я подступался к нему, как Склер принимался голосить и биться, как олень, угодивший в сети. Когда же осколок наконец вышел, с ним вышло и целое море крови, а бедолага потерял сознание. Пока он был в отключке, я промывал рану чистой ветошью с горячей водой, пока она не перестала кровоточить; затем я дал Эхру немного денег и велел бежать в город и найти врача.
Он вернулся вечером с деньгами, но без врача. Он обратился к четырем, сказал он, но они либо отсутствовали, либо были заняты. В любом случае, не думаю, что врач бы тут помог. Рана оставалась чистой, и это уже было что-то; одни боги знают, чем бы обернулось дело, загноись она. Я пытался ставить ему припарки, но стоило мне приблизиться, как Склер съеживался и разражался воплями, так что я сдался и оставил его в покое. Эхр изготовил ему повязку из тонкой кожи старого бурдюка, поскольку хотя Склер ничего не видел этим глазом, яркий солнечный свет причинял ему жуткую боль.
После этого реконструкция амбара прекратилась.
Сейчас мне начинает казаться, что я мог бы предсказать результат заранее. Амбарный проект содержал в себе черты всех моих предыдущих катастроф: попытка улучшить людям жизнь, попытка восстановить кусочек того, чего я лишился со смертью отца, попытка что-то создать, попытка превращения одной формы в другую. В детстве я слышал историю некоего пылкого, но совершенно бесталанного кулачного бойца; когда он умер, то его семья и соседи, как говорят, воздвигли на могиле статую, изображающую его стоящим на ринге, руки в положении к бою, и с такой надписью: "Памяти Полидама, не причинившего ни малейшего вреда своим собратьям". Понимаешь, я чувствую себя таким вот Полидамом, только наоборот. Он пытался причинять людям боль, но не преуспел. Я пытался быть хорошим более-менее всю свою жизнь, и где бы я ни шел, за мной тянулся длинный хвост мертвых и искалеченных.
Так вот, возвращаясь к нашим чудесным книгам; полагаю, в них сказано, что если один из рабов доброго земледельца покалечится, единственно разумным решением станет его продажа и покупка нового, поскольку кормежка раба, который ест по-прежнему много, а работает гораздо меньше – чистый убыток. Я этого, однако, не сделал, так что Сир, Склер, Эхр и я на четверых располагали пятью здоровыми глазами, и люди начали называть нас Грайями в честь трех ведьм из старых сказок, у которых был один глаз на всех. (Вот, кстати, типичный образчик деревенского аттического остроумия наравне с горящими ветками, привязанными к собачьим хвостам и лопате навоза, спущенной в соседский колодец). Итак, имея на руках Сира, который вообще ничего делать не мог, и Склера, пригодного только для легкой работы (врач, когда мы наконец дозвались его, предупредил, что от тяжелой он может лишиться и второго глаза), мне в итоге пришлось работать дольше и тяжелее, чтобы прокормить рабов, чем когда их у меня вообще не было.








