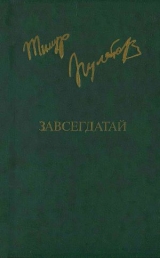
Текст книги "Завсегдатай"
Автор книги: Тимур Пулатов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 30 (всего у книги 33 страниц)
Яки послушно опустились на лед, образуя стену, чтобы защитить пастухов от холода, и Молла-бек и Карим легли между их теплыми телами.
Мальчик долго не спал, ворочался, потом сказал в раздумье:
– Видно, в Индию полетели. Там тепло…
1971
Девочка в пещере
В ночь под рождество в нетопленой комнате тихо скончалась старушка Эстер.
Этот прискорбный случай мало кем был замечен из соседей, я же был очень взволнован, потому что на похороны Эстер приехала издалека ее дочь – Камилла.
Прячась за кладбищенской оградой, я наблюдал, как склонилась над свежим холмиком тридцатилетняя, красивая, но уже чуть располневшая Камилла, и все ее существо выдавало в ней человека, спокойного и довольного жизнью.
Когда два-три старика, которые сопровождали гроб, ушли, Камилла окликнула сторожа и, протягивая ему деньги, сказала:
– Позаботьтесь об останках моей матери. Мне надо уезжать!
Сторож подобострастно кивнул и обещал, что непременно закажет плиту у самого известного мастера. И спросил:
– Как прикажете – вырезать ли на плите изображение покойницы?
– Да, непременно, – распорядилась Камилла. – В жизни она была великой мученицей и заслужила того, чтобы на нее смотрели как на святую.
Сторож после таких ее слов почему-то криво усмехнулся и, поклонившись, удалился.
Камилла уже выходила из-за ограды, когда я бросился к ней и так сильно сжал от волнения ее локоть, что она застонала.
– Так вы не глухонемая?! – спросил я, хотя вопрос был глупым и неуместным.
К моему удивлению, она быстро узнала меня, когда успокоилась, и сказала чуть устало:
– Что с вами и почему вы прятались?
– Вы уезжаете?
– Да, через два часа. Помогите мне поймать машину.
Мы молча вышли на дорогу, и я был рад, что Камилла не расспрашивает о моей теперешней жизни. Я же, человек любопытный, все искал случая поговорить с ней, но время и место были не совсем подходящие: мимо нас одна за другой проезжали, не останавливаясь, машины и густо валил снег.
Наконец пересилив робость, я спросил:
– А помните, Камилла, как вы прятались в пещере? И как я поймал вас и передал в руки отцу? А вы на меня страшно разозлились… Простите, – сказал я с легкой беззаботностью, скрывая чувства.
– Ах, чудак! – рассмеялась она великодушно. – Успокойтесь, я вас давно простила… Моя детская шалость стоила мне потом многих мучений – меня оторвали от семьи, и с тех пор я не видела ни отца, ни матери… Но все прошло, и сейчас я счастлива с мужем и детьми, к ним я и спешу сейчас…
Камилла села в такси, помахала мне, и мы расстались на этот раз, кажется, навсегда.
Я не знал, куда себя деть. В душе было горько и пусто, и не потому ли мне так захотелось снова побывать в той пещере за городом?
Несмотря на снег и стужу, я темными переулками, прячась от людей, пошел на окраину, а оттуда, по узкой тропинке мимо скал – к пещере.
Убедившись, что никто за мной не следит, я вошел в пещеру, освещая себе путь фонариком.
Маленькое озеро в самом центре пещеры дохнуло на меня теплыми парами; я умыл лицо, затем стал подниматься на верхнюю площадку, где всегда сидел в одиночестве.
В пещере я не был с осени, и за это время пары озера застыли на потолке причудливыми рисунками льда и инея. И козьих следов как будто стало больше у озера.
Посидев немного и успокоившись, я достал из расщелины письмо, то, которое оставила здесь для меня Камилла много лет назад.
«Я знаю, что ты немножко трус, но не бойся, – писала она знакомым детским почерком. – Если хочешь, живи со мной в пещере. Здесь мы будем свободны, никто не станет лгать, здесь нет жестоких и злых. Не бойся голода – козы и овцы приносят мне сыр, а беркут – хлеб в мешочке на шее… Мы соберем здесь всех детей, которых обижают, приходи, я знаю, что и тебе трудно…»
Как всегда бывало, прочитав письмо маленькой Камиллы, я почувствовал умиротворение, потушил фонарик, и в полной темноте ко мне снова явилась девчонка.
– Здравствуй, – сказал я ей…
…С этой девчонкой мы жили на одной улице и учились в одной школе, но в разных классах, она в женском, я в мужском. Была Камилла тихой и мечтательной, совсем не такой, как я, озорной и суетливый, – вот эта разность характеров и не давала нам наскучить друг другу.
После уроков мы не сразу отправлялись домой, шли по каким-то бесконечным улочкам, вечно пыльным и знойным, и я как мог веселил ее, печальную.
Показывал ей разные фокусы и говорил, например, что могу даже проглотить карандаш – раз плюнуть! Я давился, но терпел и ждал, пока она, сжалившись надо мной, не отбирала у меня злополучный карандаш.
Однажды она спросила, могу ли я взорвать ее дом, облив его рыбьим жиром, и я поразился ее жестокости.
В то время Камилла хворала, и врач приказал ей пить рыбий жир, но он, видно, порядком ей осточертел, вот она и принесла бутылку, чтобы спалить дом.
В подвале дома мы сложили сухие листья и бумагу. Камилла очень сосредоточенно смотрела на меня, но рыбий жир только наполнил подвал горьким дымом, мы задохнулись и выбежали. И, не зная, что делать дальше, решили от скуки пойти в кино.
В кино показывали про какую-то славную семью, в которой девочка мечтает про щенка, прямо бредит им и наконец заболевает от тоски. А мама и папа, не зная, как ее вылечить, покупают этого самого щенка, и он, тявкнув, выползает утром из-под кровати девочки, и девочка эта, счастливая, сразу выздоравливает.
В картине было еще что-то про эту семью и про жизнь взрослых, я уж точно не помню что, помню только, как Камилла сказала:
– Все это вранье про взрослых. Я не верю…
– Да ты сама все выдумала про себя, ненормальная, – сказал я Камилле и стал спорить, но она молчала, потому что не любила два раза повторять сказанное.
Хотя я и не был с ней согласен, все же стая часто думать над ее словами о взрослых. Как-то я сидел на уроке, вертелся как юла, тревожный, и, случайно выглянув в окно, увидел во дворе школы Камиллу.
Она стояла, прислонившись к забору, и, кажется, плакала.
Я попросил учителя, чтобы он разрешил мне выйти из класса, но получил отказ, не выдержал, схватил портфель и убежал вон.
Камилла и вправду плакала. Я спросил, что с ней, но она упрямо молчала, затем, резко повернувшись, ушла.
Целых три дня ее не было в школе, и я бродил возле ее дома, и хотя ни разу не видел Камиллу, зато многое узнал о том, как она живет в семье.
Отец Камиллы, бухгалтер Акман, уже давно встречался с учительницей своей дочери, и об этом знала вся школа, кроме меня. Учительница, вдова Омелия, делала все, чтобы Акман разошелся с семьей, но он почему-то не торопился. И когда он приводил Омелию домой, то всегда прогонял тетю Эстер и Камиллу, и им приходилось ночевать у соседей или на вокзале.
Тетя Эстер, обезумевшая от унижений, срывала зло на Камилле – так что и мать и отец причиняли ей одни страдания.
Соседки советовали тете Эстер уйти от Акмана, но женщина, видно, страшилась одиночества и готова была терпеть все, лишь бы не потерять мужа.
Омелия, эта классная дама с окаменевшим лицом, всегда всем недовольная, ненавидела Камиллу и унижала ее перед всем классом за малейшую провинность, и так до тех пор, пока однажды Камилла не пропала – не вернулась после школы домой…
В те дни, весной, вокруг дома буйно выросла трава, я лежал на ней и думал, как помочь Камилле. Мысли мои неожиданно были прерваны криками Акмана, который прибежал ко мне и схватил за ухо, требуя, чтобы я сказал, где прячется его дочь.
Я поклялся, что не знаю, в конце концов он мне поверил, но приказал, чтобы я отправился с ним на поиски.
Мы начали с осмотра чердаков и подвалов, а Камилла, оказывается, уже была далеко от города, вот в этой самой пещере.
Весной и летом здесь жил старый пастух, и в тот самый день, когда Камилла решила остаться в пещере, пастух пригнал сюда свое стадо с зимовки.
С охапкой сена для постели пастух зашел в пещеру, и Камилла, увидев человека, в ужасе Побежала на верхнюю площадку.
Пастух ничего не спросил и быстро вышел, чтобы не тревожить беглянку. Он решил, что, когда девчонке наскучит одиночество, она сама придет к нему и будет помогать пасти коз.
Камилла в страхе прождала его весь день, но пастух ушел со своим стадом далеко от пещеры, на поляну.
Перед ужином старик вдруг вспомнил о беглянке и, решив сделать ей приятное, привязал к шее козы мешочек с овечьим сыром и послал животное в пещеру.
Камилла не знала, что и думать, когда увидела эту необычайную гостью, и, сочинив для успокоения сказку о добром гноме, который подарил ей сыр, уснула.
Утром она выкупалась в озере, причесалась и стала ждать в гости самого гнома, но снова у входа заблеяла коза, и вместе с ней два ягненка прыгнули в пещеру, неся завтрак.
В тот же день Камилла села и стала писать своим подругам, приглашая их жить с ней на свободе в пещере. Письма эти она клала в мешочек на шее козы и просила всех, кто их найдет, послать по адресам.
Старый пастух в скучные часы одиночества читал их при свете фонарика и тихо плакал, кусая бороду.
Письмо ко мне Камилла почему-то не успела послать, и много дней спустя я нашел его в расщелине – и вот оно у меня в руках.
Прошла неделя, и поиски привели наконец меня и Акмана к той самой поляне, где жил пастух.
Акман очень любил вызывать к себе жалость и каждому встречному подробно рассказывал о своем горе. Он показывал на меня и говорил:
– Вот этот наглец ее друг! – и давал мне оплеуху.
Не успели мы поздороваться с пастухом, как Акман сказал, показывая на свою бороду:
– Посмотрите, на кого я похож – на странника, юродивого. И все из-за того, что сбежала моя единственная дочь. – И добавил, что человеку, который ему поможет, он готов заплатить любые деньги.
– Сколько? – оживился пастух.
Я уже точно не помню, сколько обещал Акман, но пастух просил прибавить; так торговались они до самого вечера, потом ударили по рукам.
Пастух, взяв с собой веревку, повел нас к пещере, и мы увидели, что Камилла купается в озере.
Она застонала и еле выкарабкалась на берег. Акман с проклятиями бросился за ней, но упал, и только я, самый ловкий, догнал Камиллу и повалил ее на камни.
Пастух связал ей руки и ноги веревкой, но Камилла молчала. Только раз, на берегу озера, мы услышали ее стон, а потом она лежала и, безразличная ко всему, смотрела, как отец считает деньги, которые он обещал пастуху.
Мы везли ее на повозке, и только у самого города Акман развязал дочери руки. Он злился, ругал Камиллу и даже ударил ее, но у нее был такой вид, будто она не слышит его и не может ответить.
– Ты что, язык проглотила? – кричал Акман. И обращался ко мне: – Спроси, почему она это сделала?
Я бормотал что-то невнятное, но и меня она не слышала и не понимала.
Не понимала она потом ни мать, ни подруг, ни учительницу и только безразличным взглядом следила за губами говорящих.
Акман показал ее известному врачу, и тот сказал, что Камилла действительно потеряла слух и речь, видно, что-то сильно напугало ее в пещере.
И только я один знал, что с ней творится – Камилла как-то сказала, что она завидует глухонемым детям, которые не могут слышать ни отца, ни мать и не отвечают им.

Я вспомнил об этом, но решил молчать. А вскоре родители послали Камиллу в чужой город, в приют для глухих и немых детей, и с тех пор я ничего не слышал о ней…
Я включил фонарик и еще раз оглядел пещеру, потом засунул письмо Камиллы обратно в расщелину.
И, поежившись от холода, подумал: сейчас зима и чувства детей как бы притуплены, но придет весна, когда человек рождается заново и когда он особенно чувствителен к злу, и тогда через поляну, усыпанную маками, побежит к пещере какая-нибудь девчонка. И может быть, это будет моя дочь – кто знает…
1972
Браслет
В доме, где всегда было сытно, благополучно, разве что, кроме четырех военных лет, вдруг что-то переменилось и стало неуютно, серо и тревожно. Сын, который был далек от отца, должно быть, позже всех заметил, каким стал непохожим на себя отец – тихим и нелюдимым, и где ни увидишь его – возле лестницы на мансарду, в летней комнате, сидящим прижавшись к матери, на старом, пыльном диване, – он все шепчет что-то матери, медленно и как будто убедительно. Удивительно, вдруг достали откуда-то старые вещи, полупотертые, полуистлевшие, шести-восьмилетней давности, времен послевоенного возрождения – все резиновое и суконное – и стали носить. Сади тоже осторожно так и деликатно советовали по возможности перейти на старое, но особенно не настаивали, потому что сын кончал школу, и успешно. Мебель и ковры тоже незаметно меняли, спускали из мансарды потертые стулья и железные кровати вместо деревянных с матрасами и делали все это, когда Сади не было дома. Сын возвращался и только видел, что опять что-то из старого, военного заняло место в комнате, это его смущало, он пытался спросить, но знал, что опять будут лгать, оберегая его нервы перед экзаменами, скажут: «Да так, ничего особенного, решили кое-что продать, чтобы построить в нижней части двора две комнаты. Но может, не будут продавать, надо еще подумать. Просто новая идея у отца…» За всех объяснял дядя. Сади почти всегда видел его возле умывальника – дядя приходил помогать спускать старую мебель, у него было не в порядке с горлом, и его мучила пыль, но он терпел, потому что это называлось «братской солидарностью». Он так и говорил:
– А кто, если не родной брат? Вот в такие дни и познается братская солидарность.
Дядя где-то работал, но Сади не знал где, только чувствовал по тону отца, по еле заметному, но так бросающемуся в глаза небрежному отношению, что дядя ниже отца по должности. И мать иногда любила без нажима вставить в разговор: «Это так на вашего брата похоже…» Нет, дядя тоже, как и отец, приехавший из голодной деревни в город где-то году в двадцать втором, за эти тридцать лет основательно выбился в люди, но отец выбился особо. Он любил подчеркнуть, что никому во всем городе не подчинен и что лично и прямо, минуя все ступени городской власти, подчинен столице. А поскольку столица далеко и никто из начальства не едет его проверять, ибо доверяют ему, то можно сказать, что он никому не подчинен. Называлась его должность несколько странно – «уполномоченный по культам», и, должно быть, эта странность и была больше всего убедительной в глазах Сади и окружающих, когда говорил отец о своей неподчиненности. Впрочем, сыну было все равно, он не вникал, только раз подумал, что действительно странная должность, из того ряда, скажем, что и «инспектор по кучевым облакам» или же «скупщик мертвых душ», что-нибудь сказочное, фантастическое. Да, да, ближе к этому – «скупщик мертвых душ», как забавно – ха-ха-ха!
И стало это Сади ясно в день, когда было сказано ему шепотом, что отцу надо на время исчезнуть совсем; всем, кто будет о нем спрашивать, говорить: уехал в столицу, на сколько, неизвестно, сам же отец будет прятаться в мансарде и не вылезать оттуда ни днем, ни ночью, и, чтобы ему было чем заняться, подняли наверх мешок маиса, отец будет тихо толочь его в ступе… Сын поднялся и посмотрел – вся новая мебель была теперь в мансарде, и отец, босой, зажав медную ступу между коленями, уже постукивал: увидев сына, он смутился и опустил голову.
– Ну что такое? Сколько можно? Чтобы лгать, я хоть должен знать! – вскричал Сади, и тогда дядя отвел его в угол комнаты, решившись рассказать. Как переменился дядя, все отцовское перешло к нему: и тон, и походка, и так естественно, незаметно – ведь недаром братья.
– Твой отец… – начал дядя так, как если бы мать говорила о нем самом: «Это так похоже на него». – Словом, вышло нехорошо…
И Сади узнал о том, о чем уже давно догадывался по шепоту и отдельно услышанным фразам: «Сукно», «Ну, где взять столько?»
Недавно отец уволил старого работника и взял на свою голову дьявола, мошенника, вымогателя, который один был и завхозом, и бухгалтером, и сторожем, поскольку контора все же маленькая, – некоего Сафарова. Начали работать. Приходит в тот черный день отец в контору, как обычно чуть возбужденный – рядом осетин сухое вино держит в лавке, – в свой серый, одноэтажный домик из двух комнат, смотрит, в кабинете окно, что выходит во двор, выбито, и красного сукна на столе нет. Кража! Замечательное толстое сукно на пальто, хотя и красное, для дамского пальто.
Отец разволновался: дьявол, вымогатель только лишь еще испытание на честность проходил, и вот случилось… Разговор хотя и короткий, но нелицеприятный и резкий. «Где сукно?» – «Откуда мне знать?» – «Но ты ведь здесь ночевал» – «Да, ночевал, но последним вчера вы уходили, вспомните-ка…»
Отцу, человеку вспыльчивому и подозрительному, вдруг показалось, что Сафаров и не тем тоном говорит, и не так, а главное, не то, будто намекает на что-то, лукаво прищурившись. «На что ты намекаешь? Раз я последний, значит, я и унес… на пальто?» – «Как хотите, понимайте… но я раньше ушел, чтобы заступить к двенадцати» – и это, должно быть, было последнее, что сказал в тот день вымогатель. Словом, отец ударил его стулом по черепу, проломил… Сафаров, придя в сознание на третий день, сказал на свидании матери, что, пожалуй, за пятьдесят тысяч он мог бы отказаться от суда… Мать два раза в день носит ему съестное в больницу – вымогатель оказался без семьи, – вполголоса торгуется с ним, сейчас остановились на сорока тысячах, и больше ни рубля не уступает… скажет, что сам упал со стула.
Что-то во всей этой истории, такой серьезной, было юмористическим, что-то такое полуправдоподобным, поэтому Сади сразу почувствовал: отец выкрутится, не посадят его. Может, впрочем, это юмористическое ощущается оттого, что именно дядя ему рассказал всю историю, не сам отец и не мать, дядя напрягается, чувствуя себя теперь на месте отца, главой дома, но не очень-то это у него выходит – смешон. А может, оттого, что все, чем занимался отец, было полуправдоподобным: сама должность – «уполномоченный по культам», и сам образ его жизни, – вот и попал он в такую историю, которая как будто была нарочно создана для него. Хотя и было твердо решено остановиться на сорока тысячах, отец все же сомневался – мало ли что может прийти Сафарову в голову, мало ли чему могут научить его недоброжелатели отца – четыре соглядатая работали на отца, каждые шесть часов приходя в дом с узнанным, подслушанным. До вчерашнего дня Сафаров вел себя прилично, но то ли просто выболтнул, то ли умышленно, чтобы ускорить дело, сказал приятелю, что был отец в то утро пьян на работе, возбужден… Соглядатаи донесли, что в городе пошел разговор о том, что уполномоченный, кажется… дядя посоветовал отцу, пока соберут сорок тысяч, уехать, но отец решил отсидеться в мансарде, чтобы держать в руках собственное дело, никому не доверяя.
Тихо позванивает медная ступа…
Кое-что продали – зеркала и китайский фарфор, дядя прибавил десять тысяч к тем, что всегда имелись дома, и к сумме, требуемой вымогателем, недоставало теперь пяти тысяч. А время шло, Сафаров выздоравливал и уже поговаривал о скором выходе, а по условиям, если ко дню его выхода полная сумма не будет собрана, договор, естественно, разрывается, и дело о тяжком преступлении идет в суд.
Сверху доносилось тихое постукивание – перемалывался маис, отец спускался лишь после полуночи, но нервничал и стонал во сне, и хотя пожелтел и осунулся в мансарде, все равно спокойнее чувствовал себя в окружении ее сырых стен.
– Попадись ты в руки нравственного судьи, он, увидев, как ты себя добровольно заточил, вмиг бы прекратил дело, – сказал не без доли иронии дядя. И должно быть, пожалел, потому что при слове «судья» отец побледнел и быстрее, чем обычно, стал подниматься в свою мансарду.
– Все, довольно, надо продавать ковры и мебель! – вскричал дядя, затем сел устало, зная, что мать на это не пойдет.
Мать вообще страшно изменилась, некогда красивая таджичка, с белым чувственным лицом, она стала носить отцовский китель с широкими подложенными плечами, откуда-то достала мужские очки и то и дело постукивала на счетах, подсчитывая и записывая столбики цифр. Лицо ее стало жестким, а губы стянулись и чуть посинели – таковы, видимо, правила естества, стоит женщине даже представить, что муж ее вышел из привычного семейного круга, как все в ней стягивается и огрубляется, чтобы выскочить за пределы своего пола.

Ковры и все новое решено продать на худший конец, ведь вместе с ними пришло в дом ощущение достатка и благополучия, сразу удалив в прошлое все военное, и теперь ради какого-то вымогателя, чтобы все опять вернулось… Нет, так жить нельзя.
Мать долго терпела, а отец, видимо, в те редкие минуты, когда не стучал в ступе, ждал, что услышит ее голос: «Ладно, отнесу браслет», старинный, передающийся из поколения в поколение, с условием: не продавать даже в самые черные дни. Что-то там было в этом браслете, какая-то тайна, заклинание…
– Я знаю, тебе этот браслет давно не нравится…
– Да, честно признаться, какая-то вещь, пришедшая из прошлой эпохи, связанная с богатством и человеческим унижением, и лежит без движения, держа в себе неиспользованный капитал. Это расточительство. И при нашем-то положении. Грех!
– И действительно… – все боролась с собой мать, – где мне в нашем городишке носить такую прекрасную вещь. Свадьбы сейчас такие убогие. Не на собрании жилищной комиссии и не на родительском в школе блистать браслетом?! Кругом вечно накурено, бумаги в корзинах, запахи…
– Да, запахи меня просто замучили, – вставил дядя, потирая больное горло.
То ли сам разговор утомил Сади, то ли просто день был слишком солнечный – с утра он чувствовал себя нервно, а сейчас и вовсе забеспокоился без всякой причины – и вышел на улицу. «Интересно, любят ли они друг друга?» – подумал сын.
– Вечером вместе отнесем браслет! – крикнула ему мать и осталась думать, кто из знакомых мог бы быстро и выгодно купить браслет. У кого есть наличными пять тысяч? Ну, в крайнем случае, за четыре тысячи. Мать когда-то из простого любопытства показывала ювелиру, и тот оценил в четыре. Но надо стоять на пяти, тогда завтра же отца можно торжественно вызволить из его заточения.
– Вот это преданность, – сказал дядя, – ради мужа – самую дорогую свою вещь, можно сказать, память рода и так далее…
Вечером мать и сын пошли, и мать все шептала Сади на темных улицах:
– Ты ведь понимаешь, мало ли кто может встретиться в этих переулках.
Сади молчал и кивал, а мать удивлялась его равнодушию: столько дней уже в доме разговор об этих несчастных сорока тысячах, а он хоть раз бы поддержал, взволновался. Мать начертила и показала ему схему улиц, сохранивших еще свои старые, причудливые названия: «Куйи мургкушон» – «Улица убивающих птиц», «Махаллаи кухна» – «Старая еврейская слобода», «Кыргыз-оим» – «Госпожа киргизка». Здесь, по ее предположениям, и должны жить покупатели браслета, а он опять ничего не сообразил, спросил:
– А почему именно вечерами?
– Да очень просто, люди дома, неужели непонятно? Ты меня удивляешь…
Сади удивляло другое, как мать довольно точно нарисовала схему улиц, – еще один скрытый талант. За эти дни у нее обнаружилась масса иных достоинств, противоположных женским, – запаяла что-то в кране водопровода, развела столярный клей для дивана… Теперь на всякий стук в ворота она выходила спокойно, с бесстрастным лицом и лгала об отце очень умело, без волнения в голосе: отец же по-прежнему бледнел, дядя закрывался в зимней, темной комнате, куда даже с обыском не зайдут, – такая она маленькая и пустая.
Сади ждал у ворот, пока мать торговалась, ему было немного стыдно – вдруг повстречается какой-нибудь сокашник и, увидев тихого Сади, чутьем догадается, что пришел он сюда с матерью продавать браслет. «Ну вот, дружок, а ты всегда был так уверен, так сыт и опрятен…» На что он хотел бы ответить: «Это вам так казалось, на самом деле я очень робок и сомневаюсь…» – как будто это могло убедить…
Мать выходила и долго не могла успокоиться, пока шли к следующему покупателю:
– Черта с два с этой публикой! Бабы позабыли блеск золота, а мужики – ни один не сделает широкий жест: «Беру за пять тысяч этот браслет, чтобы бросить к ногам жены!» Все жмутся, пробуют на вес, на зуб: «А не фальшивый ли? Да что вы, дорогой! У нас таких денег сроду не было».
Еще в два дома заходила, вышла, потеряв уверенность: а может, не удастся целиком продать, придется распиливать и предлагать по частям ювелирам и зубным врачам.
– Подумала о врачах и вспомнила. Каражан! Она все мечтала о таком браслете, говорила: «Были бы у меня деньги…» Сейчас она врач, разбогатела. Но гордячка, строптивая, и тогда была гордячкой… Порадуется, увидев меня торгующей… Надо что-нибудь придумать поубедительнее. Может, какую-нибудь легенду? Она полна предрассудков…
Сади ждал теперь возле двухэтажного дома с освещенными подъездами где-то в квартале «Разбивателей фисташек».
«Да любят ли они друг друга?» – от нечего делать подумал сын и решил, пока мать торгуется, вспомнить все, что знал о своих родителях.
Кто-то стоял и смотрел на Сади из-за угла дома – он это сразу заметил, как только подошли сюда с матерью. Человек явно не прятался, а, наоборот, стоял так, чтобы его видели, но не полностью вышел, ибо оставлял для себя возможность в случае надобности быстро скрыться. Поведение человека явно заинтересовало Сади, и он уже не думал о любви матери и отца, только мелькнуло: «Ведь права была, опасно одной…»
Сади, видимо, тоже заинтересовал человека, он вышел к освещенному подъезду – это оказался мальчик одного с Сади возраста, наверное, тоже десятиклассник, и потому Сади успокоился, ободренный таким родством.
– Нет у меня ни спичек, ни сигарет, – как-то само собой вырвалось у Сади.
Мальчик подошел и выразительно глянул на Сади, оценивая и сказав тихо: «Хорошо», вернулся на свое место в углу.
«Как он меня раздражает», – подумал Сади, – не люблю, когда смотрят в упор».
Мать вошла в средний подъезд, и он еще успел заметить, как тяжело она поднималась на второй этаж. Чтобы скрыться с глаз мальчика, он зашел в подъезд, повернулся и чуть было не столкнулся с возбужденным, со сверкающими глазами знакомым лицом. Это была Массис. Сразу узнал ее, будто ждал и думал о ней, все от нервного напряжения.
– Европеец? – закричала Массис, удивившись и обрадовавшись. – Как ты? Что ты в нашем подъезде? – И тоже вся напряглась, желая угадать и даже в волнении взяла его за руку. – Ну, здравствуй…
– Здравствуй… Жду я… А ты как?
– Любимую? – спросила Массис как будто с иронией.
– Ага, – кивнул Сади неуклюже.
– В этом подъезде только я одна… любимая. – Что-то в ней было такое странное, вся она как будто светилась.
– Ты что, лицо помазала чем-то… Я мать жду, сказала: «Зайду на минуту к знакомой». Ты ведь знаешь женщин, как встретятся, так…
– Как же, эту породу хорошо знаю… Я сразу поняла, что обманываешь. Я бы прямо упала со смеху, если бы увидела тебя с девушкой…
– Это почему же? – обиделся Сади. – «Зайду, – сказала, – на минуту…»
– А ты не волнуйся. Хочешь, я побуду с тобой за компанию? – Массис вывела его за руку из подъезда.
«Но почему она вся будто светится?» – не понимал Сади.
– Да ты умрешь, ты бы в жизни не ждал у подъезда… Скорее она бы тебя ждала, – сказала Массис и как будто смутилась… – Да ничем я не мазалась, посмотри. – И она прижала его ладонь к лицу. – Что я, старуха?
Сади не заметил, как тот мальчик приблизился к ним, Массис каким-то чутьем это почувствовала и сказала, не оборачиваясь:
– Да не ходи ты за мной… Это Азим, – объяснила Массис Сади. – Не бойся, он добрый и не дерется. Один раз на пляже я его ласкала, ну, гладила, он как овчарка добрый. Тогда он расплакался. А мне противно стало…
Сади было странно все это слышать – он оглянулся и увидел, что Азим опять вернулся к своему углу.
А они прошли к концу переулка и повернули обратно, в это время и женщины вышли к подъезду.
– Ну, что вам так не терпится – день раньше, день позже, – холодным, укоряющим тоном говорила Каражан матери.
– Мама, – сказала Массис и, поняв все, внимательно посмотрела на Сади. – Странно, как же они?.. – И пошла, а Сади остался стоять сконфуженный.
– Массис, с кем ты там? – спросила Каражан.
– С Сади…
– С Сади? – переспросила мать. – Это мой сын, Каражан… Дети наши познакомились, как хорошо. Всего доброго, Каражан, до встречи послезавтра…
Не успели Каражан и Массис подняться к себе на этаж, как мать дала волю своему раздражению:
– Сколько спеси, боже мой! Черная вся, черная!
Ты слышал, как она со мной разговаривала?!
– Купила? – спросил, чтобы поддержать разговор, t Сади.
– Ты бы видел, какая она пришла в двадцать седьмом. Босая, стояла у ворот, вся растрепанная, немытая. Волосы я ей не могла расчесать, комки одни. Приказала снять наголо… А теперь у нее любовник.
С любовником решила посоветоваться послезавтра.
Как увидела браслет, сознание чуть не потеряла. Деньги у него будет вымаливать…
– А ты как ей объяснила? – спросил тихо Сади, вспомнив, как увидела его Массис и как она вся светилась, будто это было давно.
– Жалко мне ее было, сиротку. Решили взять в семью – сиделкой к больному деду. Школу заставила кончать. А теперь врач, любовник…
– А кто они, имя странное…
– Уйгуры, кажется, а может, монголы. В общем, оттуда…
Едва они зашли в дом, как отец, забыв об осторожности, быстро спустился из мансарды.
– Ну как? – Видно, был он уже в отчаянии, надоело прятаться и молоть маис, потому-то и спустился раньше полуночи.
– Велела послезавтра еще прийти, с любовником посоветуется. Ты бы видел, какой она стала…
– Не верю я этим женщинам и их любовникам, – раздраженно сказал отец, и Сади заметил, что и раздражается он теперь как-то по-другому – мягче, печальнее. Что-то менялось там в нем исподволь, в мансарде. Походка его стала плавной, и появилась у него новая привычка – жестикулировать и пожимать плечами. Видно, он долгими днями в одиночестве кого-то убеждал в чем-то темпераментно.
– Возьми себя в руки, – сказала мать. И он какой-то нелепый, в длинном, до пят, халате, сел, утомленный, сжал колени и прикрыл их руками, как это делают машинально женщины, а ведь любил он во всем широту и свободу: все умещались за одной половиной стола, а за другой отец, один.
– Дьявол, и этот мулла исчез… Гаиб, – как будто нечаянно вырвалось у отца, и он виновато глянул на мать.
– Да ну, о ком ты? Не дай бог… Ты ведь сам говорил, что это может быть и подвох, – проговорила мать, да так, будто и сама думала о мулле Гаибе.
– Нет, непохож он… Да, я его гнал! Но теперь можно было бы сразу кончить…
Мать и отец были одни, дядя вечерами возвращался к своей семье, а Сади услышал только начало разговора и вышел, чтобы подумать над мучившим его: «Так любят они друг друга?»
Сади знал этого муллу Гаиба и даже как-то подслушал их разговор с отцом. Гаиб был необычайно высокий и полнотелый старик с черной бородой на свирепом лице. И Сади было интересно, как это такой свирепый человек может становиться робким и тихим с отцом.








