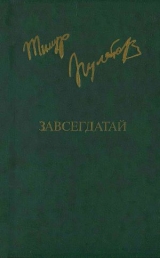
Текст книги "Завсегдатай"
Автор книги: Тимур Пулатов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 25 (всего у книги 33 страниц)
Бобошо сказал, если помните: ’’Каждый рожден быть собой, и это справедливо”. Здесь чувствуются нотки предопределенности, вера в звезду, как будто один родился перекупщиком, другой посредником, третий поставщиком, и таким должен оставаться, чтобы не нарушать правила, которыми исстари живет базар.
Поставщик – тот, кто выращивает фрукт, и, если он не продал его через посредника перекупщику, а решил торговать сам, он с презрением озирается вокруг, называя перекупщиков трутнями. И напрасно! Поставщик, сделавшийся хотя бы ненадолго, торговцем, выглядит очень наивно и почти всегда проигрывает оттого, что решил свои фрукты продавать сам, ибо забывает, что сорванный плод уже не сочный фрукт, натюрморт, а товар, крепкий, обкатанный, жесткий, звенящий металлическим рублем, – тихая жизнь сада ему уже чужда, он весь в стихии базара… Вечером крестьянин смущенно складывает, сидя в чайном домике, рубль к рублю, прозревая…
Еще есть люди… их так мало, один-два человека на весь базар, поэтому нет названия их профессии, я же называю: художники торговли. Уйгур принял меня за такого художника, надеясь, что я закрашу самые тонкие, лезущие наружу места в его деле с мандаринами.
Что ж, я опять взялся, хотя и давал себе слово не ввязываться. Натура, увлекло… Сплошная игра – и с весовщиками, и на складе у меня хорошо получается. Я убеждаю их, жестикулируя страстно, затем перехожу на шепот, толкаю панибратски в бок, хохочу. Держу про запас поговорку, анекдот, а то и просто непристойность, ибо весовщики падки на обнаженную шутку, с ними целый день только об этом и говори, глядя из окна на торговок, не насытятся.
Я настойчив, но не надменен не требователен, весовщики не чувствуют тяжесть, как сказал Бобошо, я бываю «и мил, и смущен, и по-ребячески трогателен», и они уступают, разумеется, небескорыстно.
Они наконец чувствуют, что я ищу приключения, и хотят посмотреть, чем это кончится. Приключение – страсть не очень-то серьезная для базара.
А кончается как обычно. Наверное, начинаю слишком самозабвенно, ибо где-то на половине дела вдруг становлюсь равнодушным, устаю – и неделю меня не видно на базаре.
Бобошо знает, что у меня бывают приступы, когда обостряется обоняние и мучают запахи, – я держусь подальше от базара.
– Что, брат, опять запахи? – спрашивает Бобошо, глядя на мое одутловатое лицо. – Я так и сказал тому мандарину, что нездоровится.
– Прошу тебя, не показывай больше на меня, – говорю я, уверенный: уйгур остался в выигрыше. Ведь неважно, что я вышел из дела, важно: я удачно и ловко повел, считается, что торговля капризна лишь вначале, любит быть продуманной, потом же катится внутренней энергией, пока не истратит себя всю по пути, давая в финале прибыль.
– Я думал: тебе надо развлечься. Ходил ведь скучный…
– Трогательно, но… Я ведь скучный по натуре, бывает, что и неделями слова не хочется сказать, а потом вдруг понесет… Но теперь все меньше, не возбуждаюсь.
– Я ведь говорил: тебе под стать великое дело. Мандарин, клубника, шиповник, – говорит он с долей презрения, перечисляя плоды. – Они даже меня не увлекают…
Иногда мне кажется, что Бобошо подбрасывает мне такие маленькие дела… Не вводит ли он меня во вкус, не обучает ли, как волчонка? Для чего?
Еще одно базарное суеверие: считается, что удачливым может быть не только каждый торговец в отдельности, но и весь базар в целом, если в нем торгуют из года в год знакомым товаром; от всего нового, необычного базар, говорят, отворачивается, смущаясь, отсюда презрение Бобошо к мандаринам, привезенным издалека. В Бухаре вообще любили торговать одним – «Базар цветов», «Базар циновок», «Шелковый базар»…
– Удивляюсь, вам еще удается безнаказанно ловко свернуть, – сказал сосед К. – Для вас это просто красивая игра, приключение, но ведь для них рискованная работа, сама жизнь, и как они вас не запрезирали?
– Значит, моя игра лишь украшает их тяжкий труд, – говорю я простодушным тоном баловня судьбы. – Делает их базарное существование полным и осмысленным – и это они чувствуют нюхом. Что у торговцев сильно развито, так это безошибочный нюх, не расчетливость, не хитроумие – нет, ерунда…
– Возможно, что вы и наблюдательны, – отвечает сосед К. Теперь он доброжелательнее, раньше же подчеркивал дистанцию, не подпуская, затем слово за слово – и оценил. Прихожу, он сидит в кресле, закутавшись в махровый халат, теплый, как после бани, скучает. Два часа пишет, прогуливаясь перед этим каждый день по одной и той же улице, не сворачивая, а после работы скучает. Я поймал его на скуке – и вот так вошел в дом. Бывает он, как бы спохватившись, становится надменным со мной, а потом расслабляется и опять очень мил, болтает. Это меня усыпляет, и я тоже делаюсь скучным и болтливым, начиная думать, что он такой участливый… совсем теряю голову, а потом жалею. Ну, почему я такой, хочется опереться на его невозмутимость и холодность, а во время одной из таких прекраснодушных бесед я совсем сглупил и сказал:
– У вас, должно быть, связи в издательстве… – думая, что он поможет когда-нибудь с публикацией этих записок.
– Разумеется, – сказал он, – как же без этого?! – И вдруг опять замкнулся отдалившись: – Только я не сторонник… каждый должен в одиночку.
Черт побери, как я жалел, не успокаиваясь весь день. В одиночку? Тем лучше. Посмотрим… Важно понять систему. Теперь многие понимают… к примеру, что деревья живые, – мажут срубленное место чем-то густо-зеленым.
Я уже писал, рассказывая о внешности базара: «На севере глухая стена, там мясной павильон…», надо закончить, ибо какой азиат, чувственный, иррациональный и созерцательный, удержится, чтобы не поболтать о мясе… У меня у самого правило – не есть утром мяса, день надо начинать, будучи достаточно легким, чтобы долететь хотя бы до середины своего дневного дела к вечеру. Я заметил, что и птицы встречают божий день с мякиной во рту, гусеницу откладывают, пряча, а червяк на росе – дурная для них примета.
Павильон белый и просторный внутри, на первом этаже мороженая океанская рыба с довольно хищным видом, дальше говядина. Говядину я стараюсь не есть и вечером, только уж если совсем нечего… Знакомый киргиз шепнул мне, что говядина переваривается с трудом и потому считается нездоровым мясом, от нее давление под ложечкой и головные боли. Что ж, киргизам можно верить, они большие знатоки мяса.
– Лучше уж творог, – добавил киргиз.
И здесь киргиз прав, хотя бы потому, что творог на втором этаже продают миловидные торговки, белолицые и здоровые, – я часто поднимаюсь…
Среди молочниц, чувствуется, нет напряжения естественного отбора, как у океанских рыб-чудищ, они не конкурируют, потому-то и милы. Они свободны, хохочут и зазывают покупателя лишь для базарной этики.
Я здесь отдыхаю, прислонившись к гранитному фонтанчику рядом с ведром сметаны, и сметана приноравливается, начиная дышать со мной в ритм.
Сегодня моей молочницы нет – торговки смотрят хитро… «Это, должно быть, за вчерашнее», – думаю я.
А ведь я полагал, что для них торговля превыше всего, а вот поди ж ты… Одна решила пренебречь, чтобы слегка уязвить, – плохо я знаю женщин.
Прижавшись к холодной чистоте прилавка, я обычно болтаю беззаботно с Алией. Неужели молочница до сих пор не привыкла к моей необязательности и несерьезности? В ее возрасте-то… разница между нами почти двадцать лет.
– Это от молока ты такая белая, – говорю я, – от близости…
Она смущается, но вообще-то Алия очень разная, смотрит пристально, словно хочет угадать, что со мной было, когда не поднимался в те дни к ней, обижается, если я быстро прощаюсь, или вдруг становится холодной. Это я сам ее так настраиваю, если с утра расположен, весело шучу с ней, говоря: «Я твой молочный брат», а в иной день смотреть ни на кого не хочется, видит из окна, что я не поднимаюсь…
А вчера я так разболтался, что получилось само собой, будто я ее приглашаю остаться вечером. Боже, что я наделал, ведь все это мальчишество, глупость, от тщеславия: пойдет ли, если позову?
Я себя ругал потом до вечера и все-таки не решился пойти. Нет, дело не в смелости, просто у меня есть другая женщина и наша с ней история тянется вот уже без малого двенадцать лет. И кончится, я чувствую, женитьбой. Пора уже прислониться и мне и ей, возраст…
Я был лет двадцать в таком мире… все время, пока Алия росла. Вообразил, что надо отдаться искусству, не скрою – дурачился в молодости, волочился. Наши театральные пошляки называют его «обнаженным миром». Я нахожу глупым это – «убежденный холостяк», «заядлый многоженец», нет ничего устойчивого, такое ощущение, что если все стоит, то мы проходим мимо этого, меняясь… череда дней…
А молочница – это наше наследственное. Среди семейных сплетен есть и рассказ о том, как дед был неравнодушен к молочницам И прачкам, а бабушка, утонченная бухарская дама, презрительно-насмешливо взирала…
Раз в неделю меня зовут в трапезную знакомые торговцы – удачная сделка. Здесь тихо, можно свободно растянуться на нарах, глядя в окно во двор, где сразу варят в шести котлах. Замечательно вкусно пахнет. Выйдешь, чтобы наломать стеблей и бросить в очаг. Немного сыро во дворе, и платан стряхивает лист, долго смотришь, как лист, кружась, летит – благостная лень…
Я уже писал об этом. Первыми моими записками был этакий бурлеск «Хвала лени», тоже рожденный от созерцания базара…
Я люблю смотреть, как едят, никто не может быть таким естественным, как едок, ничто так не идет человеку. Да, только трапеза и любовь еще как-то привязывают нас к жизни.
Помню из детства, когда после долгой болезни мне захотелось есть, и мать так обрадовалась: «Раз хочется, значит, уже здоров». Это все так просто, никакой философии – Кант, Кьеркегор, Конфуций… кто еще там на «к»? Оуэн…
Возможно, я глуп, но меня это иссушает, меня наполняет жизнью простая фраза о еде и здоровье. А сколько раз после бессонницы и увядания, когда казалось, что силы покинули тело навсегда, мы шли к женщине? И снова чувствовали, что возродились…
С каждым днем на базаре становится темнее – утром густая роса, а в полдень из-под ног лезет пар – торговки ожили, стали болтливее – весна…
Потом день – смотришь – широко открылся от солнца. Лук, клубника, ягоды шелковицы, пахучая зелень – укроп и сельдерей, овощи. Но теснее всего и гуще в цветочном ряду – еще полусонные деревца, еще темно-зеленая, вялая рассада, луковицы гладиолусов…
А вот и литовка Аннелора, значит, перезимовала свою восемьдесят первую зиму. Как и в прошлую весну, она торгует луковицами, совестливая и аккуратная, высушила стебли гладиолусов вместе с цветами – всех видов и цветов – и выставила для обозрения. Здесь и «граф Ойя-Айя» и «Лазурная Балтика», «ноготок коршуна» и «морские кочевники», «Чио-Чио-сан» – прекрасно…
В Аннелоре борются дух изобретательства и дух торговли, я ей говорю, что это слишком расточительно для ее слабого здоровья – выращивать цветы и самой же приносить их на базар, но что поделаешь, торговля… увлекает.
Аннелора держится несколько обособленно, она считает себя начитанной и интеллигентной и признает лишь меня достойным собеседником, говорит:
– Такую жуткую историю я прочла. Один человек в Иране: Маджид Занди, он не спит уже двадцать три года – как тебе это нравится?
– Мне моя собственная бессонница не нравится, – улыбаюсь я.
– Чувствует себя прекрасно, на службе восемь часов – что скажешь? – Аннелора говорит нарочито громко, чтобы торговцы вокруг слышали – она убеждена, что никто из них, кроме доходных листков, ничего не читает, – за это и презирает.
– Сверхчеловек, – говорю я.
– Остальные шестнадцать бодрствует – помогает жене по хозяйству, играет в самодеятельном театре, рисует… и так обречен жить до конца. Голова повреждена у человека, – скучно и впрямь как прочитала излагает она: – Может быть такое?
– Ну, раз написали…
В дни между весной и летом, каких только диковинок не увидишь на базаре – торговый бум, везут все, что сколько-нибудь весит, имея форму. Что это – корень, а может, ствол или такая причудливая крона? Обнюхивают это твердое и красное, мшистое, спорят: лекарственный корень? Хлебная дыня? Масляная губка? Торговец горделиво взирает, уклоняясь от спора – как бы не продешевить. Пробуют на вкус, обмеривают взглядом – вот так, сам базар назовет и оценит…
А между летом и осенью базар так наполняется-лоснится… Меня, признаться, это изобилие не радует – прячутся тонкости от тесноты, плод давит, все пространство садов и бахчи, которое и за день не пройдешь, пытается вместиться здесь, на пятачке… шум, гомон… Ждешь опять поздней осени или зимы…
Эта зима: дождь со снегом – самое тягостное, что может послать небо, чтобы поколебать дух и сделать человека скучным и беспомощным.
Я все выходил по утрам и смотрел, думая, что вот в природе что-то сдвинется за свою черту и установится по-иному, но – увы! – ничто не колебалось, не уходило: ни дождь, ни снег. Я возвращался, не заходя на базар.
Раньше я еще как-то ухитрялся, затевая игру с собой, и, случалось, побеждал себя терпением, близко к утру бессонница отпускала; тогда я спал до полудня, думал: «Какая разница, просто сон передвинулся…»
В бессонницу я видел первый луч, раннюю птаху, слышал, как перед самым рассветом дождь начинал шуметь, пробегая по стеклу. Пробежит всегда в один и тот же час и утихает. Отчего? И так каждое утро.
Думал утешить себя тем иранцем, о котором рассказывала Аннелора. Благо, мы не так уж и далеко, он тоже бодрствует в те часы, что я мучаюсь. Я думал о том, как он играет в любительском театре… словом, иранец Занди меня забавлял.
Еще я вспоминал о тех днях, когда в ночь с субботы на воскресенье я засыпал с радостным ощущением – ведь мать не станет будить меня, чтобы отправить в школу. А бывали дни, когда надо было убирать снег со двора. Ляжешь под ватное одеяло, согреешься… а тут отец уже, смеясь, сбрасывает одеяло, чтобы разбудить. Вот ведь благость такого здорового, хотя и короткого, сна – утром шутки, смех отца, ленивое потягивание в постели, притворство и поцелуй матери. Да, дни…
Обычно в такое время нездоровья я убегаю от себя к матери в Бухару, езжу к ближним горам – там, у подножия, маленькое озеро и дикий орех. День иди два живу в доме знакомого, такого же одинокого, как и я сам, рыбака. Он учит меня ловить форель, смеется, ибо я никак не научусь. Ловля не моя стихия.
Вот и сейчас надо убежать, заперев пустую квартиру, и вернуться потом успокоенным и в ладах с собой… Жениться? Ведь время уже, если этим кончится у меня с моей женщиной, не пора ли? Но что-то меня смущает, может быть, эта мысль, такая банальная и никого не оправдывающая: «Не может ли стать хуже? Та любовь, которая еще теплится в нас порознь, не обернется ли скукой и раздражением, когда мы будем бок о бок?» Это говорит возраст, опыт и усталость – все, что может теперь лишь опошлить чувства. Прозевал я свой час, час безудержной, слепой и святой любви…
Я отправился к Бобошо за советом. Пока я разбивал косточку миндаля, перс сочувственно смотрел мне в лицо, почему-то странно беспокойный.
– Что, опять запахи, нездоровится?
– У Сабаха на том конце базара горный перец… и я даже это чувствую, – говорю как можно бодрее.
Вот так и начался наш разговор, тут бы и рассказать ему о женитьбе с долей легкости и иронии. «Отец», – говорю я, смеясь и хлопая его по плечу.
Я заметил, что у профессиональных торговцев женитьба и семья имеют оттенок чего-то тягостного и противоестественного, оттого-то, говоря о ней, они ухмыляются в ус или же нетерпеливо раздражаются – странно. Ведь по здравому размышлению все должно быть наоборот – отцовство, семья в каждой судьбе, без них, мне кажется, невозможно себя чувствовать уверенно за прилавком, это как пай, доля, прибыль…
Но, может, я не до конца еще понимаю их натуру, и потому отношение торговцев к семье кажется одним из немногих базарных противоречий?
– Я так и думал: тебе нездоровится, – с сожалением сказал Бобошо. – Ходил по базару и спрашивал… – Он все суетился, непохожий на себя, пересыпал фисташки с ладони на ладонь, чтобы не смотреть мне в глаза.
– Должно быть, ему тоже не по себе, – подумал я и спросил:
– Как состояние луны?
– В общем-то благоприятное, – уклончиво ответил Бобошо, хотя обычно в эти дни месяца всегда жаловался на плохое влияние полнолуния.
– И на торговлю влияет?..
– Очень, на редкость хорошо.
– Да, луна, – сказал я мечтательно, и мы почему-то уже не могли сдержаться, все говорили о нашем светиле, будто что-то в нас накопилось и вот теперь стоило лишь слегка тронуть тему – покатилось…
– А торговка Зара, – сказал Бобошо, – ты бы видел… сегодня она луноподобна…
Бобошо неравнодушен к толстой армянке Заре – мастерице резать морковь макаронками для плова.
– Да, она прекрасна. И ты красиво говоришь. И сколько кругом упадка от этой красоты. – Я прижался локтями к прилавку, как и Бобошо, и, наклонившись к нему, шептал, а он кивал и улыбался, покручивая ус. – Я это тоже заметил, Бобошо: в дни, когда зима уходит и сушеный абрикос пахнет по-весеннему пряно… женщины делаются луноликими.
Странно, что мы только и говорили о луне. От нечего делать. Должно быть, у нас обострились чувства – ведь абрикос источал пряный запах, совсем ему несвойственный, видимо, замешанный внутри плода среди многих привычных его запахов, чтобы в какой-то день вдруг встревожить, пронзить для полноты ощущения самого чувственного нашего образа – луны.
Вот луна округлилась,
Глядит с прищуром.
Уединимся…
В этих разговорах были нотки вызова нашей всегдашней скучной пристойности, что-то совсем несвойственное, и я вдруг подумал, что надо остановиться и стоять, взяв себя в руки, натянув удила, иначе нас может бог весть куда занести это хмельное. Но куда? Любопытно…
– Говоришь: искал меня? – спросил я, как бы подзадоривая Бобошо.
– Да, и тебя не видели. Ах, жаль! – Он хлопнул себя по колену. – А я бегал…
– Рассказывай, я слушаю. Ведь еще не поздно, – сказал я, чувствуя, что вот наконец тихий, меланхоличный перс скажет о том, к чему исподволь, взвешивая каждый шаг и каждый свой жест, шел.
– Помнишь, – шепнул он, – ты говорил: вот бы какое-нибудь увлекательное дело… тогда стоит рискнуть, а так все это дрянь – мешок фисташек, пуд орехов…
– Помню, – сказал я. Выходит, он так же думал обо мне, будто и я иду исподволь, взвешивая, и что, когда подбрасывал для меня разные мелкие дела с перекупщиками, весовщиками, я менялся, поддаваясь базарной страсти, а сам Бобошо следил, ожидая, пока я созрею.
– Такое дело есть, – сообщил он чересчур доверительно, будто я уже с ним на равных, пайщик.
«Ах ты старый волк», – подумал я, еле сдержав возглас удивления и восторга. Только в одном он ошибся. Обучая меня, он возбуждался сам, увлекаясь и входя в азарт, страсть меняла его, а не меня, тот, для кого все это красивое приключение, никогда не обучается, он чуть выше – и парит, ловко сворачивая на опасных перекрестках.
У маленькой станции должны сбросить с поезда товар, а мы перевезем все это через пустыню в крытых фургонах…
– Товар ты увидишь на месте, – сказал Бобошо, еще больше смущаясь от того, что недоговаривает.
– Круглый, пахучий, маркий, синий? – настаивал я. – Ты ведь понимаешь: быстрее всего прогораешь, когда знаешь все, кроме кое-каких мелочей, – добавил я беззаботно и рассмеялся, чтобы он не подумал, будто мне тревожно от этой затеи, в которую я уже, кажется, вошел, даже не успев хорошенько поразмыслить, – все это возбуждение и хмель, нельзя ему доверять себя, опасно…
– Лекарственные травы, – назвал товар Бобошо и, поддавшись моему настроению, тоже рассмеялся, думая, что, возможно, я удивлюсь и запрезираю его, скажу: какая разница, фисташки или целебный корень – товар жидкий, неувлекающий.
Но я его выслушал спокойно, и даже нахмурясь, и как бы понимая всю серьезность дела, и весь риск, ибо знал, что Бобошо многое недоговаривает, еще не полностью доверяя мне как компаньону.
Если бы я настаивал, то, конечно же, он бы еще кое-что открыл, но я не стал искушать – не все ли равно, трава это или меха, просто мне давно действительно хотелось посмотреть на все изнутри – на тех, кто привозит товар и передает его перекупщикам, и тех, кто, рискуя, перевозит все это часто по нескольку дней – поездом, на верблюдах, на своих спинах – через пески и горные тропы… В этом зрелище было что-то щекочущее, я давно ждал…
Близко к полудню мы перешли с Бобошо в трапезную, чтобы вместе пообедать. Не сразу поняв, почему они берут меня с собой, я сконфузился, ибо ничего, в чем у меня был талант, не требовалось: ни переговоров на складах, ни услуг машинистов поезда и погонщиков фургонов. Никаких дел.
– Ты должен просто создавать вокруг легкость и ироническую беззаботность, – сказал Бобошо. – Торговля это любит. И знаешь, большинство крупных дел проваливалось от чрезмерной серьезности и напряжения… Ты будешь как вестник удачи, талисман…
Я хотел было возразить, ибо никак не ожидал такой роли, но Бобошо спокойно и даже несколько властно положил руку мне на колено:
– Не надо… Есть много людей… каждый второй может уладить на складе или достать бумаги о том, что мы работники лекарственного завода и скупаем в деревнях травы. Но не каждый – клянусь! – может в минуту опасности выйти к постовым с таким простодушным, доверчивым и обаятельным видом, как ты, излучая одну лишь правду… перед которой не устоишь.
– Ты чертовски красиво говоришь, – шепнул я. – Ну, разумеется, я буду выходить к постовым с документами, где все шито-крыто… если это потребуется
– Думаю, что не потребуется. Должно быть, я не так выражаюсь – красиво и потому неточно. Ты можешь и не выходить. Достаточно того, что ты будешь с нами. Как талисман, – опять повторил он.
– Еще одно базарное суеверие? Хорошо, а кто нас поведет?
Бобошо опять – странно – сделался робким и даже заискивающим, чтобы попросить меня не настаивать на разглашении.
– Извини, этого велено пока не говорить… Но ведь ты понимаешь, – заволновался он, – я ведь не рискну передать тебя в ненадежные руки, не волнуйся… И потом в случае провала… ты ведь ничего не теряешь, только ты один едешь без своей части в деле…
«Да, – подумал я, – у тебя надежные руки, ты дол го и тихо готовился для своего, может быть, самого главного выхода… бенефис…»
– У нас это называется бенефис! – сказал я, воодушевившись своей догадкой. – Что ж, по коням!
Бобошо так и не вернулся сегодня к своему месту на базаре, попросил присмотреть за фисташками приятеля Дауда. Мы ели, пили чай, отдыхали, растянувшись на циновках, и я понял, как все продумал он до мелочей, знал все о каждой лекарственной траве, словом, выходил не дилетантом. И даже поразмышлял на досуге над такими психологическими тонкостями, как разум и интуиция, сказав:
– Многие, даже крупные, торговцы, которые были в прошлом и которые есть сейчас, скажем, в Аравии, не правы, полагаясь на одну лишь холодную расчетливость. Все в торговле и вокруг нее интуитивно, полно гибкости. А истинный торговец – это человек странный, эмир причуд…
Бобошо меня совсем покорил всеми этими разговорами, действительно, столько привлекательного и странного, мне не терпелось уже сегодня же быть на той маленькой станции, хотя, по условиям, мы собираемся в Чашме послезавтра и каждый своим путем – поодиночке. Я воздухом, на самолете…
– Что ж, помолимся нашей покровительнице, – сказал я, – это о ней, о Фортуне, мудрец Плиний сказал: «Ей на счет ставится и дебет и кредит, и во всех расчетных книгах смертных она одна занимает и ту и другую страницу». Хорошо?
– Аминь! – заключил Бобошо.
…Итак, сегодня я прилетел в Чашму[6]. Из маленького полуфанерного самолета, который все время летел прямо, в нижних высотах, я всматривался в пустыню: по ней мы погоним назад фургоны.
В эти последние дни зимы, перед коротким своим цветением, пустыня лежала ровная, в островках талой воды. На обратном нашем пути вся она успеет высохнуть и станет белой от соли, из-под кромки соли прорежутся желтые пилочки трав. В пространстве сплошного сна все совершается очень быстро – цветение и увядание, – чтобы не создалось ложного ощущения, будто, кроме сновидений, здесь мелькнуло еще что-то похожее на жизнь.
Так, настроенный философски, пролетал я, и это был тот редкий случай, когда банальность дела пытался осмыслить я созерцательно.
Самолет, в котором, кроме меня, летели еще двое учителей со скрипками на какой-то сельский концерт, сел тяжело, как упал, где-то между полями. Я вышел, посмотрел по сторонам, ежась от холода, и увидел Чашму у подножия трех холмов, но никто из встречных так и не смог вразумительно сказать, какая из дорог к ней ближе всего. Местные жители с удивлением смотрели на меня, казалось, они никогда не слышали ни о самолетах, ни о взлетной полосе в своих краях, такая скрытность и нежелание помогать пришлому так меня забавляла, что, шагая рядом с каким-то крестьянином, я сказал из желания прервать тягостное молчание не очень остроумное:
– Да, это Бобошо, надо же, плут, за одну ночь перенес сюда аэропорт со всеми эхолотами и локаторами…
Попутчик даже не задумался над сказанным мною, не оценил странную игру ума, видимо считая, что, задав встречный вопрос, он скорее поймет, чего я хочу.
– Вы кто? – спросил он весьма неделикатно.
Теперь я решил сделаться скрытным, как бы в отместку, будто я обиделся, и ответил, заторопившись и суетясь:
– Вообще-то я собирался сначала в Су кок… – И свернул на тропинку, зная, что есть другая дорога к Чашме – изучил местность по карте. Вот так, начав с ним серьезно и озабоченно, перевел потом разговор на ровные, бесстрастные тона, а под конец не выдержал – подурачился, напустив туману. Благо, все кругом так озабочены, иначе надо бы было собраться троим и хорошенько побить меня за дерзость.
Пройдя немного по мягкой глине, я остановился, чтобы передохнуть. Земля пахла густо – корень полнел подо мною в толще, зерно трескалось, выпуская наружу свой ус, косточка раскрывала половинки, зеленея. Это чувствовали только мы двое – я и поющий жаворонок, который кружился недалеко, созывая на утехи подругу. Мне было так хорошо… невольно подумалось: «Я ехал ради этого глотка воздуха, и пошли они к дьяволу, торговцы!» Но тут же собрался, не давая себе ослабеть, – долг, жесткий порядок организации, где я всего лишь рядовой, хотя и с привилегиями. Вестник удачи, талисман… Надо спешить, чтобы к полудню, как сговаривались, собраться в гостинице.
Я приближался к холмам, поглядывая на городок, и, увидев его первые дома, понял, какой он весь тихий и серый, из красной глины, похожий на одно их тех селений, которые издавна строятся у колодцев, возле заветных камней в пустыне, у всякой возвышенности, стоящей на пути горячих ветров и несущей прохладу. Типичный наш городок, каких я видел множество, разъезжая с балетом, и которые мне нравятся своей приветливостью и скукой.
Я не ошибся, действительно Чашма предстала такой, какой мне грезилась по дороге на возвышенность: дома поднимались тремя ярусами и кругом было столько дикого ореха, деревья были опущены ветками в воду, чуть вдали речка с крепким мостом, а по мосту проложена железная дорога.
Все это я успел заметить, пока шел к гостинице – длинному одноэтажному домику с окнами во двор, где занимались спортом ученики школы. Неужели так – гостиница и школа имеют общий двор, и школьники поглядывают из окон на приезжих, а приезжие забавляются тем, что смущают учениц, бегая по утрам в одном нижнем белье в котельную за чаем. Скука… Впрочем, какая мне разница, кто на кого смотрит смущая. Это не мой быт и не моя жизнь, я здесь лишь гость, и, должно быть, сам я неэтичен, иронизируя, возможно, и приезжим и ученикам ничего не видится такого, все естественно вписывается в жизнь, как здоровая ее часть.
Зато приятно удивило, что все за меня уже было сделано в гостинице и даже уплачено наперед за чай и глажку, мне, усталому, оставалось лишь протянуть руку к стойке, где сидел администратор, и взять ключ.
Я даже рта не раскрыл, чтобы назваться, как трогательно заботлив Бобошо, предписавший мне такую курортную жизнь.
Бобошо молча пил чай… Странно, я как-то не подумал… вот уж кого я не хотел здесь видеть – Сабаха. Оба пили чай в своем номере напротив моего, держа дверь распахнутой, чтобы увидеть мое появление.
– А вот и наш брат, – негромко сказал Бобошо и, как всегда, проникновенно-приятельски обнял меня. Сабах, вскочив, подобострастно поклонился.
– Долетел, приятно, нашел, не устал, готов, – говорил я все это односложно, чтобы избавить себя и его от возгласов, дружеских похлопываний, которыми люди, самые сдержанные и равнодушные, вдруг начинают обмениваться, встретившись вдали от привычного своего места. Только подумалось тревожно: «3ря не настоял, надо было настоять, тогда бы он назвал… Я бы знал, что и Сабах едет…»
– Ну иди умойся с дороги, – сказал Бобошо. – Ты будешь жить один, роскошно…
– Да? – удивился я. – Такие почести?..
– Ты ведь любишь, чтобы в комнате всегда было свежо.
– Да, уж извините, мужики, – сказал я, должно быть, чрезмерно эмоционально, потому что рассмеялся как-то нехорошо, нервно. – Страсть. Спасибо…
Я зашел к себе и закрыл дверь перед самым их носом, не подумав, затем высунулся и показал им жестами, какая это прекрасная комната. Они, довольные, закивали и ушли к себе продолжать чаепитие, и, услышав по их чамканью, что дверь они так и не закрыли, я оставил и свою полуоткрытой.
Меня потянуло лечь, и я полез на кровать, так ничего и не сняв с себя, кроме пальто.
«Впрочем, какая разница, кого еще здесь соберет Бобошо», – подумал я.
Я чувствовал, что потерял уже интерес. Достаточно было пролететь над пустыней и пройтись пешком мимо размокших полей и увидеть Чашму, взглянуть снова на лица торговцев, обнять Бобошо и зайти вот в эту гостиничную комнату – я все представил. Уже знал, как все будет, получат товар и повезут… Тоска…
Торговцы интересны лишь на базаре, так сказать, в среде обитания, на фоне фруктов. Здесь же, когда я увидел, как пьют они чай из казенных стаканов, обжигаясь, – на базаре они медлительные, с чувством достоинства дуют на пар, – и как вышли ко мне в коридор, покрашенный маслом, – банальные люди…
Всегда в самый, казалось бы, неподходящий момент находится что-то, что, отрезвляя, отвлекает. Уже собрался, настроившись на роль, чтобы проникновенно прожить в ней до конца дела, но нет, вывела – и поди ж ты, какая-то птаха! В тот час я и стал равнодушен к Бобошо и его делу, когда закружился надо мной жаворонок и запел в лад с моими чувствами. Как и жаворонок, я жил, радуясь простору и свету над полями…
Что это? Знаки предостережения? Причуды моей натуры? Так бывает часто… Собрался помочь одному кавказцу в его деле, сосредоточенный и уверенный в своем хитроумии, проходил мимо ряда, где торгуют медом, и вот поймал чей-то взгляд, приостановился – улыбается мне торговка Айша. И я уже забыл о кавказце и о весовщике, бродил, думая об Айше, а через час подошел к ней, чтобы поболтать, попробовать горного меда, протянутого на краешке расписной ложки.








