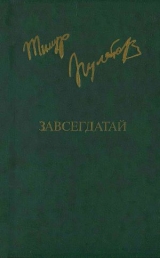
Текст книги "Завсегдатай"
Автор книги: Тимур Пулатов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 26 (всего у книги 33 страниц)
Прозрачный мед, в каплях застывшего воздуха и оттого кажущийся всегда свежим и душистым, светится, как лицо Айши, я ей говорил об этом в тот вечер..
А было еще на складе… увлеченно убеждал кладовщика взять товар сверх положенного, и уже осталось только удовлетворенно ударить по рукам, как вдруг услышал: засвистел с прищелкиванием сверчок.
Меня это так приятно удивило, я сел послушать, чувствуя, как ушло нервное и как я отдыхаю, усталый.
– Сверчок, – сказал я кладовщику, но он суетился, чтобы быстрее закончить со мной и закрыть склад: – И часто он так? Свистит в один и тот же час?
– Я не прислушивался, – угрюмо ответил кладовщик, щелкая замком и намекая этим, что еще минута бесполезной болтовни – он вешает его на ворота.
– Насекомое, – сказал я, – оно терпеливо слушало наш торг, а потом как свистнет…
Кладовщик презрительно, хотя и жалея, глянул на меня, и я ушел поскорее от его убийственного взгляда, думая о пении сверчка… Это вроде кузнечика, думал я, только кузнечик прыгает днем, а этот хозяин темноты. Из семейства жуков… Впрочем, могу и ошибиться с насекомыми, ибо биология – моя страсть, а человек страстный, как известно, чаще всего летает по верхам, помахивая немощными крылышками.
Вот так всегда – птаха, сверчок, женщины, и я уже расслабляюсь, теряя цель. Моей сосредоточенности хватает ненадолго, я как будто в игре с завязанными глазами, иду на ощупь с вытянутыми руками, а когда наткнулся, весело Смеясь, снимаю повязку, прочь…
Уверен, что из-за этого у меня ничего не вышло в балете, а ведь подавал надежды. Все из-за дурацкой неспособности молча, стиснув зубы, идти до конца, не отвлекаясь.
Почти всякий раз во время танца заходила жена учителя: ничего особенного, вешала у окна ключ от дома – учитель жил рядом с театром, через двор, – или молча клала на подоконник круглый рубль ему на обед, уходя на целый день. Минута – и она снова оставляла нас одних, но этой минуты было достаточно, чтобы день мой был испорчен, я начинал спотыкаться и делался неуклюжим. Она была обаятельной женщиной, хотя и тихой, и маленькой, и, должно быть, несчастной с моим учителем. Всякая чушь лезла мне в голову: «Куда она ушла на целый день?» «И о чем они, супруги, говорили утром за завтраком?» – и все оттого, что я знал любовницу учителя.
Странно, почему она заходит – неужели нельзя отдать ему этот рубль дома, за завтраком, и сделать еще один ключ, чтобы у каждого был свой?
Первое время мне от чрезмерного простодушия самонадеянно казалось, что заходит она, чтобы показаться мне ненадолго – ведь, как женщина опытная, она не могла не заметить, что нравится мне. Возможно, так оно и было с начала нашего знакомства, но потом я почувствовал, что она очень быстро потеряла ко мне всякий интерес и продолжала заходить по утрам в театр из привычки, не желая даже повернуться в мою сторону.
Словом, я терялся… а учитель хлопал меня по ногам линейкой, морщась:
– Ну, волчок, волчок!
Не знаю, что это должно было означать в его устах– волчок, ибо к балетной терминологии этот окрик не имел отношения, просто, наверное, учитель, все больше разочаровываясь во мне, дал мне такую кличку – оригинально…
Думая об этом забавном, я, оказывается, заснул. Бессонная зима отпустила, едва я прошел пешком мимо поля и почувствовал себя опять вышедшим из очередной игры. Должно быть, бессонница приходит всякий раз, когда ощущает цель, и, наверное, эта цель и делает наше существование тревожным – слаще всех сон у детей и горлиц, не ищущих ни в чем смысла, жизнь сама их убаюкивает за их мудрую неприхотливость, ибо любит недокучливых.
Моя дверь оказалась заботливо прикрытой. Наверное, они уже все слетелись, и старый, мудрый коршун Бобошо ворчливо журит их в комнате напротив.
Долго же я спал – за окном уже вечер. Я вышел в коридор: да, наш главный – Бобошо своим ленивым, чуть пренебрежительным тоном наставляет, ему робко отвечают оправдываясь. Бобошо снова обращается к каждому по отдельности, словно только это может внушить ему уверенность в своем превосходстве – их робкое оправдывание по второму, по третьему кругу.
Что ж, подумал я, команда подобрана разумно, кроме Сабаха, желчного и мнительного, здесь Карахан – сама слепая мощь и выносливость, осторожный, вкрадчивый Дауд – сладострастный любитель наслаждений, гурман, и с ними глухонемой Норбай – я узнал его по частым мычащим восклицаниям. Какой букет, какие противоположности, дополняющие друг друга, умен Бобошо! А я как нечто символическое, этакое духовное начало, облагораживающее языческую братию.
Хотя если мы погорим, это нисколько не оправдает меня перед законом – ведь все мы занялись делом преступным…
Единственный, кто меня здесь раздражает, – Сабах Он насторожен и, должно быть, до сих пор считает меня чем-то вроде осведомителя.
Случалось, что дела, за которые я брался, проваливались. Так было, кажется, два раза, и Сабах ходил и шептал, настраивая против меня торговцев, хотя все знали, что я вышел из игры, притворившись больным. Мы с Сабахом повздорили, Бобошо мирил нас, но торговец пряностями все не успокаивался и грозил: «Увидите, если я его выслежу – убью!». Сказал он это в трапезной, когда был пьян, и Бобошо, говорят, трогательно за меня вступился и погнал его прочь из-за стола, голодного.
Боясь, как бы не увидели меня подслушивающим разговоры, я зашел, хотя и не хотелось их видеть. Я был бодрый, отдохнувший и заинтересованный, я весь, должно быть, сиял от благорасположения.
Все встали, здороваясь со мной за руку и улыбаясь моим словам:
– Только дисциплина сулит успех организации!
– Ты так завидно спал, баловник, – сказал Бобошо, сразу сделавшись при моем появлении приятным и мягким – ему казалось, что именно таким я его и знаю всю жизнь – не жестоким и волевым, каким был он минуту назад. – Ну идите! – махнул он остальным, и все молча вышли, оставив нас двоих, ушли безропотно, проглотив такой его пренебрежительный жест, потому что чувствовали, что, хотя сейчас я такой же рядовой, как глухонемой Норбай, все же с Бобошо у нас особые, дружеские отношения от обоюдной внутренней симпатии.
– Ну что? – спросил я как можно беззаботнее, не напрягаясь: – Сегодня ночью?
– Скорее всего завтра, – так же легко, улыбаясь, отвечал Бобошо, словно речь шла не о рискованном деле, а об интрижке с торговками: – Разница в один день допустима…
– Разумеется, в таком сложном деле… хотя ты ведь лучше меня знаешь, что допуски и неточности в сроках – это не повод для расслабленности, – сказал я несколько нравоучительно, так сказать, в духе… – Странно, что и Норбай… – добавил я осторожно.
– Норбай потом останется. Здесь его родина, и он решил вернуться… У него много знакомых погонщиков.
– Что ж, мудро… Все ребята подобраны…
– Как будто, – пожал плечами Бобошо, – но ты ведь знаешь, все они лодыри… надо держать в руках, не расслабляя ни одной нити. – В его тоне я уловил самодовольные нотки и подумал, что он так откровенен и делится со мной из-за того, что чувствует себя сейчас уверенным. И только со мной, с человеком в общем-то своенравным и независимым, он ощущает свою естественную слабость и потому, откровенничая, ждет все время похвалы и поддержки. Этакий князек, любящий иметь рядом с собой поэта… но беспощадно наказывающий его в случае измены. Если так, не появится ли у меня при малейшей оплошности еще один враг, кроме Сабаха?
– Только я еще болтаюсь, не зная свою роль, – сказал я ему осторожно. – Вы спорите, обсуждая, а я сплю. И ты еще назвал меня при них баловником. В конце концов ведь может назреть бунт… увидят, что я на особом положении курортника.
– Не думай об этом! – сказал Бобошо, энергично отмахиваясь как от назойливого.
– Нет, меня это волнует… а потом, я ведь могу оказаться талисманом, приносящим одно несчастье, – сказал я и рассмеялся, чтобы сгладить впечатление от своих слов.
– Бунт подавим, – небрежно ответил Бобошо, должно быть, утомившись от разговора со мной. Он зевнул, глядя в окно: – Здесь такой воздух… теперь я прилягу, когда ты бодрствуешь.
– Да, расслабься. Я прослежу, натягивая нити…
– Только не переиграй, – шепотом предупредил Бобошо, ложась на кровать и сразу же засыпая.
Бодрствовать я вышел на площадь перед гостиницей. Солнце уже клонилось, но было еще тепло. Я дышал, все радуясь чистоте воздуха и тишине.
Сел у дверей на теплый камень, отглаженный и натертый до блеска от сидения тысяч постояльцев этой гостиницы за все сорок лет, что это здание стоит. Сорок лет… время течет мимо камня, подумалось что-то тревожное и тоскливое, но прервалось, не оформившись в мысль, достойную записи.
Я сидел и смотрел по сторонам, хотя смотреть было не на что – площадь пустовала, а передо мной между старыми платанами с облезлой зеленой корой была зажата небольшая лавка. Хлебная или молочная, а может, мясная. В маленьких городах базара как такового нет, торговец стоит в одиночестве там, где ему удобно чаще всего возле своего дома – можно постучаться в любые ворота и купить что надо. А лавки эти выглядят чем-то чуждым, до смешного убогим именно потому, что имеют постоянное свое место где-то рядом с гостиницей, вокзалом – для робких приезжих.
На какой-то миг во мне заговорил торговец, и я подошел к лавке, глядя на выставленные в ряд банки с простоквашей и медом.
Остановился, и тут из лавки выглянула торговка– миловидная, с белым татарским лицом, лет двадцати пяти. Она посмотрела на меня, как и подобает смотреть на праздношатающегося приезжего – чуть свысока, я же растерялся и невольно сделался игривым, облокотив, протянул руку к банке с простоквашей.
– Покупаю. Собственного изготовления?
Татарка кивнула, не зная, чем отвлечься от разговора со мной в своей тесной лавочке.
– Мед тоже… своя пасека?
– Пейте скорее, закрываю, – сказала торговка неохотно и снова глянула на меня несколько надменно, как на постояльца такой скучной гостиницы – с коричневыми стенами и железной кроватью.
Я пил медленно, наслаждаясь, и смотрел на торговку в упор, и мне все больше нравилось ее лицо, в котором было столько здоровья и деланного равнодушия ко мне, человеку на вид хилому и нервному.
«Что ж, это хорошо… прониклась… праздное шатание для мужчины – неплохая реклама… порой, – подумал я. – А надменна оттого, что все, кто жил когда-то напротив, пытались заигрывать…»
Я выпил всю простоквашу и, сделав совершенно равнодушное лицо, отошел, чтобы вернуться к своему камню.
«Ведь должна же как-то оценить… выделить из той тысячи», – подумалось с обидой.
Я сел и стал поглядывать, и видел, как она не закрывает свою лавку и даже не ушла куда-то, оставив товар, как было до моего появления. Голова ее то появлялась в окошке, то снова исчезала – в ряд вместо банок ставились бутылки с молоком, потом бутылки снова убирались…
«Выделяет, – подумал я самонадеянно. – Это как рок – влечение к молочницам и хозяйкам пчел…»
Мне сделалось забавно и смешно. «Нет, – подумал я, – такую глупостью не возьмешь, не оценит, иначе можно было бы что-нибудь сострить насчет меда, перемешанного с простоквашей для здоровой закваски…»
Я остановил тихого, болезненного на вид мальчика лет двенадцати, чтобы узнать о торговке. Мы говорили шепотом, как мужчины, и мальчик воодушевлялся от этого все больше – его уносило к несущественным мелочам, которые могут лишь поглотить и потушить всякую страсть – к примеру, рассказ о том, как татарку прошлым летом скрутило здесь, в ее лавке, и как ее везли резать аппендикс.
Зато нужное я узнал, хотя и не без раздражения и ненависти к болтливому мальчику, – зовут ее Савия, живет возле Железной дороги с сыном, у сына есть бабушка, которая имеет свой дом и балует внука, покупая ему транзистор, который помещается в ухе.
– Сколько? – спросил я нетерпеливо.
– Транзисторов? – не понял мальчик.
– Ушей, – передразнил я его. – Лет внуку… сыну?
Оказалось, что семь.
– А что же мать… отец так скуп? – осторожно поинтересовался я и был сполна удовлетворен ответом. Это меня так воодушевило, что я стал как-то нехорошо посмеиваться, ударяя себя по колену.
– Говорят: моряк, плавает, – повторил мальчик, у которого тоже пробудилось что-то неблагородное, хитренькое, мужское. – А все знают, что… – И он сложил пальцы, изобразив решетку, и глянул сквозь нее на меня тусклым глазом.
– Ну, довольно! – сказал я строго, мне стало неприятно оттого, что пробудил в нем столько во вред его чистоте и наивности. Я положил ему на ладонь два металлических рубля и сказал, чтобы на один он купил для меня меда у Савии, а другой оставил себе за наушничество.
– Плохо наушничать… хотя за это иногда и платят, – добавил я угрюмо.
Он побежал, а мне уже не сиделось спокойно, я стал прохаживаться у входа и вдруг увидел Сабаха. Вернее, поймал его настороженный взгляд, будто он выслеживал меня.
Сабах перешел площадь и предстал передо мной подобострастный, ловко расслабившись, словно таким и шел ко мне с самого начала.
– Ну как? Справились? – шепнул я так, будто знал, куда их, небрежно выгнав из комнаты, послал Бобошо.
– Колеса смазали, – ответил Сабах, и я понял, что ходили они осматривать фургоны и приводить их в порядок, чтобы ночью, когда поедем к железной дороге, не скрипели.
– Хорошо, – сказал я надменно и, желая внушить, будто замещаю сейчас Бобошо, добавил: – Спит…
– Нам бы мяса – поужинать, – робко сказал Сабах в тот самый момент, когда я подумал: а не переиграл ли с ним, не слишком ли предстал властным… возможно, сам Сабах его и замещает… скорее так. Ведь Бобошо, как бы я ни был ему близок, не доверит, зная, чего в моей натуре недостает. Ах, надо бы узнать и лестницу, кто из нас на какой ступеньке!
– Да, надо бы, – сказал я, дружелюбно похлопав Сабаха по плечу. – И вообще, черт! Давно хотелось с тобой… надо обязательно, когда вернемся с удачей. Выпить я могу, когда надо, просто мало кто видел…
– Одно удовольствие, – ответил Сабах, быстро и кратко обняв меня. – Одно удовольствие с тобой…
Мальчик уже возвращался, и я отвел его в сторону, забыв о Сабахе, – мне не терпелось…
– Сказала: мог бы и сам еще раз подойти, – ответил мальчик и как-то заговорщицки, оглядываясь, протянул мне банку с медом.
«Завтра, – подумал я, воодушевляясь, – непременно завтра…»
Потом я не знал, куда себя деть до полуночи, когда мы должны были гнать фургоны к железной дороге. Уверенности, что товар сбросят сегодня, у Бобошо по-прежнему нет, хотя он и выспался и был оптимистичнее, но все равно рисковать не хотел. Ну что ж, прогуляемся ночью.
Я думал о Савии, заходя к себе в комнату и снова выходя из гостиницы, и в темноте даже подошел к лавке и осмотрел ее, закрытую, снаружи, при свете луны.
Остаток вечера болтал с профессором. Мы с ним как-то очень быстро познакомились и разговорились, когда стояли у бака с чайниками, почувствовав друг к другу естественное влечение людей образованных, оказавшихся среди такой скучной публики.
Он назвался, когда пригласил меня к себе в комнату:
– Доктор Шайхов! – и оказалось, что он приехал сюда со своими людьми наблюдать весеннее возвращение птиц в пустыне. Люди его уже разъехались, каждый на свое место, чтобы следить за небом.
Наверное, желая удивить меня тем, что все вокруг так разумно, и внушить благоговение к своей работе, доктор сказал:
– Сейчас вот модно держать на столе в конторах этакие календари… Как их называют? Раскидные? Раздвижные? Это я вам говорю, чтобы сравнить с календарем, который знает каждая птица. Птичий календарь…
– Да, – ответил я. – Ведь сказано же: «И аист под небом знает свои времена, и горлица, и журавль, и ласточки наблюдают время, когда им прилетать…»
Шайхов был приятно удивлен, он чуть ревниво смотрел на меня, дуя на чай, но не отказываясь от мысли поразить меня чем-нибудь этаким экстравагантным из мира своей науки.
– Вы знаете, – сказал доктор, – я сторонник… биология должна выглядеть несколько наивноватой, чтобы добиться всеобщего признания и всенародного внимания к своим усилиям. Наивноватой из-за своей интуитивности…
Биология наивновата и интуитивна – это действительно экстравагантно в устах почтенного профессора и способно удивить смелостью.
– Да, – опять согласился я. – Вот и Аристотель, к примеру: «Пеликаны также улетают в другие края, переселяются из Стримона на Истр». Из Стримона на Истр… Наивно и прекрасно!
А близко к полуночи, приятно и тревожно суетясь, мы отправились на первую свою вылазку и, чтобы не привлекать нездорового внимания, пробирались по двое задними дворами на окраину Чашмы, к фургонам.
Я выбрал себе в попутчики молчаливого Норбая – не хотелось ни с кем разговаривать, я злился, думая, какого дьявола я сейчас иду? Вместо того чтобы зябнуть, не лучше ли провести вечер, болтая с доктором Шайховым, иронически подзадоривая старика некоторым снобизмом по отношению к его науке. Во время первого нашего разговора, я чувствовал, он был обескуражен, так и не понял: острю я оттого, что много знаю о птицах научного, или же просто самонадеянно невежествен. «Мы должны продолжить, любопытно», – сказал Шайхов.
А лучше всего, если бы я сейчас полежал и помечтал немного о молочнице в лавке напротив, вспомнил бы ее чувственное лицо, которое сразу замкнулось, едва увидела Савия, что глянул я неравнодушно…
И вообще, почему я еще здесь? Пора кончать с торговцами, мне скучно. Одна лишь Савия… если завтра она встретит меня так же холодно, я сажусь в самолет и улетаю, обиженный.
Так, злясь на все, не заметил я, как Норбай привел к широкому двору с навесами, под которыми чернели фургоны и фыркали лошади. Остальные четверо с Бобошо тоже уже подошли и смотрели, как погонщики выводят лошадей, привязывают… Благо, была первая ночь полнолуния, кругом висел ровный свет, можно было разглядеть лица торговцев и погонщиков.
– Полнолуние ты тоже предвидел? – спросил я Бобошо шепотом.
– Да, чтобы было меньше копоти и дыма. – Я заметил, как с Бобошо сошло напряжение, он улыбнулся.
– Базарный стратег, – заключил я и понял, что был он прав, говоря о том, что я нужен лишь для самой малости, не черной и рискованной работы – для легкости и поднятия духа. Ведь действительно, не пошути я сейчас о том, как ловко подсчитал Бобошо ночь полнолуния, все бы стояли напряженные и угрюмые, а может, даже перессорились из-за пустяка. Нет на свете людей более раздражительных и сварливых, чем торговцы, и Бобошо хорошо знал, с кем едет.
Но вот лошади уже запряжены, фургоны выстроены, их шесть, и каждый отвечает за свой фургон и за товар, который повезет.
Потом стали выводить фургоны, и мы вскакивали на подножку, чтобы сесть рядом с погонщиком. Мне достался третий фургон, и, сидя рядом с молчаливым погонщиком, я стал разглядывать… Мне нравились эта езда и этот фургон, что-то ребячливое прыгало во мне от восторга… Полумрак и тихая езда, колеса смазаны, не скрипнут – постарался Сабах.
Сабах едет где-то сзади, кажется, пятым, и я его не вижу за высоким фургоном. Я ощупывал… фургон был сплетен полукругом из толстых веток, а задняя дверца сколочена из досок. Передняя же дверца, возле которой мы сидели с погонщиком, была поднята наверх и служила как бы навесом. Я просунул голову внутрь фургона и увидел, какой он просторный, пахнет соломой. Где-нибудь в дороге можно спокойно переночевать, не выходя из фургона, надо лишь опустить переднюю дверцу. Стены такие крепкие, что никто не сможет без усилия отодвинуть прутья снаружи, тепло в соломе… да, это и хороший дом во время длительных вылазок.
Удовлетворившись осмотром, я повернулся к погонщику, чтобы взять у него поводья. Оказывается, он следил за мной краем глаза, и моя суетливая ребячливость умилила его, улыбнувшись, он бережно протянул мне поводья, как протягивают младшему и неумелому, хотя погонщик был одного со мной возраста.
«Надо быть сдержаннее, – подумал я, – не хватает, чтобы и погонщик заподозрил… Ведь этот волк провел по пустыне не один караван, у него глаз наметанный. Может, где-нибудь подслушать разговор Сабаха и Бобошо обо мне и вставить: «Да, он не такой – торговца я чувствую по запаху…» Добавит подозрений».
Я вел фургон, легко натянув поводья, лошадь, должно быть, прекрасно знала эту ночную дорогу – шла медленно, без принуждения. Это второй раз так волнующе… Раз было в детстве, ехал очень долго из деревни в Бухару и сам вел лошадь рядом с лошадью дяди. Дядя ехал и всю дорогу хвалил. «Прекрасно, прекрасно!» – запомнил я. Мы с ним договорились, что обратно я поеду один, дядя – он был офицер – будет далеко сзади, поглядывать мне в спину в бинокль. Я так мечтал… но не вышло, разгоряченный, я простыл по дороге и слег, дядя уехал один и написал мне: «Чтобы не было лошадям обидно, я менял их, половину пути до высохшей шелковицы я ехал на своей, а твоя привезла меня благополучно и стала у дома, отчаянно лизнув кольцо, ухватившись за которое ты так любил раскачиваться на воротах». И дальше дядя, чтобы умилить меня, ребенка, простодушно приписал: «Это лошадь тебя целовала», хотя от этого, я помню, мне сделалось как-то странно и холодно.
Если я выдержу и не сбегу, вот теперь займусь тем, чем не удалось насладиться в детстве, – уговорю Бобошо снять с моего фургона погонщика и поведу сам, ибо до сих пор живу с мучающим ощущением, что поцелуй лошади так и остыл без взаимности.
Нет, что и говорить, в этой жизни, которую я сам себе придумал, есть и свои маленькие прелести, эта поездка, например…
У самой железной дороги погонщик опять забрал поводья, и фургон спустился в широкую лощину и стал. Рельсы блестели высоко наверху, и, глядя на них, я снова оценил талант Бобошо – здесь, недалеко от станции, поезд замедляет ход, и, стоит лишь успеть вынести к дверям вагонов товар, мешки сами покатятся вниз, к ногам лошадей, так быстро, что даже опытный глаз следящего не успеет разглядеть все до конца.
Хотя никакой уверенности, что это случится именно сегодня, да и сам Бобошо не раз предупреждал, что мы вроде бы репетируем, все волновались, а когда услышали гудок паровоза, Карахан первым не выдержал и почему-то залез в фургон. И это самый смелый наш товарищ… Но Бобошо лишь глянул на него, и Карахан так же быстро вылез и стал рядом со мной. Мне было забавно, я нисколько не тревожился. Такое ощущение, что рискованная сторона дела меня не касается, и, попадись мы сейчас с поличным, меня оставят здесь одного без наручников. Ведь я чувствую себя вышедшим из дела, лишь наблюдая со стороны, чтобы записать потом тайком увиденное…
Второй день в Чашме начался… было тихо и солнечно, когда я распахнул окно и глянул в сторону лавки, напрягаясь. Шел пар отовсюду, земля высыхала, твердея, – дома и деревья; весь городок, такой приветливый с утра.
Потом я прохаживался вдоль длинных и низких, как гостиница, домов, под платанами и в орешнике за лавкой, но Савия все не появлялась, не открывала. Я решил позавтракать у нее простоквашей и вот уже час ношу с собой хлеб. Я отказал торговцам, просто не зашел к Бобошо, постарался выйти из гостиницы незаметно, и мой отказ от их общества выглядит так подозрительно. Впрочем, мне все равно, пусть думают, я волен завтракать там, где мне Приятнее, – по условиям, я теряю свободу лишь с полуночи, когда надо отправляться за товаром, с этого времени я подчиняюсь Бобошо безропотно, коль скоро я еще с ними.
Эти нервы… меня бросает в обе крайности, незаметно собирается злость, как сейчас, потом отпускает, и приходит такое сладостное благодушие… Вот идет Ка-рахан, минуту назад я бы бросился на него с кулаками, если бы мне показалось, что он следит за мной, – так мне стали противны торговцы, сейчас же я улыбаюсь и машу ему рукой. Он мне жестами дает понять, что его послали купить что-нибудь на завтрак и что меня тоже приглашают. Я киваю с благодарностью и слышу, как из маленького белого здания, мимо которого проходит, широко ступая щегольскими желтыми сапогами, Карахан, стучат ему в окно.
Вижу, как Карахан побледнел, сник и пошел, тревожно поглядывая в мою сторону.
Я постоял, пока Карахан не зашел в здание, куда его так властно позвали, и понял, что случилось неприятное. Вспомнил, что в этом здании сидит постовой, следящий за всем, что происходит на улице, это он так небрежно, словно был заранее убежден в виновности Карахана, постучал в стекло, даже не потрудившись выйти наружу.
Было у нас условие: не оставлять товарища в беде и сразу же сообщать Бобошо, если кого-нибудь возьмут. Только я не знал, взяли ли Карахана или, может, постовому просто захотелось выпить чаю, и он позвал Карахана, желая послать его за кипятком.
Я подкрался… постовой сидел напротив Карахана и угрюмо поглядывал, недалеко от окна стоял доктор Шайхов, и это меня воодушевило… Потеряв солидность, столь необходимую в разговоре с постовым, вбежал в комнату. И только за порогом взял себя в руки, сделавшись меланхолично-надменным.
– Доброе утро, доктор Шайхов! – приветствовал я его, подав руку, будто ради этого пожатия и зашел сюда. – После нашей вечерней беседы несколько любопытных идей… – Продолжал я здороваться за руку и с постовым и с Караханом, но глядя все время на профессора. – Где-то в мире интуитивного, о котором мы говорили… Простите?! – Я словно только сейчас догадался, удивившись: – Что вы делаете с самого утра в этом не очень-то веселом заведении? Надеюсь, вас не обокрали? И с вашими людьми в пустыне?..
– Да нет, боже упаси, – трогательно замахал руками Шайхов. – Просто от нечего делать наношу визиты… Вчера, например, чаевничал с заведующим местной аптекой – душевный человек… потом со смотрителем водонапорной башни – этот так себе…
– Я с ним даже в столовой рядом не сяду, – вмешался в разговор постовой, с уважением слушавший нашу с Шайховым болтовню. – Необразован…
– Да не в этом дело! – искренне было взялся разубеждать его Шайхов, но, словно утомившись, махнул рукой, чтобы поскорее попрощаться с постовым. – Спасибо, в следующий раз… – И, дружелюбно обняв меня, потянул к выходу. Я повернулся и успел выразительно глянуть на Карахана, желая успокоить его, и вышел, не попрощавшись с постовым.
Мы медленно пошли по улице, болтая, и Шайхов сказал, что еще сегодня он должен будет нанести визит… «Как он называется… скупает лекарственные травы?» – смутился доктор, не находя слов.
– Лекарственные травы? – удивился я, должно быть, чрезмерно выразительно, и если бы Шайхов был потоньше и не смотрел бы на человека взглядом птицы, перенося психологию двукрылых на двуногих, то обратил бы внимание на то, почему это меня так взволновало.
– Тот малый, который показался постовому подозрительным… он позвал его стуком в окно… вынул бумагу, и тогда я вспомнил, что…
– Должно быть, его называют заведующим пунктом, – хотел было я пофантазировать, но Шайхов воскликнул, перебивая меня:
– Да, ведь вы тоже собиратель трав?! Это был ваш товарищ? Почему вы не вмещались и не объяснили постовому? – Шайхов не укорял и не подозревал, просто с детской непосредственностью восторгался, удивляясь совпадению.
– К чему? У него ведь документ… подтверждающий. И пока мы болтаем, постовой, наверное, уже прочитал и, извинившись, отпустил моего сотрудника.
– А если нет? – продолжал горячо Шайхов, и я подумал, что он просто рад, что нашел себе такую историю. – Вы знаете, постовой показался мне человеком дотошным и подозрительным, одно неосторожное слово, косой взгляд вашего товарища… Я думаю: надо вернуться и узнать, я могу вмешаться авторитетом. – Шайхов оказался одним из тех милых людей, которые не могут без какого-нибудь волнующего занятия, если вокруг ничего не случается, они выдумывают для себя историю и, войдя в нее, поверят, а выйдут утомленными и опустошенными, но с чувством удовлетворения-это называется ’’жить полной жизнью”. Неспроста мы с ним сразу друг другу понравились.
– Доктор, все не так мрачно. – Сейчас меня Шайхов раздражал, я думал, как от него отделаться, потому что увидел: лавка открыта и банка с моим завтраком выставлена. – Благодарю, если понадобится авторитет… – И я довольно бестактно и решительно первым подал ему руку, прощаясь. И, поругивая доктора в душе, заторопился к молочной лавке, чувствуя, как проголодался.
Когда я подошел, Савия выглянула, и я протянул руку к банке с медом, будто собирался это выпить как простоквашу. Ну вот, оказывается, она тоже из мира сего и ценит глупость, потому ей понравился мой жест и дурачество. Савия чуть улыбнулась, поправив волосы.
– Мне так вкусно… вчерашний мед, я решил и утром, – начал я, немного смущаясь и делаясь наперекор этому еще более болтливым и развязным. – Но лучше ведь дар коровы, чем пчелы? А вы, Савия… так вас зовут?
Она смотрела, как медленно я пью простоквашу, благожелательно и с интересом, а я думал: как надо мало времени… вот уже она меня выделила из тысячи приезжающих и уезжающих – это меня так воодушевило…
– Могли бы сами спросить, – сказала Савия тихо. – Этот мальчик, он разнесет…
– Но ведь вы были так неприступны… я пил, и у меня все застревало в горле, – ответил я, порадовавшись тому, что ее беспокоит чужое мнение, – хороший знак, значит, учла и молву, когда думала обо мне.
– А что я должна была? – как бы удивилась моим словам Савия. – Городок маленький, каждый подходит… И вот сейчас, вы уже второй раз стоите, а из дома напротив смотрят, как вы долго…
– Дом напротив? В гостинице живут мои товарищи.
– Это вы-то собиратели трав? – сомневаясь, спросила Савия, ставя второй ряд бутылок.
– Непохож? – так сводя одну глупость с другой, я договорился, что провожу ее вечером, ибо ничто так не наполняет страстью, как легкомыслие, банальные слова, повторяемые с каждой другой женщиной с большей или меньшей откровенностью.
Я простился с Савией и продолжил прогулку, держась подальше от гостиницы. Это как предохранительный инстинкт – нежелание встретить кого-нибудь из моих торговцев, ибо сам вид их мог испортить мое благодушно-приподнятое настроение. Я чувствовал, что не дождусь вечера и снова приду к Савии – и все испортится. Со мной всегда так.:, поначалу теряю голову, если чувствую благосклонность женщины. Это, конечно, если я в знакомой среде, в своем городе или же в Бухаре ухаживаю. В чужой же местности, я заметил, это тоже как инстинкт – перед решающей встречей и объяснением меня тянет осмотреть все вокруг, чтобы знать хотя бы ту улицу, по которой буду прогуливаться, где она кончается, какие в ряду дома, чтобы в случае неудачи легко свернуть и не блуждать в одиночестве, неизвестно где и зачем. Словом, осторожность все время напоминает о себе, не давая забыться.
Сейчас я решил выйти к железной дороге и пойти вдоль, до окраин Чашмы, привыкая к месту, – мальчик сказал, что Савия живет в одном из домов у дороги. И еще мне было интересно посмотреть на все днем, ибо ночью мы уже пробирались вчера к железной дороге. Это сделает ощущение здешних суток полными и придаст такую уверенность с Савией.








