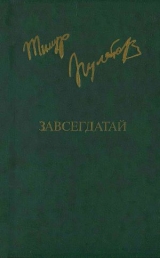
Текст книги "Завсегдатай"
Автор книги: Тимур Пулатов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 33 страниц)
Туман уползает, но утро еще не наступило. Еще серый одинаковый свет, но не лунный, сотворяющий кругом замысловатые тени, а свет, как бы проникающий во все, просачивающийся сквозь барханы, заросли и скалы и оттого не оставляющий теней и своих отпечатков, спокойный, умиротворяющий. Едва хвостики тумана исчезают в норах и трещинах камней, чтобы, уплотнившись там, затвердеть и превратиться в пятна ярко-красной, голубой и желтой краски, проносится по пустыне следом легкий ветерок. Всегда кажется, что каждодневный на рассвете ветерок, теплый и солоноватый, прогоняет туман, а без его появления туман прожил бы еще немного, до первых лучей солнца.
Солнце уже вышло, но еще не видно из-за желтого воздуха пустыни. Его увидят, когда первые лучи коснутся песка и плавно так, со звоном лягут, превратившись в сплошной, новый уже, белый свет. А пока лучи его тянутся к земле, холод в высших сферах, через которые эти лучи пробиваются, спускается все ниже и ниже, самая подвижная его струя первой достигает земли – от нее и получается роса, – а плотный последний слой холода, спустившись потом, когда уже роса успела превратиться в туман, легко соприкасается с теплом камней и песка, оставшегося после ухода тумана, и от тепла земли и холода высших сфер и рождается этот легкий ветерок.
А это значит, что уже пришло наконец утро в пустыню. Ветер покачнет травы, зарябит песок, сорвет пух и перья со скал, словом, ударит в неслышный колокол Дня.
Еще до прихода ветра коршун, спавший с открытыми глазами, безо всякого усилия, перехода от сна к пробуждению увидел наступление рассвета.
Все еще не вылезая из гнезда, не потягиваясь, не расправляя тела и крыльев, он просто смотрел. Тот самый суслик, что был разбужен запахом влаги, давно уже возился возле запасного выхода своей норы, собирая разбросанный саксаул. Взяв стебелек передними лапками и держа его меж коротеньких когтей, он важно и нелепо шел на задних лапках к выходу, чтобы прикрыть его.
Коршун уже давно хотел полакомиться соседом, чья нора находилась на подвластной ему территории. Но суслик днем, когда коршун охотился, почти не вылезал из норы, а ночью, когда суслик промышлял, коршун спал. И видел его коршун только изредка, вот в такие бессонные ночи или перед самым рассветом, когда суслик что-то поправлял у себя возле норы, что-то расширял или переделывал, был занят строительством.
Но рассвет – не время охоты. Тело тяжелое после сна, крылья помяты. Прежде чем начать охоту, надо сделать хотя бы несколько кругов над скалой, чтобы размяться, но суслик уже успевает заметить коршуна и вернуться в свою спальню.
Закрыв потайной выход саксаулом, суслик стал теперь на передние лапы, а задними лапами расковырял песок и насыпал слой его на стебли, чтобы место это не бросалось в глаза, и побежал к входу в нору, и коршун с сожалением посмотрел ему вслед, на жирные его ножки и вздутые от сытости бока.
По легкому треску вокруг скалы коршун понял, что лучи солнца уже обильным потоком достигли песков – это корочка соли, охладев за ночь и затвердев, лопалась^ от тепла. Коршун поднялся наконец на ноги и, подойдя к краю гнезда, выглянул наружу из расселины.
Заметил он сразу, что в пустыне уже началась работа. Первыми, как всегда, начинают ее жуки-скарабеи. Видно, парочка степных антилоп – джейранов, животных, которых коршун встречает теперь уже так редко, помчалась на рассвете далеко на водопой и где-то здесь рядом оставила после себя переваренную за ночь траву – навоз. Скарабеи, толкая друг друга в черные бока и спины, ловко разрезали навоз зубцами на голове и сразу же начинали работать пилочками ног, лепя шарики и откатывая их каждый в свою сторону.
Черные гладкие спины их отливали на солнце синим светом. Свет этот резал коршуну глаза, и он часто жмурился, чтобы отдохнуть. Никакой свет так не утомляет взгляда коршуна, как синий, глаза его, привыкшие к желтому – цвету песка и белому – от больших соляных наростов на песке, так редко видят синий – небо в пустыне серовато-желтого цвета, – что он непривычно отталкивает взор, гасит его блеск.
В те короткие мгновения, когда коршун открывал глаза и наблюдал за скарабеями, он видел среди них обман и воровство. Стоит какому-нибудь жуку подтолкнуть своими зубцами шарик на верхушку барханчика, как шарик оказывается ловко отнятым у него другим притаившимся в песке скарабеем. И тот, кто с таким искусством сотворил шарик, лишь удивленно смотрит по сторонам, не понимая, в чем дело. Наклоняется вниз – не скатился ли шарик обратно, – клешня его от удивления вытягивается, а потом резко разрезает воздух от злости, когда он видит, что зеленый его шарик, цвета невидимых травных былинок, смешанных с песком, по которому катил он его усердно, попал в чужие клешни. А тот, плутоватый, уже пустился прочь с бархана, и преследовать его бессмысленно.
Терпеливее всех простодушные сизифы – жуки чуть меньше скарабеев по размеру, зато с другим преимуществом перед ними' – у сизифов длиннее передние ноги, они могут скакать и проворно убегать от преследования.
Сизифы сейчас тоже катят свои шарики, но не отнимают их друг у друга. Бесцеремонно, без всякого напряжения и хитрости отбирают у них шарики скарабеи – подползают к сизифам, вонзают свою клешню в шарик и, подняв над головой, уходят, не прячась. И сизифу приходится снова делать свой шарик и спокойно толкать его передними ногами, пока скарабей не отберет у него пищу. И так может продолжаться до тех пор, пока сизиф не утомится и не поскачет в сторону без шарика – он, как и другой жук, хрущ, может вообще долго не есть.
Зато надо всем, что здесь суетится, обманывает друг друга – скарабеями, сизифами, полевыми мышами, снующими с рассвета от куста к кусту, над всей мелкой живностью, – висит смертоносный клюв коршуна. Они – как его подданные, ибо живут на его территории. Нужно лишь усилие и чуточку сноровки..
Но пора! После скарабеев на добычу выходят коршуны.
Коршун вылез из расселины и прыгнул на камень, что висел над гнездом, прикрывая его от дождя, и подставил лучам солнца свои желтые ноги. Влажные, они сразу высохли, и коршун почувствовал их упругими, готовыми для прыганья по скользкой скале и к полету. Затем солнечное тепло побежало к его животу, лучи сквозь жесткие перья и пух проникли к коже, что-то вроде маленького сквозняка потеребило перья, поласкало птице крылья, сложенные в два сложных изгиба, крылья выпрямились, коршун поднял их и похлопал ими над спиной, затем хвост разом затвердел и чуть приподнялся на уровень спины, но не выше, продолжая коричневую ровную линию от шеи через все тело к копчику.
Дольше всего высыхал ночной пот на голой, в складках шее и на черной, без единой пушинки голове Голова и шея коршуна были покрыты жирной кожей, солнечные лучи сняли первый лоснящийся слей, но голова все продолжала потеть. И от такого каждодневного закаливания, от крапинок пота, высыхающих под солнцем и снова выступающих на коже, голова и шея, эти, казалось бы, самые незащищенные, но вместе с тем самые крепкие места, были покрыты таким блестящим слоем жира, что, затвердев, он образовывал перламутровую защиту.
Коршун почувствовал, как голова и все тело стали легкими, гибкими, и он несколько раз прыгнул на месте, ощущая в себе готовность достойно прожить грядущий день.
Правда, сегодня, в день самого длинного перелета, коршун должен соблюдать нечто вроде поста, ничего не брать в рот, кроме нескольких зерен дикого боя рышника, если они обнаружатся, и раза два утолить жажду: один раз перед полетом, другой – в конце цели, у высохшего озера. (Птицы мистически верят в этот пост, обещающий им удачу в перелете, если не будет пролита кровь, и еще воздержание очищает их от яда, накопленного в беспокойную ночь полнолуния.) И хотя коршун не намерен сегодня никого убивать, все же приятно, прожив двадцать с лишним лет, под старость чувствовать себя таким бодрым и жизнеспособным.
Попрыгав на одном месте, коршун прищурился и посмотрел с высоты скалы на пески, над ними уже шевелилась дымкой жара. День начинался жаркий. Сразу, без переходов, без четких границ между прохладой, теплом и жарой.
Не увидев ничего опасного для себя (в пустыне ничто не грозит коршуну, но все равно инстинкт повелевает быть осмотрительным), коршун пошел по скале дальше от гнезда.
Эта одинокая скала, торчащая из песка, была продолжением какого-то очень древнего горного хребта. Возможно, далеко за горизонтом, куда вела отсюда невидимая линия, гора снова поднималась ввысь, через желтовато-серый воздух низших сфер к высшим, где плотно, упруго и неподвижно висит голубой эфир, но коршун об этом не знал – там уже была не его территория. И на западе от скалы, за противоположным горизонтом, горы эти могли снова подниматься из-под земли к облакам, прохладные и снежные.
Но это всего лишь догадки. И подтверждают их камни, приросшие к песку; их не так много, этих камней, ^обвалившихся горных цепей, но, если лететь над ними и запоминать их взглядом и проводить мысленно линии от россыпей к россыпям, лежащим на довольно большом расстоянии друг от друга, можно догадаться, что от скалы этой прямые пути к горам.
Но коршун ни разу не улетал так далеко для осмотра. Хотя и принадлежала ему обширная территория для охоты, все же имела она четкие границы, нарушать которые он не имел права. И поэтому познания коршуна ограничивались лишь опытом, который приобрел он, осматривая свою территорию.
Скала, по которой шел коршун, имела форму огромного гриба. Основание из песчаника, но столь усердно выветренного, что больше уже ни одна песчинка не слетала с него.
Ветер может работать над формой скал только до какого-то времени. Пока песчаник медленно и незаметно уносится ветром, дождь и солнце, и особенно соляные пары, работают сообща против ветра. Ветер разрушает скалу быстрее, чем они ее укрепляют, но вот сила ветра начинает ослабевать, а сила дождя, солнца и соляных паров удваивается – это когда скала становится наконец тонкой, превращаясь в столб, и ветер посылает в ее сторону силы во много раз больше, чем нужно для того, чтобы свалить столб. Ветер приближается и, навалившись на него, почти не чувствует сопротивления и уходит, чтобы наброситься на заросли саксаула вдали. Ветки саксаула гнутся к земле, прикрывая потревоженное зверье, а потом, выпрямившись, смотрят вслед ветру, который, наглотавшись песка, уходит, слабый, в норы.
Сверху эта скала прикрыта гранитной шапкой – ветер, кружась в вихре от основания скалы до ее вершины, как по движению штопора, обвалил с шапки все углы и со временем округлил гранит.
Ветер, танцующий волчок, принесет с собой песок, посыплет к подножию скалы, затем покружится вокруг столба, оставляя на скале влажные следы, поднимется потом на верхушку, побегает по кругу шапки – шапка тоже вспотеет ненадолго, – полетит серым вихрем к небу, разматываясь и уменьшаясь постепенно, и где-то, уже на черте видимости, подберет он тонкий свой хвост и растворится, превратившись в беспокойный и подвижный слой воздуха, из которого потом снова рождаются ветры и воздушные течения.
Скала была вся в глубоких трещинах – в них и свили себе гнезда птицы, – и, прыгая из трещины в трещину, коршун поднимался наверх, как по лестнице. Песчаник возле нижних расселин был покрыт красными пятнами окаменевшего мха, в них поселилась колония мелких жучков, они вели там понятную только их разуму работу – перегрызали волоски, бывшие некогда стебельками мха, уносили на расстояние бега в пол секунды и складывали там кучкой. Коршун опустил клюв в мох, но жучки в суете не заметили его. Зато коршун скосил глаза, полюбовался на свой, ставший красным клюв и запрыгал дальше.
Железная пудра на песке у подножия скалы, смешанная с солью, была поднята ветром и рассыпана на мох; со временем она окрасилась в красный цвет от слабых соков этого растения, в котором, пожалуй, в равной доле столько же от камней, от растений и от животных, ибо мох – это основа сущего в пустыне. От него и развились потом, отделившись, три ветки – песок, травы и кустарники, а также птицы и зверье.
Коршун, поднимаясь все выше, прыгнул наконец к расселине, возле которой мелькнуло у него смутное воспоминание.
В расселине в своем гнезде сидела самка, и едва она увидела нашего коршуна, как выглянула и открыла клюв в знак покорности. Не в нетерпеливой гримасе, когда открытый клюв выдает желание получить от пришельца ласку – при этом клюв поднят выше линии головы, – а с застывшим взором, со зрачками, моментально изменившими свой цвет, ставшими из темно-желтых прозрачными, бесцветными и глубокими. Открытый нешироко клюв самка опустила, и коршун постоял и в знак памяти провел окрашенным клювом по ее шее и запрыгал дальше.
Этот коршун не был однолюбом и не жил ни с одной своей самкой больше одного раза после кровавой птичьей свадьбы.
Весной, после меланхолии и спячки, когда крупные и частые дожди и ливни изменяли ненадолго облик пустыни, – вся она зеленела, но не сразу, а через плавные переходы других цветов: красноватого вначале, цвета окаменевшего мха, затем густо-желтого, отливающего синим, а уж потом зеленого, но не плотно-зеленого, а пока еще с оттенком бурого, чтобы потом уже бурый, выгоревший цвет, цвет трав пустыни, разлитый на песке надолго, до самого сезона буранов, перешел в цвет весны, – вот тогда и начинались птичьи свадьбы.
Трава и нежаркое солнце, писк песчаной мыши и зов кулика, стрекотание саранчи, терпкий запах полыни и цветущей верблюжьей колючки, нижний, всегда стелющийся над песками ветер, слабым движением рисующий на своем пути замысловатую рябь, – вот атмосфера пробуждения, освобождения от зимнего плена, холода и неуюта, вся тихая и скромная игра природы, скрытую энергию которой некому пока разбудить… Ведь иной случайный весенний буран мог повалить большой лес, а здесь он только проснется, попробует разбежаться, но тут же гаснет при виде ровного пространства до самого горизонта, где нет бурану ни преград, ни сопротивления, и тогда буран вздохнет, срежет безо всякого усилия мокрую верхушку ближайшего бархана и уйдет слабой дымкой к небу. Уйдет, поняв, что сейчас время для малых энергий, энергий птиц и зверей.
Коршун прыгает по траве, утром еще мягкой и влажной, а уже к вечеру жесткой, шуршащей под ногами, находит маковые зерна, не успевшие прорасти за короткий срок весны, и, одурманенный, начинает петь. Скоро коршун будет ронять свое старое оперение, медленно, перо за пером, чтобы была у него всегда боевая форма, а это освобождение, ощущение перемены вместе с опьянением от зерен, вернее, ощущение потери, чувство ущемленности возбуждает в нем для внутреннего равновесия агрессивность, желание побед.
Самка перед свадьбой, как наряженная невеста, сидит на скале, самец кружится, распевая воинственную песню, и самке отсюда виден каждый поворот его крыла. Песня для постороннего слуха вовсе не мелодичная, с двумя-тремя нехитрыми тонами: короткий свист, когда коршун вбирает в себя глоток воздуха, затем щелканье клювом и довольно длинное и грозное урчание, когда самец выпускает из себя нагретый воздух, – вот и весь боевой клич. Но другой коршун, который, должно быть, внимательно слушает, различает в скудных звуках длиннейший монолог о доблести.
Выслушав все это, наш коршун отвечает сопернику не менее длинным монологом, затем взлетает и заманивает соперника ближе к скале, чтобы самка рассмотрела все подробности их предстоящего поединка.
Дерутся они потом в мрачном молчании. Не делая передышек и ни на секунду не садясь на скалу – касание ногами чего-нибудь твердого противник расценил бы как мольбу о милосердии, а самка, равнодушно взирающая на все это, – как признак малодушия.
Противники сражаются все время в воздухе и до тех пор, пока один из них, окровавленный, не падает на горячий песок. Первые минуты они как бы делают разминку, прикрыв одним крылом голову и голую шею – наиболее ранимые, но вместе с тем наиболее трудноуязвимые места, описывают круги, ударяя друг друга неожиданно затвердевшими хвостами, затем кто-нибудь из противников, кому хочется скорее начать собственно поединок, по ровной и короткой линии, начертанной взглядом, достигает шеи соперника и вонзает туда клюв, крепко сжатый для точного и сильного удара.
Это как бы сигнал для обеих сторон – есть момент посягательства и момент ответа. И тот, на кого посягнули, успевает ухватить своим клювом клюв врага и как можно дольше не выпускает его, и вот две птицы, продолжая махать крыльями, повисают в воздухе в вертикальном положении, хвостами вниз, царапают грудь соперника когтями. Каждая из сторон теряет по нескольку перьев, но исход поединка еще не решен, ибо все идет на равных.
Эта близость друг к другу не дает им возможности хоть как-то разнообразить средства боя, ибо от частого махания крыльями они запутываются, крыло одной птицы оказывается в объятиях крыла другой, и так обе они как бы соединяются в комок вздрагивающих перьев.
Прощупав силу и слабость противника, соперники потом разъединяются, чтобы сделать несколько кругов над скалой – вид ждущей самки укрепляет их дух. В этом полете кто-нибудь из противников еще и потеряет не сразу упавшее, но уже ослабленное в своих связях перо из крыла. Длинное крепкое перо летит вниз так медленно, описывая неполные круги, что соперник, изловчившись, успевает схватить его на лету, чтобы бросить сверху к ногам сидящей самки как доказательство близкой своей победы.
После этой небольшой разминки, когда в ход пущены пока только когти, голова и голая шея летающих коршунов начинают отливать на солнце синеватым цветом от обильного пота. Высыхая, пот этот на желтом густом фоне воздуха окрашивает все вокруг птицы испарениями различных оттенков. Но полутона эти так переменчивы, так неуловимы для напряженного долгого взгляда, что можно подумать, что этот невидимый ореол, окружающий в момент боя тело коршуна, наверное, и есть его душа.
Ведь когда решается, кто самый сильный, самый здоровый из этих двоих и кто завоюет право продолжить род, самая большая здесь ставка не тело, а душа, дух, и вот поэтому-то и летают коршуны в окружении своего ореола.
Но пора продолжить схватку! Самка как будто вдохновила их, когда они, каждый в своей орбите, кружились над скалой, и вот на мгновение коршуны замерли в воздухе безо всякого движения, прижав к бокам крылья, как будто собрались камнем броситься вниз, и со всей силой своей страсти ударились телами, их отбросило друг от друга, но они снова собрались с духом и, вытянув шеи и неся перед собой клювы, как кривые сабли, снова сразились.
Стороннему наблюдателю могло казаться, что теперь поединок их ведется безо всяких правил, хаотично, словно соперники потеряли самообладание и будто кто-то третий, кто направлял их бой, спутал все карты: самцы бросались друг на друга, часто не достигая цели, приближались, но в какой-то миг пролетали мимо, не задев противника. Но смотрящему со стороны не были видны особые правила их боя и в каждом движении свой расчет. Даже в тот момент, когда казалось, что коршуны пролетали мимо друг друга, кто-нибудь из них все равно успевал ранить соперника, а целились они только в голову или шею.
Но вот конец, бесславный для одного из самцов: наш коршун упал сверху на спину противника, вонзил ему когти в бока и несколько раз ударил тяжелым клювом по его голове, а затем отпустил, но соперник, оглушенный, все держался в его когтях, и победителю пришлось оттолкнуть его от себя хвостом. Соперник стал падать вниз на заросли саксаула, согнутый дугой, будто выщипывал он клювом собственный редкий хвост.
Наш коршун недолго покружился над зарослями, чтобы увидеть, как побежденный упал и стебли закрыли его израненное тело, а сам затем, утомленный, опустился на скалу рядом с самкой.
Равнодушная доселе самка вдруг нахохлилась, вскрикнула и похлопала над головой крыльями – запах крови побежденного на клюве нашего коршуна возбудил в ней страсть и нежность, какое-то смутное воспоминание и желание долгой любви, что мерещилась ей теперь. Но коршун наш не обещал ей любви долгой, и, хотя настоящее пиршество только начиналось и самка готова была выслушать его песню любви, он угрюмо пригласил ее к себе в расселину повелительным движением хвоста.
Казалось, что теперь он должен будет выполнить лишь свой долг, обременительный и утомляющий, главным для него в свадьбе было другое – доказать в схватке с соперником свою силу. Он словно понимал: то, что будет отдано ему потом, слишком ничтожно, там, в воздухе, получая удары справа и слева, он надеялся, что плата за победу будет иной, равной самой жизни или смерти.
Но плата все равно была равной усилию, ведь коршун продолжал род, а значит, давал птичьему миру новые жизни, отняв у нее взамен одну – жизнь соперника. Впрочем, побежденный не всегда умирал от ран, иным удавалось выжить, лежа в кустах и слизывая кровь с шеи, но позор был столь велик, что только смерть могла их умиротворить, ведь потеряли они право продолжить птичий род, а значит, и право на собственную жизнь.
Наш коршун не был однолюбом, после свадьбы он еще был заботлив и нежен, когда самка сидела на яйцах, но вот птенцы вырастали и заявляли о своем праве на собственную территорию, и, когда завоевывали ее, он уходил и жил один.
Так каждую весну устраивал он новые кровавые свадьбы, и победы помогали ему чувствовать себя хозяином своей территории.
Но коршун уже стареет, еще одна-две схватки в воздухе, и он поймет, что в пустыне, на той ее части, где стоит скала, появились более сильные особи.
Часто поэтому его охватывает страх, и утешает себя коршун тем, что, когда придет новая весна и он отвоюет еще одну самку, он останется с ней до конца, не уйдет, не покинет, будет жить с постылой самкой, ибо не избавится от чувства, что плата все же низка за доблесть. Но что делать, таков закон птичьего мира, и надо его признать…
А пока он идет, прыгая от расселины к расселине и всюду встречая знакомые головы самок, некогда сыгравших с ним свадьбу, и все они покорно опускают вниз клювы, как бы понимая, что не смогли дать ему взамен доблести нечто большее – только птенцов.
Но все птенцы уже улетели. Жить в скале стало тесно, а коршуны могут селиться только в скалах или в большой роще далеко отсюда – весь род коршуна и улетел к этой роще, чтобы основать там свои территории.
Остались пока только те два маленьких коршуна, что появились этой весной, и вот к ним-то и торопился перед отлетом наш коршун.
Чем выше поднимался он по скале, тем чаще видел клювы сородичей, выглядывающих из своих гнезд. В просторных расселинах жили только старые коршуны, такие, как наш, те, кто успел захватить себе территорию давно, когда скала эта только обживалась. Молодые же птицы довольствуются верхними ярусами и теснотой, и оттого, что им часто приходится видеть друг друга и дышать в лицо соседа, когда все выходят отдыхать на площадку, они устраивают нередко беспричинные драки.
Два маленьких коршуна жили на самом верху скалы в гнезде, которое устроил им наш коршун, теснились в одной узкой расселине под самой шапкой, и, как только коршун показался возле их гнезда, они в беспокойстве засуетились, царапая когтями песчаник, как бы укоряя отца за то, что он покинул их, не позаботившись об их будущей жизни, а они, еще не обученные воевать за свою собственную территорию и за новое, более просторное гнездо, должны приобретать нужный им опыт жизни сами, без учебы и воспитания, в то время как другие отцы живут с детьми, вместе вылетают на охоту, а возвратясь домой, в гнездо, молодые коршуны встречают ласку матери.
Коршун терпеливо выслушал ворчание своих детей, затем не больно, так, усмиряя, ударил их клювом по шеям и, почувствовав, что эти последние из его рода уже вполне готовы для самостоятельной жизни, отошел от их гнезда, но они все продолжали выглядывать и протягивать к нему клювы…
Уже надо было улетать, вся эта церемония обхода скалы заняла у коршуна много времени, поэтому он торопливо пролез в трещину на шапке скалы и очутился на самом верху ровной гранитной площадки, всегда чисто вымытой дождями, без единой песчинки, но уже так нагретой солнцем, что коршун невольно поднялся на кончики когтей, чтобы не обжечь пятачки подошв на ногах.
Утренняя жара уже сменилась долгим дневным зноем. Зной – это совсем не то, что жара, и это чувствует каждый коршун. В жару дышать труднее, ибо в воздухе еще кружатся частицы влаги, ее отдают небу травы и песок, жаркий воздух, еще густой и тихий, и поэтому все утро слышны в пустыне звуки, голоса птиц и шуршание песков – влага собирает эти звуки и посылает вокруг.
Но вот все, что могли унести с собой лучи солнца, отдано пустыней, вся влага камней, кустарников и трав, и теперь царствует зной – сухой воздух, состоящий только из собственных звуков, видимые потоки его самой причудливой формы, сталкиваясь друг с другом, потрескивают искорками электричества.
Коршун смотрел на пески и ждал, желая увидеть, как поднимется вверх столб воздуха, из которого образуется ветер, что дует прямо в небо, поймать этот столб, пустившись вдогонку, и, поддерживаемый этим нижним ветром, подняться на нужную высоту и полететь над своей территорией, ибо путь долог и надо беречь силы.
Ждать пришлось недолго. Зарябил песок у подножия скалы, чуть прилегла жухлая трава, и понял коршун, что от сквозняков, что кружатся вокруг скалы, рождается незаметно столб. Мелко рубленная лучами солнца трава поползла со всех сторон туда, где должен был' собираться ветер, увлекла за собой песчаную пудру с матовыми блестками слюды, смешалась с желтыми крапинками металла – золота, – и вся эта цветная масса сжалась в один комок, раздался звук, напоминающий вздох, и более тяжелые песчинки, подтолкнув этот комок, подбросили его в воздух, и тут родился столбовой ветер.
Метрах в двух от земли комок этот лопнул, но беззвучно, и стал уменьшаться, удлиняясь и поднимаясь к небу. Коршун постоял, пока верхушка столба не поднялась к вершине скалы, а когда он почувствовал вокруг себя легкое дуновение – это столб, взлетая на неподвижный нижний слой воздуха, разрывал его, – коршун оторвал ноги от скалы, два взмаха крылом, и ветер, идущий столбом к небу, взял его в объятия.
Коршун прижал к животу ноги и раскрыл крылья на всю длину взмаха и так неподвижно, отдавшись полностью во власть столбового ветра, удалялся все выше от земли.
В первое мгновение он почувствовал, как частицы травы и песка, из которых состоял этот ветер, щекочут ноздри и слепят глаза, но потом все прошло, забылось от чудесного ощущения легкости полета, редких минут, когда коршун как бы неподвижно парил в воздухе, но его медленно несло вверх.
Столб, поднимаясь, описывал вытянутые круги над землей, и при каждом обороте вместе с ветром коршун поднимался еще на полметра, но, когда круг замыкался, птицу слегка опускало вниз, и тогда коршун чувствовал, как на мгновение задерживается у него дыхание, обогревая грудь, и как потом все проходит, приводя птицу в легкое волнение.
Столб поднимался ровный, не уводя коршуна в сторону от скалы, и, раскачиваясь и купаясь в волнах воздуха, коршун любил смотреть вниз на хвост ветра, который нес его ввысь. Хвост этот, отогнувшись чуть в сторону, пышный, подсвечивался снизу, с земли, и от движения частичек трав и желтых крупинок золота все время менял цвет, вобрав в себя такое сложное сочетание цветов, что был похож на сухую пустынную радугу.
Но, сколь бы заманчивым и приятным ни было это путешествие, пора выходить из воздушного столба. Посмотрев на землю, коршун понял, что подниматься выше ему не следует, иначе не сможет при полете разглядывать свою территорию. Коршун взмахнул крыльями и безо всякого усилия легко вышел вперед из воздушного столба, а столб, коснувшись его жарким хвостом, полетел дальше.
Теперь коршун летел, работая крыльями, и под ним простиралась огромная его территория. Была она обширной вовсе не потому, что коршун пользовался перед другими своими собратьями особыми привилегиями. Просто в этой части пустыни коршунов было мало, все они помещались на одной скале, и каждой птице доставалось большое пространство, длиной в полдня полета.
У территории, над которой властвовал коршун, были и другие хозяева из птиц и зверья, но каждый из них, как и коршун, считал себя единственным хозяином, не замечая особей из других родов: лисиц, песчаных волков, пустынных крокодилов – варанов, даже суслик и саксаульная сойка имели свою территорию внутри владения коршуна, зато, скажем, беркут, венчающий царство пустынных хищников, имел еще большую вотчину, чем наш коршун, так что владения коршуна были всего лишь частью его территории.
Но каждый из них по-разному жил на одной и той же территории, в разное время осматривая ее, и то, что интересовало горлицу, могло быть вовсе не замеченным лисицей или зайцем, и такое множество хозяев было не помехой, а жизненной необходимостью, ибо каждый из них охотился за другим: коршун за зайцем, суслик за полевой мышью.
Врагов не было только у беркута и коршуна, никто не охотился за ними, и только этих двух хищников можно и назвать подлинными хозяевами территории, х-озяевами деликатными, не мешающими друг другу, негласно распределившими роли в пустыне.
Коршун летел медленно, чтобы сберечь силы для обратного полета. Эта часть владения была знакома ему по каждодневным вылетам на охоту, поэтому коршун не напрягал зрение и равнодушный взгляд его скользил по поверхности земли, не останавливаясь на деталях.
Множество других воздушных столбов, рождаясь в песках, поднималось с высоты, но коршун успевал перелететь над ними раньше, чем ветры началом своим касались его ног. Увидев столб, который тянулся на его пути, коршун, чтобы не попасть в его круговорот, замедлял полет, останавливался и висел в воздухе, паря, до тех пор, пока хвост столба не уплывал выше уровня его взгляда.
И здесь ночь полнолуния оставила на песке следы своей работы. Замечал коршун, что с момента его последнего осмотра – позавчера – два знакомых бархана, окруженных белыми озерцами соли, потревоженных притяжением земли, сдвинулись и край большого так врезался в бок соседа, что верхушка его осыпалась и вместо острого пика на верхушке темнела сейчас ровная круглая пробоина, как кратер. На месте ушедшего в сторону большого бархана обнажились норы, и встревоженное зверье – суслики и зайцы – спешно вырыло себе новые ходы в жилища, но, беспокойное и суетливое от лунного света, сделало множество ошибок и неверных шагов, поэтому вся площадь вокруг этих двух согнанных с места барханов была перекопана, соленая кромка на песке поцарапана, а сам песок взрыхлен и собран в холмики; теперь, если родится даже маленький ветер, подлетев к этому месту, он найдет себе сопротивление и родит силу, и сила эта, подняв холмики песка, превратится в буран, правда, в не очень крепкий, но достаточный, чтобы соединиться где-то поблизости с другим ветром, со столбом воздуха, и по пескам побегут, находя друг друга, один буран сильнее другого, и так до тех пор, пока по всей пустыне не поднимется песчаный вихрь.








