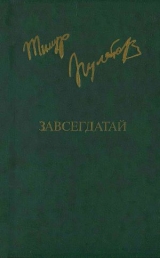
Текст книги "Завсегдатай"
Автор книги: Тимур Пулатов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 33 страниц)
Сомнения Алишо длились до того удачного часа, когда вдруг в автобус, в котором он возвращался из института, вошла Нора – его быстрый взгляд, обращенный в окно, страх: с ней ли Хуршидов? – затем осторожный поворот головы, когда Нора медленно, держась за спинки кресел, продвигалась вперед. Вот прошла мимо, задев его плечо рукой, извинилась, не глядя; сейчас непременно следом за ней он увидит Хуршидова, как два портрета, наложенные один на другой, на оригинал – копия, чтобы примирить чувство красоты и безобразного.
И теперь ей показалось, что, как и утром, она первая увидела Алишо, повернувшего в недоумении голову назад, ибо решил он, что отец сел отдельно от дочери; а молодой девушке, для которой жизнь состояла из чередования игры и загадок, это повторение утреннего не могло не показаться предвестием чего-то хорошего, тем более что, входя в автобус, она уже думала об Алишо.
Радость на ее лице смутила Алишо, и, съежившись на мгновение, он понял, что отца ее нет в автобусе, – их незаметное для окружающих рукопожатие было как знак истосковавшихся, а торопливые его шептания о. встрече вечером у гостиницы – страхом, что ощущение от ее руки успеет остыть раньше, чем он добьется ее согласия на встречу: «только вдвоем, без отца». «Хорошо, но вы его не бойтесь», сказанное также шепотом, могло показаться ему укором за его нерешительность, а это действительно было так; вернувшись после телефонного разговора в номер, Нора вдруг разрыдалась от грубых слов отца, рассердившегося на то, что «одевается она по три часа и заставляет его торчать у стола дежурной по этажу в ожидании», и эта ее истерика была протестом отцу, который, знала она, будет против ее встреч с Алишо. И сейчас в автобусе неожиданное упоминание о нем, как будто Алишо все знал о разговоре в номере, еще больше сделало его предложение о встрече желанным. Но почему не сейчас, думалось ей, она бы бросила все свои дела и они пошли бы куда-нибудь, прямо сейчас сойти на остановке, и это вдвойне прекрасно оттого, что оба они не знают города! Вечером наверняка воспротивится отец, а думать с полудня о вечерней их встрече с Алишо казалось ей невыносимым.
Алишо еще раз сжал незаметно ее руку и от смелости не уловил, как дрогнула рука в нетерпении, в некой досаде, и вышел из автобуса, хотя мог ехать с Норой еще. Эта его поспешность, похожая на бегство, была странной и для него самого теперь, когда он смог договориться с Норой о главном, дальше пошла бы легкая болтовня на студенческие темы, но это «дальше» и смущало Алишо, он боялся показаться после этой удачи скучным, смешным, не то сказать, не так и все испортить еще до вечера – ее согласие и было для него тем душевным подарком, растратить который не хотелось на пустые разговоры, и с этим ощущением он думал ждать вечера. Он и не подозревал, что желания их уже теперь не совпали. Нора хотела, чтобы побыли они вдвоем, не откладывая время встречи, но ведь и Алишо в своем расчете не был таким уж хитрым, и Нора это понимала, он просто давал ей время подготовить себя, как готовил себя он к их встрече всю ночь вчера, и все утро, и даже сидя в аудитории: «…и тогда я шепну ей: «Встретимся вечером?»
Его мужской эгоизм проявился и в такой маленькой детали – время, оттянутое до вечера, приносило ему радостное волнение, к чувствам Норы примешивалась теперь и досада от разговора с отцом перед встречей с Алишо.
Но к вечеру стало чувствоваться, что Алишо зря понадеялся на силу своего терпения, радостное возбуждение от встречи, похожее на эйфорию, мало-помалу от сильных всплесков стало искажать его ощущения, чем ближе было время, когда Нора должна появиться у дверей гостиницы, тем быстрее его нетерпение превращалось в мнительность, желание скрыть от всех миг их нового рукопожатия, ибо вся эта история была для него слишком хрупкой, слишком личной, перечувствованной, чтобы мог он выставить ее напоказ.
После разговора с ней в автобусе Алишо сразу же вернулся в гостиницу и немного постоял возле телефонистки, затем побродил по вестибюлю, думая подняться на второй этаж и пройти возле дверей ее номера, но так и не решился. Какие-то необязательно нелепые слова, сказанные горничной, полбулки и полчашки кофе в буфете, затем минут пятнадцать на кровати с закрытыми глазами – всего понемногу, все ненужное, лишнее, потом уход из гостиницы и медленная прогулка по скверу и все возрастающая мнительность и осторожность – тут, за углом, может встретить его какой-нибудь сосед из номера, здесь – горничная, у дверей гостиницы – телефонистка, в сквере – Хуршидов, который сразу догадается, в чем дело; странное вчерашнее одиночество в чужом городе, которое вдруг теперь, когда Нора дала согласие, сменилось на еще более странное чувство причастности всех к его сегодняшнему вечеру, на такую ненужную известность для десятка разных людей, от легкого знакомства с которыми он ранее не ждал никакого подвоха.
Затем, уже к семи часам, эта его позиция в полутемном углу возле лотка, где торговали пирожными, и спокойный взгляд, обращенный к двери гостиницы, откуда Нора должна выйти, взгляд человека, уставшего от напряжения и сомнения.
Когда Алишо увидел ее не одну, как ожидал, а с отцом, выходящим, непринужденно разговаривая с Норой, из гостиницы, напряжение вдруг прошло, а когда понял, что остановились они, ожидая его, Алишо постоял немного, чтобы не догадались, что он, спрятавшись, ждал, затем спокойно и улыбаясь, будто еще издали, идя по улице, увидел их, пошел к месту встречи.
Хуршидов должен быть доволен его видом – ни тени смущения и неудовольствия, как будто не было этой просьбы: «Только без отца», наоборот, все открыто, никаких шептаний за его спиной, все как в отношениях честного и благородного юноши и девушки, выходящей на встречу с маменькой, как в старых романах. Только мелькнула у Алишо мысль, такая спокойно-обреченная: «Он ведь есть. Вот он и есть тут», – но мысль эта не могла ясно выразиться на его лице, ведь он действительно был, этот сопротивляющийся, и был давно, с той самой минуты, когда Алишо впервые увидел Нору, был в мыслях, в переживаниях – конкретно-телесный, еще более жесткий и реальный, чем сейчас, наяву.
Короткий обмен приветствиями, и как спасение – пожелание майора пойти всем и отужинать, через улицу, в ресторане, и размеренная, тихая прогулка до ресторана (Алишо, легко касаясь локтя Норы, ведет ее), вопросы Хуршидова об экзаменах, ответы Алишо, такие же короткие и однозначные, шутки отца в адрес дочери, так сильно переживающей на экзаменах, ответы Норы, милый смех и короткие минуты молчания, когда смотрит Нора на Алишо, не боясь показать опухшие от слез глаза.
Эти глаза, выдающие то, что произошло недавно, перед выходом, в номере, не казались теперь Алишо такой важной деталью, истерика или драма была уже ненужной и нелепой в общей атмосфере ее хорошего настроения, смеха и шуток с отцом, их большой душевной близости, родственной теплоты и участия – для Алишо самого появления Норы с отцом было достаточно, чтобы пришло вдруг равнодушие, за которым уже не существовало его прошлого радостного возбуждения, его мнительности, его благодарности за согласие прийти одной, без отца, на встречу. Все это ушло, он потерял с тем чувством внутреннюю связь, и сейчас он понимал все так: вот есть то реальное, новое, хотя и не предвиденное им состояние, они идут втроем и это есть самое подлинное и существенное сейчас и безошибочно верное. Не стоит мысленно возвращаться назад. Нет смысла даже спрашивать: что случилось? Почему пришла не одна? Что означают слезы? Иначе как быть вот с этим реальным, их теперешним состоянием в ресторане? Куда деть это ощущение от сладкого шампанского? Игры оркестра? Вопросов Хуршидова?
Впрочем, во время беседы, ставшей сугубо мужской – его и Хуршидова, – Алишо часто ловил на себе ее взгляды, которые как бы должны были привести его в чувство, дать понять, что то, что сейчас происходит, – не подлинное, как всякое навязанное состояние, – подлинно то дневное, в автобусе, и то, что будет между ними завтра, послезавтра.
Алишо сейчас чувствовал себя свободнее в разговоре с Хуршидовым, чем с Норой, – подавленный неудачей, он как бы признавал в душе правоту отца. Если вдруг стать холодно-расчетливым и притвориться, что вся эта история не касается тебя, можно понять логику Хуршидова, когда не дал он, чтобы Нора шла одна на свидание, – путаница в планах казалась ему невыносимой, он здесь на три дня, чтобы устроить ее в консерваторию, забрать из гостиницы и самому спокойно уехать потом в Той-Тюбе; нелепая история с Алишо в самый первый день, нет и нет! Главное сейчас учеба, о каких увлечениях может идти речь, и о чем они договаривались, и чем все это закончится? Допустим, что любовью, но это так обременительно для семьи, столько проблем, надо устраиваться с жильем, деньги – ведь на стипендию не проживешь, куда потом, в Той-Тюбе? Немыслимо. Ну а если это увлечение мимолетное – молодые люди, слоняющиеся в гостинице, не внушают доверия, – будет драма, уход из консерватории, он слишком хорошо знает свою дочь, – вот как видел все Хуршидов. Это был его сюжет, где казалось все так жизнеподобно – ведь говорит собственный опыт человека, прожившего без малого пятьдесят и знающего наперед каждый поворот жизни; притом что за пошлость этот «гостиничный роман»!
Слушая его рассуждения о том, как лучше прожить студенту свой день – ведь он тоже был студентом! – Алишо никак не может освободиться от чувства, что говорит один из его соседей по номеру, несущий всюду свой груз семейности; «не уехать ли теперь?» – впервые приходит эта дерзкая мысль и удивляет своей точностью – невозможно все это пережить. «Я ее люблю», – думает он, глядя на Нору и ожидая, пока она посмотрит опять с укором на него – ей кажется, что он все не так понимает, оттого не желает говорить с ней, скучно рассуждает с Хуршидовым.
Но об отъезде Алишо думает в тот момент, когда понимает, как она прекрасно себя ведет, вышла из гостиницы с отцом, шла с ним под руку, смеялась, была тепла с отцом – ведь как было бы все ужасно, выйди она с заплаканными глазами, с трагической миной и шла бы молча или шептала ему о своей невиновности, – такого вечера в ресторане могло бы и не быть, не было бы ничего, ни этого признания, ни разговорчивого собеседника.
Затем неожиданное предложение Хуршидова: «Что же вы, молодые, потанцуйте» – как щедрость победителя, довольного собой – все так удачно решилось для всех, Алишо это стало ясно, когда на мгновение потух свет люстр, предупреждая о скором закрытии ресторана.
«Что еще может остаться?» – думает Алишо, танцуя – ощущение ее руки на плече, ее взгляд и запах ее волос, кончики которых задевают его подбородок и еще ее слова: «Приходи завтра в консерваторию».
Теперь уже остаток вечера, каких-нибудь десять минут до закрытия – молчание Алишо, его рассеянные кивки на слова Хуршидова – стыдливое чувство довольства от ее приглашения. «Надо взять себя в руки, иначе он догадается о нашем завтра», и опять никчемная болтовня, и вдруг неожиданная решимость сказать ему, кто он есть, если Хуршидов еще раз будет груб и несносен с Норой. Он ведь должен когда-нибудь избавиться от чувства робости. Вернее, он должен был объяснить – не кто есть Хуршидов (его Алишо мог оправдать, человека с «грузом семейности»), а кто есть сам Алишо – ведь, право же, совершенно напрасны эти подозрения и вся возня человека, который совершенно не знает его, а Алишо, ведь он кроткий человек, но гнев кротких бывает страшен, и Хуршидов должен будет почувствовать это, если завтра… А завтра последний день, потом он уедет в Той-Тюбе – чувство восторга и смущения от всей этой истории, в которой больше пустой страсти, страсти, бесполезно растрачиваемой, немного надежды и совсем мало истинного, – все это вновь взволновало Алишо, когда он лежал и не мог уснуть, уязвленный смехом соседей по номеру, когда часа три назад вернулся сильно возбужденный от одного бокала шампанского: «Студент отбился от рук».
Право же, вот цена мужской дружбы! Эгоизм, чуточку грубости, отсутствие любопытства и презрение к тому, кто старается преуспеть в любви, – так приблизительно представлял Алишо атмосферу случайных сообществ, в которых и выдвигается вперед человек типа Хуршидова или бородатого мужа учительницы.
Но завтрашнего дня, которого так ждал Алишо, не было. Вернее, был он лишь в тряске в автобусе и в беготне по многочисленным лестницам консерватории под шум расстроенных инструментов, в лицах удивленных его назойливостью секретарш, студентов, которые и не слышали о Норе; в передышках рассматривание стенных газет с огромными басовыми ключами по краям в классах фортепьяно, виолончели, скрипки, гобоя, национальных инструментов, всюду – ответы вполголоса, через силу, невнятно – обычная экзаменационная суета. Ведь как это нелепо – в такой атмосфере, среди всех этих звуков, хорового пения, вокала, надеяться найти Нору, это ведь так противоестественно – быть и хозяином и сторожем, и гонцом и душеприказчиком своей влюбленности, и ее транжиром, ибо с каждым часом он все трезвее ощущает свою потерю, свою неспособность среди хаоса реальности хоть как-то что-то понять, пока вдруг к нему не приходит такая простая мысль: «ОН НЕ РАЗРЕШИЛ ЕЙ СЕГОДНЯ ВЫХОДИТЬ», – мысль, как выяснилось, неверная; чтобы вырваться из плотности звуковой атмосферы, он возвращается в гостиницу на такси, поторапливая шофера. А потом странный вопрос: «Подождать?» – словно шофер уверен по поведению Алишо, что надо подождать, чтобы увезти его еще куда-нибудь с такой же бешеной скоростью.
Но вот продолжение консерваторской атмосферы – из ЕЕ номера, куда он постучал, выглянули другие, чужие люди. Объяснение ошеломленного юноши они слушают недоверчиво, ибо уже расположились в номере, окружив себя привезенным домашним уютом – основательно и надолго. И отсюда недоверие, из ощущения правильности каждого своего шага с той мину ты, утром, когда их сюда поселили: «Отец и дочь?»
«Уехали рано утром» – объяснение знакомой администраторши и долгий взгляд, как сочувствие, ибо и она уже знает, как и многие в гостинице, историю зарождения и конца его влюбленности. В ответ, разумеется, его спокойное: «Я так и знал», затем, как надежда, – телефонистка, согласившаяся среди множества переговорных бланков найти ЕЁ бланк с номером телефона той-тюбинского дома.
Ведь должна же была она сказать ему еще что-то, кроме: «Хорошо, я приду вечером» и «Приходи завтра в консерваторию», – еще что-то важное. Будет, конечно, ужасная слышимость, телефон затрещит, чтобы исказить ее слова. «Вы проследите за слышимостью?» Через минуту: «Вам некогда искать?» Какая досада. «Хорошо, я подойду вечером».
Прогулка по скверу за углом гостиницы и гадание о том, какое будет главное, ее третье Слово, которое он услышит вечером по телефону: «Я тебе обо всем напишу», «Приезжай ко мне», «Хочешь, я приеду в твой город?» затем, близко к вечеру, – все тревожнее, не так просто: «Нет, я не смогу сейчас приехать», «Я тебе все объясню в письме», «Нет, пока не приезжай», – от мучительного сознания того, что все кончилось, что в самом начале его чувств, столь бурном, быстром, уже и был заложен скорый конец их истории и что она была дана ему, чтобы обжечь и создать в сознании Алишо еще одну тему, и как подтверждение всему этому – слова телефонистки вечером, перед тем как Алишо уже решил собирать чемодан: «Нет, ничего не нашла».
После этого – бегство в номер, надо до прихода соседей взять вещи и незаметно уйти, чтобы не было вопросов, сочувствия, взглядов ему вслед, долгого обсуждения После его ухода, а потом еще воспоминаний, когда он уже сядет в поезд и будет лежать На полке, неподвижный, с иронической улыбкой на губах, чувствуя, как приходит к нему равнодушие и спокойствие; это состояние, когда он вернется домой, врач назовет потерей чувствительности, анестезией, и диагноз этот долго потом будет выражать отношение к нему других и считаться его сущностью, подобно тому как удачно сделанная маска заменяет порой лицо
Но сам Алишо будет сопротивляться такому взгляду на себя, он притворится, что ничего такого не произошло в чужом городе, и сумеет переубедить родителей, с тревогой следящих за ним с того дня, как он вернулся. И естественно, всякое объяснение, люди добрые и любящие, они будут понимать как нежелание сына признать свои неудачи на экзаменах. Его же самого, эта анестезия будет странным образом возвращать к воспоминаниям об учительнице, жившей в мансарде школы, как будто его душа еще не насытилась горечью, а желала новых неприятных ощущений, чтобы сближением одной темы, «темы первой любви», которую он считал оконченной, с другой – «темой детской влюбленности» – уравновесить его ощущения.
3
Сейчас, в зрелом возрасте, ощущения Алишо от давней своей «темы детской влюбленности» были связаны с беспокойной его любовью к своим поздним детям, с неуверенностью – сложным чувством, которое не может быть никогда длительным, каждодневным, а лишь с горячечной, почти назойливой страстью и остыванием. Отсюда вдруг это внимание к детям, когда он целыми днями не отходил от них, – чтение сказок, игры, смешные выдумки, прозвища и клички, ежечасное Мариам: «измерь им температуру», разговоры о знакомых врачах на случай, если, не дай бог, дети заболеют, самое заинтересованное обсуждение музыкальных способностей дочерей: «Нет, мы не так их воспитываем. Каждой нужен особый подход», ибо старшая – сангвиник, младшая – меланхолик; трогательное, почти атавистическое желание сохранить первые выпавшие детские зубы, волосы после первой стрижки, частое приглашение фотографа: «Знаете, как вам будет интересно через много лет посмотреть на себя», шумные прогулки с ними, аттракционы, луна-парки; затем, как реакция на все это, – утомление и остывание, раздражительность, этакие патриаршеские наставления: «Вот когда я был ребенком, то…» – как недовольство своим вчерашним сюсюканием, этим чуть пошловатым зовом: «Детки…» Тревожные мысли об их будущем, которое с каждым днем все реальнее, назойливее, – ведь и у них все заметнее эта естественная тоска по влюбленности, смена настроений от ревности и благодушия, кокетства, желания нравиться к строгости, меланхолии, – словом, все как когда-то у него самого, в тот год, когда Алишо исполнилось восемь лет и он пошел в школу.
Старше всех в классе на два года, всегда серьезный и сосредоточенный, изнывающий тайно от школьной дисциплины, но сдерживающий себя уже развитой волей в пределах дозволенного – типичный послевоенный «поздний школьник». Первые месяцы учебы до зимних каникул еще не особенно тягостны – желание войти в коллектив, приспособиться к поведению тех, кого он в душе называл «белоручками», – у них еще наивнопервобытное восприятие, они чуточку жестоки в обращении, в играх, эгоистичны.
Но учительница вовремя замечает его душевное смятение – Алишо не так все легко дается, как другим, нет гибкости восприятия, сам себе он кажется недоразвитым, «груз возраста» мешает ему забывать о неудачах; мнительность Алишо еще больше усиливает тягостное ощущение от этих неудач, так что нередко он плачет.
Потом простуда перед каникулами, два-три посещения Алишо учительницей. Она сидит на стуле у его постели и держит его руку, прощупывая пульс: «Я немножко врач». Рука ее ласковая – вот когда она не учительница, когда у него дома, она совсем другая, смотрит на него серьезно-вопросительно, как будто очень обеспокоена, ведь ни к кому она больше не пошла, отсюда прямо по снежным улицам отправится к себе в мансарду – стыдливая, тайная благодарность и довольство собой утешают маленького притворщика. Он наконец замечен, выделен из группы других, а это так приятно его самолюбию, ибо, замкнутый и мечтательный, он уже давно ждал, давно желал вот таких знаков – от мамы, от учительницы, от друзей… «Не волнуйся, лечись, а я с тобой позанимаюсь в дни каникул» – сказанное перед уходом учительницей было для него еще большей наградой, чем если бы она стала его жалеть, чего он так ждал.
Задолго до выздоровления он уже мысленно много раз поднимался по запретной лестнице, покрытой снегом, к мансарде, видел ее комнату, стул, лампу, которая освещает ее лицо, когда она читает тетрадь Алишо, и из глубины расстояния, сквозь дома и улицы, смотрит на него с улыбкой, довольная его сообразительностью и прилежностью. Эти его самые первые грезы, столь короткие, вызывали беспокойство и такую естественную ревность, когда взгляд его, блуждающий по мансарде, обнаруживал пальто или шляпу ее бородатого мужа, и тогда он жмурился, чтобы скорее забыть это.
Он вспоминал свое любопытство, когда видел их, учительницу и мужа, идущими по улице под руку – Алишо тихо шел сзади, чтобы примирить в своем сознании вот эту ее интимность со строгостью в классе, часы ее работы с часами личной жизни, и вот теперь, когда учительница пришла к нему, заболевшему, и он почувствовал ее руку, Алишо вдруг ощутил как бы продолжение того, чего он не видел, когда учительница и муж сворачивали куда-нибудь в переулок, куда он уже не решался идти и подглядывать за ними.
Ведь, чувствуя себя таким взрослым в классе, он внутренне был в ее мире, больше в мансарде, чем в классной комнате, ощущение взрослости, которое было ему внушено и родителями, и самими учениками, и вот наконец признано и ею, раз и навсегда отлучило его от прошлой детской жизни, заставило проститься с тем, что уже опостылело, с опекой, выговорами, порицанием, а взамен предложило первое чувство влюбленности в нее, учительницу, новое, более острое и более мучительное чувство, чем любовь к матери, – от него теперь и пойдут его сознательные, глубокие ощущения своей личности.
Естественная рассеянность, длящаяся эти два часа, пока он сидит с ней в мансарде за учебниками, его скользящие украдкой глаза, когда желает он сверить свое видение ее комнаты в воображении с реальностью окружающего, и лоб, который все еще продолжает ощущать прикосновение ее рук, когда вошел он сюда в пальто и шапке, стал снимать и от смущения и спешки не мог расстегнуть шапку: «Ну, ты смешной, ей-богу…» – улыбнулась она его виду и бросилась к столу за гребнем, а он стоял у зеркала, позволяя расчесать свои взлохмаченные волосы. И отсюда это плутовство невинного, желание разжалобить ее, сказать, не грубо, конечно, и не прямо, что дома совсем не следят за его внешним видом, затем долгое и совестливое размышление, к чему может привести эта его неправда, к тому, что она посочувствует ему, или же к неудовольствию: «Не люблю, когда мальчики такие жалобщики».
До следующего раза, когда он должен снова прийти к ней, Алишо живет с радостным ощущением подаренного ею знака – этого ее жеста с гребенкой, – лучше всего бродить по улицам, ведь дом по контрасту уже раздражает его своей размеренной, спокойной атмосферой, так знакомой ему, – он чуточку груб теперь с родителями, нетерпелив, молчалив – словно неизменность окружающего должна охладить ее знак, огрубить, растерять в каждодневном. А с приятелями он суетлив, возбужден и ироничен, как владелец ее знака, – поистине для него странная ситуация – все они знают ее и его, но бесстрастным своим, ровным знанием, а это значит, что ничего не знают о главном, – это его очень забавляло.
С ощущением этого знака, правда уже остывшим от частого прикосновения к нему душой, Алишо шел к учительнице во второй раз, в ее мансарду, с нетерпеливым желанием узнать, что на этот раз она приготовила ему, какой взгляд, слово или жест, что могло бы согреть его до следующей встречи, но на этот раз она встретила его более сдержанно, ибо увидела, каким он был – возбужденно-невнимательным, и поняла почему – от ее простого жеста при встрече, – и теперь, как воспитатель, решила не давать ему повода вести себя так, словно главное для него не уроки, не дисциплина и усидчивость, а эти знаки…
Строже, чем обычно, она спросила, приготовил ли он урок, и очень удивилась, когда увидела, как он был исполнителен и прилежен, Он действительно очень старался, думая, что для нее ведь главное – его прилежание, это как бы его знак, посланный ей, взамен он получит ее одобрение и улыбку. Она надела очки, сразу удалившись от него, стала строже и холоднее и, посмотрев его тетрадь, похвалила, а он покраснел и оробел – так ему было приятно.
Но он ждал большего, хотел, чтобы она сняла очки и заговорила с ним о чем-то другом, спросила, откуда у него синяк на щеке (ведь она немножко врач), и помазала бы ему щеку каким-нибудь лекарством, и хотя в этот ее знак примешивалось бы ощущение неприятного от запаха лекарства, он все равно был бы доволен своим приходом, ибо, как только она открыла ему дверь и впустила в мансарду, он понял с огорчением, что на многое ему сегодня рассчитывать не следует. Но очки она не сняла до самого конца урока и была сдержанной и даже временами нетерпеливой, и это он объяснял себе тем, что в комнате постоянно присутствовал ее бородатый муж – сидя спиной к ним за столом, он не отрываясь писал что-то. Несколько раз она даже обращалась к нему, спохватившись, когда говорила с Алишо грюмко, забывшись: «Прости, мы тебе не мешаем?», на что его неизменное: «Нет, нет, не волнуйся» – и к Алишо сразу же возвращалась эта немного странная своей загадочностью картина на улице, когда увидел он их идущими тихо под руку, – картина из их личной жизни, которая будоражила его любопытство.
Потом все кончилось, и он долго, сконфуженный, надевал свое пальто и ту самую шапку, которая взлохматила его волосы, а она сказала: «Какой ты смешной, ей-богу…» Но сейчас она ждала и молчала, а он оделся и вышел с таким ощущением, будто каникулы кончились и он прощается с этой мансардой и будет теперь видеть учительницу только на уроках среди тридцати учеников – там она другая, может при всех пожурить его, и он почувствует себя невыносимо в этой обстановке, посмотрит из окна на мансарду и постарается все забыть…
«Прийти послезавтра?» – спрашивает он тихо. «Да. А почему ты спрашиваешь? Не сможешь?» – «Смогу». И он уходит, привыкая к мысли, что надо снова принять дом, место, где его всегда ждут, утешат, и что в этой скучной и однообразной жизни среди родных он будет таким же желанным, как и раньше; он станет взрослым когда-нибудь, и вдруг учительница встретит его и скажет ему что-то важное, ибо он будет тогда умен и красив, он сможет на равных разговаривать с ее бородатым мужем, спорить с ним о разных науках и книгах, она удивится и Подумает: «Почему я тогда обошлась с ним неласково, надо было выйти за него замуж», – все по тому знакомому ряду, о котором он часто слышит в разговорах взрослых, когда те о чем-то вспоминают былом.
Но дома он еще более замкнут и грубоват, рано ложится в постель – «Ты не болен?» – и думает почему-то, что, если он пойдет к учительнице раньше двенадцати – часа их уроков, – окажется, что бородатого ее мужа нет дома, и он успеет до его прихода получить желанный знак. С одиннадцати он уже бродит возле школы, тихо ступая по снегу, и думает: а что, если бы у нее был сын, который бы учился в его классе, как бы он вел себя с ее сыном, дружил ли? – и почему-то с облегчением считает, что это хорошо, что нет этого сына, – все, наверное, было бы по-другому, хуже, натянутее – ведь сын бы ее, высокомерный и несносный от ощущения своего особого положения, не мог бы стать его другом, они враждовали бы непременно.
Потом он ровно в двенадцать (каждую минуту спрашивал у прохожих время) стучит в ее дверь, ждет, не в силах справиться с волнением, но вместо нее появляется бородатый муж. «Извините…» – «Иди, мальчик, сегодня урока не будет», – сказано, как ему показалось, грубо, как назойливому, вот этому нелепому его виду на лестнице. «А завтра можно…» – «И завтра не будет, не приходи больше», – раздражительно от его недогадливости, как будто его стыдят и дарят другой неприятный знак, чтобы кончить все, прогнать его с лестницы. Он бежит вниз, удивляясь, что не падает, – ведь под ногами очень скользко, он помнит это; когда поднимался, думал, что сегодня еще холоднее, и он это ей скажет и будет сидеть, засунув ладони себе под мышки, чтобы согреть, – с очень трогательным видом, и она обратит на это внимание.
«Она должна мне сама сказать», – думает Алишо и ступает по тем своим следам на снегу, которые оставил, поднимаясь к ней; затем горечь пересилила его терпение, и он плачет от ощущения силы, грубости, строгости бородатого человека, его взрослости и невозможности преодолеть свои страх и робость – ведь достаточно было одного слова, чтобы все это кончилось, все его ожидания, те особые дни, когда можно было идти в ее мансарду, – как все хрупко и просто!
Окоченевший, он идет домой, уже твердо решив смириться с прошлой своей жизнью, оно продолжится, это существование без ее знаков, состояние обычного ученика, – от горестной мысли он бежит и, спускаясь с ледяной горки, хочет упасть – шальная мысль на секунду, – ставит нетвердо ногу и падает, скользит на спине и только дома чувствует боль в позвоночнике, когда переворачивается ночью в постели, вздохнув печально. Он улыбается этой боли, лелеет ее, зная, что теперь, когда он снова заболеет, она придет к нему, сядет на стул и возьмет его руку: «Я ведь немножко врач». А утром он просит, торопит, чтобы позвали к нему врача. Врач говорит что-то о поврежденном нерве позвоночника. «Это серьезно, может остаться на всю жизнь, если неверно лечить», – но слова его радуют Алишо – они как месть бородатому ее мужу.
Но проходят каникулы, он все лежит, а она не приходит; проснувшись, Алишо спрашивает о ней – нет, не приходила, просит пойти и сказать, что он не ходит в школу, потому что повредил нерв – он плохо произносит это слово «нерв» но мать произнесет лучше и убедительнее. Впрочем, он ведь так боится всего, что несет печать убедительности, – слов, жестов, лиц, кажется, что они выражают саму сущность жизни, столь непонятную его сознанию и столь пугающую, и не потому ли Алишо так спокойно встретил женщину, с которой мать вернулась из школы: «Я твоя новая учительница». Он ничего не стал спрашивать, она посидела и сказала: «Выздоравливай скорее» – и ушла, и он твердо решил не видеть ее больше, и получилось так, как он хотел, – его отдали в другую школу.
Все оказалось так просто, когда он через пять или шесть лет действительно встретил на улице учительницу. Ему, уже такому взрослому, она призналась, что в те дни, когда он приходил к ней в мансарду, произошла у нее ссора с директором школы – ничего особенного, старая неприязнь, из-за квартиры или еще из-за чего, – и она ушла из этой школы, перешла туда, где квартиру ей дали. «О, ты уже совсем взрослый! Как учишься?» – несколько необязательных слов, и они расстались. И хотя это объяснение, такое ясное и простое, должно было как-то оправдать в его глазах бородатого ее мужа, Алишо тогда не придал этой встрече и ее словам никакого значения, поэтому в его устойчивой теме бородатый муж так и остался персонажем сопротивляющимся – ведь важно было для него первое ощущение от всей этой истории и то, как воспринимались внутри ее разные лица.








