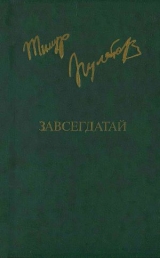
Текст книги "Завсегдатай"
Автор книги: Тимур Пулатов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 28 (всего у книги 33 страниц)
Это меня по-мужски задело и обидело, но потом я быстро успокоился, подумав, что я-то действительно ни при чем, ведь не обещал ей ничего и слава богу, что так просто все кончилось между нами.
«Что-то есть во мне роковое, – подумал я, – все застыло у женщины – ждала мужа, отказывая учителю. И вот я вмешался в ее жизнь просто так, играя, и все у нее расстроилось, пошло… Так и торговцы… Что меня привело? Без меня они спокойно бы ждали, играя в карты и зевая… А сейчас расползлись, как тараканы. И не знаю, чем все кончится, – впереди еще три дня пути на фургонах…»
Савия не давала мне думать, целовала…
«Впрочем, – думал я, – мое вмешательство… Но и они все меня используют с выгодой. Эта женщина второй день счастлива от любви. Бобошо уверен в удаче со мной, не согласись я поехать, он бы бросил свою затею. Так что взаимно…»
Мысли меня утомили, я решил все послать к чертям и забыться с Савией – ведь не часто бывает так хорошо с женщиной, надо ловить час, миг и быть ему благодарным.
Я отрезвел лишь близко к полуночи, что-то кольнуло, напоминая.
Савия была спокойна и даже помогала мне одеваться, будто внутренне уже давно от меня удалилась, и была вся теперь в будущем, словно то, что мерещилось ей, было лучше и желаннее. По мне она уже прошла, как по мосту… от мужа к учителю…
– Ты как Золушка в полночь… – сказала она, и мне понравилось то, как она прощается со мной, и эти её слова…
– Ах, жаль, – сказал я, смеясь, – не могу забыть туфельку. – Я порылся, не зная, что ей оставить на память, потом вынул свои карманные часы – дорогая реликвия деда-торговца, – протянул ей.
«К чему мне теперь часы… все равно не успею», – думал я, выбегая к воротам. Поезд уже гудел, я слышал это, протягивая Савии часы.
Я побежал к рельсам и, если бы собрался с духом и бросился, может быть, еще проскочил, но остановила эта впечатляющая картина: из первого вагона толкнули вниз мешок, и он полетел в лощину, потом со второго, головные вагоны промчались мимо, и в открытые сквозные двери я видел, как ловко работали теперь во всех вагонах, сбрасывая туго набитые товаром мешки, – и так по длине всего поезда.
Вот поистине торжественный час, которого так желал Бобошо, к нему шел этот хитроумный перс тихо, исподволь, торгуя для прикрытия своими фисташками. Четко и ловко сработано, что и говорить, а четкость любого дела, пусть даже такого опасного, как это, приводит меня в восторг.
Восторгаясь, я забыл о том, что не успел к ним в самом финале, – обидно. Товарный поезд уже давно исчез, а я все стоял на краю обрыва и напрягался, чтобы что-нибудь увидеть, хотя бы одну фигурку, самого высокого и большого из них, Карахана. Но слишком далеко я был и чувствовал, как обострилось у меня то, что называют седьмым чувством, – всем своим нервным, возбужденным существом я ощущал каждое их движение внизу, в лощине, как они поднимают мешки и толкают в фургоны, как торопятся, а Бобошо повелительно показывает им плетью…
Впервые за эти два сумасшедших дня я не торопился, я знал, что успею прийти в гостиницу раньше них, идя самым медленным, прогулочным шагом.
Я все еще ощущал вкус поцелуя, и это ощущение, такое острое, будет долго волновать, ибо настояно из травы жизни, из ее странных и чудесных переплетений…
Я вернулся к себе подавленный, осмотрел все углы, открыл даже шкаф, будто кто-то может там прятаться, затем лег. Прошло много времени, прежде чем я услышал их первые шаги и слова, каждый, проходя мимо моей двери, считал своим долгом потянуть ее, проверяя.
– Не пришел, – говорил один, другой более определенно: – Все не оторвется, – третий выражал отношение всей компании: – Сволочь!
Потом все они ушли куда-то, наверное, собрались у Бобошо, и долго не открывалась дверь, не слышно было голосов и шагов – и так тревожно тянулось до тех пор, пока вдруг не почувствовал я запах. Мне трудно описать его, он просочился в коридор из щелей, и только я со своим обонянием почувствовал, что приготовили они себе напиток из смеси трав – кукнар.
Я вдыхал запах кукнара и чувствовал, как успокаиваюсь, уходит напряжение, мне, чтобы опьянеть, вовсе не обязательно пить, достаточно надышаться парами.
Я уже задремал, когда услышал стук в дверь и голос Карахана:
– Открой! Ты дома! – У них, должно быть, после кукнара тоже обострились чувства, и мой запах, человека трезвого и чистого, вылез из щелей моей комнаты и заволновал их.
Карахан повелел и ушел, не повторяя, уверенный, что я не рискну ослушаться.
Я не рискнул… Вышел к ним с небрежным видом, набросив на плечи халат, маскируя этим свою внутреннюю собранность – я сжался, как кулак. Теперь все шло по-крупному, в игру вводилась жизнь или смерть-это я понимал…
Когда я показался в дверях, все непроизвольно убрали свои чашки со стола, будто я, увидев, как они пьют, мог выйти и донести. Все насупились, но внутренняя их веселость от выпитого прямо-таки выпирала, потому смотрели они на меня дурашливо-лукаво, как проказники. Только Норбай радостно замычал и встал мне навстречу, словно не я должен был вызволять его из-под стражи, а он меня, милый дуралей…
На столе, было столько хлеба и вареного мяса, а Дауд все продолжал резать мясо ровными ломтиками, будто, сделав удачную вылазку и получив товар, они намеревались без отдыха и пауз жевать и насыщаться…
Я все разглядел одним широким взглядом и оценил, увидел даже банку на подоконнике, в которой прыгал клубок скорпионов – причуда Норбая…
– Что, нездоровится? – спросил Бобошо, впервые не участливо, а с иронией, даже зло – понимаю, что это не его интонация, подлаживается под всеобщее отношение ко мне.
– Да, – сказал я своим обычным, простодушным тоном человека, свыкшегося со своим недугом, – обострилось… – И сел недалеко от Бобошо, повинуясь его жесту, и оглядел всех опять, чувствуя, как им не терпится продолжить веселье, а приходится притворяться и сдерживаться, а сироп тем временем сгорает внутри бесполезно. Когда я зашел, Бобошо держал в руке маленький серебряный кувшин, намереваясь разливать по второму кругу, только сам он, я заметил, собран, как никогда, и трезв, бодрствует…
Карахан переглянулся с Сабахом, затем потянулся ко мне через горку хлеба и мяса, жуя:
– А мы думали – сбежал… Даже к твоей татарке бегали проверять… и Сабах хотел остаться… еле отклеили от нее, – проговорил он, делая паузы и подергиваясь.
Не знаю, как у меня получилось, так ловко и быстро схватил со стола плеть Бобошо и полоснул Карахана по лицу изо всех сил.
На мгновение все опешили и смотрели на меня с перекошенными ртами, и в тот миг, когда я бросил плеть, Сабах раньше всех опомнился и вскочил, замахав руками, примиряя и гася страсти.
– Довольно, довольно… Еще один крик и за стеной… так нас всех загребут. Тише! Забыли! – И хлопал по спине Карахана, усмиряя и приводя его в чувство, как бы говоря, что не время сейчас, еще успеем отыграться…
Единственный, кто оценил мой поступок, – это конечно же, Бобошо. Не скрывая, он смотрел на меня, сочувствуя и сожалея, и взгляд его говорил: «Лучше бы тебе не появляться сегодня… И вообще, пора тебе исчезнуть…» – не знаю, может быть, показалось, но я чувствовал, что он тайно на моей стороне. Теперь только тайно, к сожалению, он был не властен, они расползлись… Не оказался я счастливым талисманом.
Лицо Карахана прямо-таки расплывалось на моих глазах… Неужели вот так надо было решиться, поднять плеть, чтобы все в этой комнате переменилось – да, они уважают силу. Все вдруг сделались опять шумными и веселыми, как и до моего появления, хохотали, заталкивая друг другу в рот куски мяса, подергивались, размахивая руками, даже Карахан, шевеля вздутыми губами, гримасничал, видно, кукнар успокаивал боль. Все опять требовали, чтобы Бобошо наливал, а он трезво и рассудительно говорил, что нельзя так часто, ночь еще впереди, не лучше ли выспаться, а потом уже по второй, на посошок…
Но всем не терпелось выпить еще, и тогда Бобошо стал разливать осторожно, по каплям, протянул чашку и мне, кивая и как бы прося, чтоб я не отказывался за компанию – это может меня примирить…
Я выпил этот горький настой и сразу почувствовал легкое головокружение, и увидел серое перед глазами, и услышал как бы издалека голос Дауда:
– Ешь, ешь побольше…-
Да нет же, не может так сразу подействовать, это просто я внушил себе, что меня пробрало, внутренне поддался общей атмосфере, это все равно что опьянеть, глядя, с каким смаком, наслаждаясь, пьет сидящий напротив собеседник.
Я знал, что много хитрого в этом напитке из пустынных трав, много такого, что действует искажая, ложно. Наверное, в этом его прелесть для заядлых любителей настоя. Не знаю…
Лицо Карахана вздулось и почти закрыло глаза, но после второй чашки он уже не чувствовал боли; я хохотал, глядя на него, он тоже, как и все, жевал и хохотал, только иногда, поймав мой взгляд, должно быть, смутно вспоминал обиду и тогда надувал губы, как ребенок.
Видно, мои торговцы знали целый ритуал пития, и, когда Норбай поставил банку со скорпионами на стол перед Бобошо, я понял, какие здесь все утонченно-извращенные, не просто пьют и веселятся, глядя друг на друга отрешенно, витая каждый в своем маленьком раю, но желают для полного блаженства чего-нибудь остренького, чересчур возбуждающего, даже опасного.
Сквозь дрему и шум возбуждения я понял, что две чашки – это норма кукнара, достаточно, чтобы насладиться, не теряя до конца голову, самые же заядлые, кому мало двух чашек, требуют еще и третью, но с условием, что будут развлекать остальных.
Сладострастный Дауд умолял налить ему третью чашку, он весь дрожал, предвкушая наслаждение, для него, оказывается, и были отловлены эти скорпионы.
Я все подробности опускаю потому, что пишу в спешке, собираясь скоро уезжать. Когда Дауд выпил третью, все стали толкать его на кровать, прыгали вокруг в каком-то странном, страшном возбуждении, порвали на нем рубашку, содрали белье. Дауд улыбался пьяно, не сопротивляясь, просто просил, чтобы не так торопились, не рвали, ему надо внутренне собраться и лежать в позе… Есть две или три точки на теле, которые все же остаются чувствительными к укусам, но никто ждать не хотел, требовали представления взамен третьей чашки. Сабах и Карахан уже прижимали Дауда к кровати,^ а Норбай, мыча, бросил к нему в постель коричневый комок, комок тут же расползся – и побежали по телу Дауда, подняв на кончике хвоста свой яд, скорпионы.
Тело его, насыщенное кукнаром, не чувствовало укусов, Дауд только дурашливо визжал, будто играя, отбивался от тварей, торговцы веселились и, забыв об осторожности, ловили уползающих скорпионов и бросали их на спину Дауда. Тело Дауда местами вздувалось, когда скорпион ловко вонзал свой хвост, расплывалось, как лицо Карахана от моего удара.
Карахан меня забавлял… Заметив, что я смеюсь, глядя на его перекошенный нос, он вдруг весь переменился от злости и швырнул в меня скорпиона…
Никто этого не заметил, даже трезвый Бобошо, я же погрозил добродушно Карахану, как проказнику, и сказал:
– Играй… играй, – и, шатаясь, вышел, чувствуя, как мне становится не по себе – смутное беспокойство и тоска…
Мне не лежалось и не сиделось спокойно, всех кукнар возбудил, меня же, наоборот, сделал раздражительными вялым. Но я не должен расслабляться, надо трезво подумать, когда удобнее и безопаснее мне выехать – наши пути разошлись окончательно. Я уже все видел, все знал, мне они осточертели, торговцы, только одно еще оставалось, как далекая мечта, еще как-то бодрило… Наконец-то, думал я, поведу сам лошадь, выйду под утро, когда все они свалятся с ног от усталости, и проберусь, незамеченный к фургонам…
И через степь, сонно раскачиваясь под стук колес… одинокий на всем пространстве, где так свободно… да, наши предки-кочевники кое-что смыслили в этой жизни, и меня манит…
Но куда теперь? Где мне будет еще так уютно и хорошо? Поеду потом к матери… а когда торговцы успокоятся, забудут, вернусь опять, и Бобошо вспомнит, удивившись…
Не знаю, может, сделаю большой, очень большой круг и опять вернусь в Чашму – я все еще ощущаю на кончике языка поцелуй одной местной красавицы, мы с ней вспомним…
Я так торопился, что мысленно был уже далеко отсюда и писал, как бы тоскуя и желая возвратиться в Чашму, чтобы отдохнуть возле ее холмов и успокоить нервы. Это еще одно странное свойство кукнара – смещать время, место и действие, путая их классическое триединство, о котором так любил говорить мой балет ный учитель, – уносить человека от места, где ему нехорошо сейчас, и делать так, будто он уже издали тоскует, и это место, этот миг со своим текущим временем кажутся прекрасными…
Эпилог
(Рассказ доброжелателя)
Между этим моим рассказом и записками завсегдатая почти три года времени… Все было некогда – каменная болезнь, книга, которую надо сдать в срок, ибо в издательстве свои планы, а тут еще полоса творческой апатии, с которой тоже надо как-то бороться, словом, все не мог собраться, а жаль, к тому времени дело моего соседа Ахуна еще больше запутали, пошли слухи и суеверные разговоры, сложилась легенда, «миф о завсегдатае» – его я и пытаюсь сейчас трезво развеять.
Начну с ранней весны. Приходит ко мне возбужденный чрезмерно этот бывший артист балета, «пенсионер без стажа», как называли его наши квартирные кумушки, и говорит, что нашел себе увлекательное занятие, едет с торговцами, чтобы посмотреть на их дело изнутри, а вернувшись, расскажет мне – может, возбудит мое воображение на новеллу. Наивный человек! Я ему ответил:
– Конечно, я вас с удовольствием выслушаю, когда вы вернетесь, но вряд ли ваш рассказ заинтересует меня творчески. У нас хрусталики зрения повернуты в разные стороны… А вообще берегитесь! – Словом, повторил свое предостережение, а сосед смеялся и не слушал, словно был уже с ними далеко в пустыне, одержимый. Признаюсь, мне сделалось на минуту даже завидно, почти всю зиму Ахун ходил скучный, жаловался, что ничто его не интересует и не радует, и вот появляется совсем другой, оживший, даже слишком живой, и эта его способность выводить себя из состояния, находя самые авантюрные, с точки зрения серьезного человека, бредовые идеи, умиляла меня…
Словом, он уехал очертя голову, а я опять… больше в трудах, чем в днях, и забыл о своем базарствующем соседе.
А много времени спустя, уже летом, приходит ко мне следователь. Грузин Мамидзе, седой, благородного вида человек, с которым мы дружим теперь и по сей день – почитатель… Мамидзе уже сорок лет следователь, и чувствуется, как он этим гордится, и правильно – у них опыт, все делалось на их глазах.
Я, можно сказать, один из первых, кто начал новейшее судопроизводство во всей Средней Азии, – сказал он. Потом попросил рассказать, что я знал о бывшем артисте Ахуне и что я вообще о нем думал, впечатления… – Его уничтожили, – добавил Мамидзе.
– Как уничтожили? – не понял я. – Убили?
– Сожгли. Так, во всяком случае, гласит наша версия… И торговцы признались…
Я рассказал, какое впечатление производил мой сосед, начал с того, что не очень одобрял его писанину.
– Вы имеете в виду эти записки? – спросил Мамидзе, извлекая из портфеля кучу бумаг.
Я глянул, пробежал глазами.
– Ну, конечно, – сказал я, и тут мой взгляд упал на то место его записок, где Ахун так нелестно – и, разумеется, несправедливо, из чувства зависти – отзывается о моем творчестве, называя его нетрогающим, рассудочным.
Внимательный Мамидзе заметил.
– Вас что-то взволновало? – спросил он осторожно, но я не стал, смешно было бы спорить, не в моих правилах обращать внимание даже на большую, печатную критику, я называл ее «мушиными укусами, огородными страстями», а тут непрофессиональный взгляд эстетствующего соседа… Я прощаю две-три колкости в мой адрес, которые позволил себе сосед Ахун, он гораздо ближе к истине не в момент злобной хандры, а когда в нем опять начинала говорить в общем-то добрая душа.
В одном месте он сказал, что я стал к нему со временем доброжелательнее, сменив подозрительность и высокомерие. В этом он почти прав, я всегда был расположен доброжелательно, я был старшим товарищем, дающим хорошие советы и предостерегающим. Не моя вина, что он не послушался.
Уже через год после суда Мамидзе устроил мне встречу в тюрьме с подозрительным персом Бобошо, главарем, с остальными – Сабахом и Караханом; Дауда оправдали, найдя у него душевную болезнь, а Нор-бая вообще не привлекали, этот прибежал к постовому в Чашме с раскаянием и увлеченно помогал потом следствию, несмотря на свою безъязыкость.
Их, конечно же, всех троих надо было приговорить к высшей мере, но вот странность – недоставало кое-каких улик, вещественных доказательств, несмотря на то, что почти вся современная тонкая наука была привлечена на помощь: всякие изотопы, анализы, ультрафиолетовые лучи, – не нашли ни грамма пепла, ничего не осталось от сожженного завсегдатая, будто был он вообще бестелесным, как дух. Им присудили не за убийство, а за покушение, хотя Сабах и Карахан в один голос истошно кричали и на суде, и мне в лицо, когда я навестил их в тюрьме:
– Мы его сожгли, клянусь, мы с ним расправились! – Да еще таким тоном, будто готовы были истерично разреветься оттого, что кое-кто еще в чем-то сомневался – так им хотелось, чтобы поверили все в убийство!
– Маньяки, – назвал их Мамидзе, но я думаю, что они просто злы, так ненавидели Ахуна, что были счастливы, разделавшись со своим беглым напарником.
Только Бобошо сконфуженно-удивленно пожимал плечами, признавая, что, да, они подожгли фургон, где сидел запертый наглухо Ахун.
– Но это был такой дьявол, – шептал растерянный Бобошо, – я не удивлюсь, если узнаю, что он пролез в дырку не больше игольного ушка – и спасся… – Главарь, видно, симпатизировал Ахуну даже после того, как ему показалось, что завсегдатай их предал.
Ночью, когда они напились этого кукнара и стали трезветь к рассвету, Карахан вдруг спохватился. Ахуна нигде не было, и тогда торговцы подняли тревогу и помчались на фургонах по следам сбежавшего. По всей пустыне земля была еще влажной, и преследователи без труда нашли близко к вечеру следующего дня фургон Ахуна. Свежий ветер, видно, разморил его – представляю, как он восседал горделиво, натянув поводья. Он пишет о какой-то детской мечте, дяде-офицере и поцелуе лошади – это дешевое притворство, я не верю. Словом, торговцы нашли его спящим внутри фургона, лошадь жевала сено – он бросил ей корм, а сам решил вздремнуть ненадолго…
Они были так воодушевлены, что нашли беглеца, – суетились, не зная, что придумать. Карахан ударил спящего ногой, они его связали, оставив в фургоне. Вышли, дрожа от холода, и развели костер. Сабах уже держал в руке эти роковые записи, они листали и читали отрывки, и никто уже не сомневался в том, что взяли они с собой на дело соглядатая, который записывал каждый их шаг – спокойно и расчетливо – для следствия.
Дауд, воспользовавшись таким случаем, снова приготовил свой сироп, и все стали пить. Единственное, что сумел вымолить Бобошо для своего любимца, – чтобы развязали Ахуну руки, но это как раз-таки и было медвежьей услугой, потому что, развязав его, Карахан и Сабах стали забивать снаружи гвоздями переднюю и заднюю двери фургона, чтобы быть спокойными.
Пили возле костра, глядя на фургон, внутри которого сидел завсегдатай, после второй чашки, забыв о мере, потянулись к третьей, ворча на трезвого Бобошо.
Скорпионов у них под рукой не было, и непонятно, чем бы они развлекались, если бы вдруг Дауду не показалось, будто под фургоном Ахуна загорелось пламя.
– Огонь! – сказал он, волнуясь.
Ахун неправильно изложил и эпизод со скорпионами в постели Дауда, вернее, не понял смысла этого странного поступка.
Доктор Пай-Хамбаров, давший заключение о невменяемости Дауда, сказал мне, что, играя так со скорпионами и возбуждая какие-то нервные точки, он отвлекал себя от зрительных галлюцинаций, которые всегда мучили Дауда после кукнара.
Словом, Дауду показалось, что горит под фургоном, он говорил:
– Смотрите, смотрите! – и показывал всем, убеждая.
– Это не огонь, дым, – сказал Сабах. – Сейчас ты увидишь настоящее пламя. – И бросил вместе с Кара-ханом охапку сена под фургон Ахуна и зажег. – Это огонь! – сказал, вернувшись на место.
Огонь быстро поднялся, и все смотрели, как фургон горел вместе с завсегдатаем, и так сгорел дотла, и остался торчать только его железный остов.
Один лишь Норбай не выдержал этого зрелища. Он успел отвязать лошадь и, вскочив на нее, помчался в сторону Чашмы, был так ловок, что вскоре преследователи отстали, устав, и вернулись, чтобы в панике бежать…
– Вы знаете, – говорил Мамидзе, – ну, ничего не оставил после себя, как сам написал: «ни царапины не оставлю, ни следа…»
– Меня удивляет – вы цитируете, – сказал я, – вы человек профессионально трезвый… и верите этим запискам…
– В таких случаях обычно остается, – повторил Мамидзе. – Сейчас техника может восстановить события даже столетней давности по лоскутку, по одному сохранившемуся волосу. А здесь и она оказалась бессильной… Иногда я думаю: «А был ли вообще среди нас этот завсегдатай? Фантастичный человек!» – Но тут же, боясь, что я могу заподозрить его в суеверии, Мамидзе спохватился: – Ну вы, надеюсь, понимаете, что я так, для красного словца?..
Словом, для многих эта история стала казаться загадочной, и вот слышу: слагают уже легенду, некий коллективный миф о завсегдатае. Ждали год, два напряженно, думали, может, объявится мой сосед у матери в Бухаре или хотя бы напишет ей издалека, нет, молчание.
И женщина, на которой он собирался жениться, после первого потрясения стала в чем-то сомневаться, не верить, даже эта местная красавица, Савия, отказалась, говорила, что вообще не видела такого человека и никогда не имела с ним дела.
Ее-то можно понять, не хотела смущать своего нового мужа – учителя. Но вот и Шайхов, он тоже почему-то путал – серьезный человек науки, а говорил, что вспоминает что-то такое, какого-то человека, но не уверен, был ли это Ахун…
Как они все любят оставлять место своему воображению, загадке, даже если Сабах и Карахан с таким ожесточением сопротивляются и твердят:
– Мы его уничтожили, вот этими руками! – И даже когда мое мрачное пророчество так очевидно, к сожалению, сбылось.
Не я ли доброжелательно предостерегал:
– Берегитесь, Ахун, они вас как-нибудь словят… – И вот словили, не уберегся…
1977
РАССКАЗЫ
За честь эмирата
Молла-бек нанялся разгружать клетки со львами для кочевого цирка. Тянул за собой на веревке все это мрачное хозяйство, боясь, что хмельной лев… Аллах праведный, врагам своим не желает Молла!
Но однажды остановился Молла, посмотрел льву в глаза и удивился.
Робкий и стыдливый, сидел хищник в углу клетки, прижав к тощему телу хвост, и с грустью наблюдал, как суетится Молла.
– Вай! Вай! – зашептал Молла от жалости. – Ведь природа сотворила тебя, брат, для устрашения и мужества, а ты уподобился домашней скотине…
И еще Молла шепнул льву, вступая с ним в заговор: – Вижу, что ты фальшивый, брат. Самый обыкновенный ты осел, которого обшили внушительного цвета шкурой…
Но тут Моллу вызвал директор и, протянув небольшой ящик, приказал:
– Отнеси, да поосторожнее, главных кормильцев наших!
Какие-то симпатичные существа жалобно стонали в ящике.
Молла не стал дразнить свое любопытство, сел и открыл ящик.
Выскочили на свет два пуделя и смешно затявкали, наступая на своего спасителя.
Спаситель же, никогда ранее не видавший подобных зверьков, засмущался и сказал на всякий случай:
– Здравствуйте… Рад видеть вас в Бухаре…
Но пудели продолжали тявкать, будучи воспитанными в невежливости.
– Ах, как нехорошо! – послышался голос. И выбежала откуда-то маленькая женщина с обручем в руках, в ярких шароварах.
– Ах, ах! – пожурила она растерянного Моллу.
Пудели радостно запрыгали вокруг женщины,
не переставая, однако, недоверчиво тявкать на Моллу.
– Жанна! Соломон! – сделала им знак женщина, и пудели, толкая друг друга, пролезли через обруч, проделывая один из своих цирковых номеров.
– Видите, какие у меня красавцы? – пожалела женщина Моллу.
– Удивительно, – осмелел Молла.
– А вот еще! Соломон! – приказала женщина. И Соломон стал вращаться вместе с обручем, да так быстро, что Молла снова повторил:
– Удивительно… – И пояснил женщине: – Никогда не видел таких собачек.
И невольно залюбовался самой женщиной, подумав, какая она маленькая и хрупкая, вполне бы могла поместиться в этом обруче и вращаться в своих ярких шароварах.
Женщина взяла пуделей на руки и понесла в вагончик.
А Моллу снова вызвал директор и сказал:
– Молодец! Ты перенес все ящики с хищниками и остался невредим. Теперь я дам тебе более увлекательное дело.
– Какое? – обрадовался Молла-бек, который привык уже к цирку.
– Признайся, ведь ты был уже раз борцом? – Директор для проверки похлопал Молла-бека по его могучему плечу. – Был ведь чемпионом, говори!
– Ну, был, – стал нехотя вспоминать далекое время молодости Молла.
– Во дворце эмира вашего бухарского, – подсказал директор, – ты там на ковре чемпионом стал.
– Кто это рассказал? – недоверчиво переспросил Молла.
– Неважно, – заторопился директор. – Так вот, предлагаю тебе, пока мы гастролируем, выходить на арену для привлечения местной публики.
– А кто этот борец ваш? Я ведь давно все позабыл.
– Не бойся. Беглый бродяга Мариотти. Платить хорошо будем, – пообещал директор. – Имя твое напишем крупно на афишах и расклеим по всему городу.
– Я подумаю, – стал терзать свою душу Молла.
– Подумай, брат, а мы пока афиши заготовим… «На арене нашего цирка – чемпион эмирата Молла-бек!»
Молла-бек ушел, чтобы побродить вокруг цирка и поразмыслить над новым своим занятием.
Была у него бычья натура. Подразни его раз, подразни второй – не откликнется, зато на третий раз бросится яростно и беспощадно.
Вот и сейчас он долго боялся чего-то и несколько раз даже порывался уйти совсем и не попадаться на глаза циркачам. Но афиши с его именем в каждом переулке, возле каждого дома, где знают Молла-бека лишь как бездельника и неудачника!.. И вдруг перед глазами всех: «На арене чемпион эмирата – Молла-бек!»
Тут недалеко от того места, где он стоял в расстройстве, заржала лошадь и послышались шум и голоса циркачей.
– Эй, чемпион! – позвал его из фаэтона директор, сидевший в компании циркачей. – Поехали, местный базар нам покажешь!
Молла-бек заторопился к фаэтону, тяжело дыша, взобрался на него и стал с этой минуты своим в цирке.
На восточном базаре циркачи затмили всех пестротой своих одеяний. Кричали они громче местных торговцев, набрасываясь на прилавки с дынями и миндалем. Брали фрукты для пробы, ели, но не покупали. Гостеприимные торговцы терпеливо вздыхали, видя, как целая ватага насыщается бесплатно, хватая все, что попадется под руки. Осуждали они только Молла-бека, хозяина жадных гостей.
Молла-бек из вежливости покупал все и торжественно дарил маленькой, хрупкой женщине.
– Мерси, – говорила она, взяв яблоко, самое большое и сочное, которое выбрал для нее галантный кавалер Молла-бек.
И повторяла все время одно и то же непонятное: «мерси», принимая с благодарностью следующий подарок – гроздь винограда или дыню.
Позади нее, не отставая ни на шаг, тихо брел задумчивый мужчина, с которым новая знакомая Молла-бека время от времени делилась чем-нибудь особенно вкусным.
– Яков, – говорила она, жалеючи, – попробуй, какая красота – виноград.
И Яков пробовал, тихо жевал, наслаждаясь.
Молла-бек не обращал на это внимания, был великодушен в обществе маленькой женщины.
Только раз, когда Яков тоном провинившегося ребенка обратился к ней, спросив:
– Рикка, я проглотил нечаянно гранатовое зернышко. Это плохо?
Молла-бек ответил:
– Ничего, это можно! – И был горд, что знает больше человека, с которым маленькая женщина делилась своими подарками.
Прекрасный вечер послал господь Молла-беку. Он прогуливался с загадочной маленькой Риккой и слышал, как народ у афиш удивляется и смеется:
– Да это же наш рябой Молла! Кто бы мог подумать, что он чемпион?! Обязательно надо посмотреть.
Самого Моллу не видели. Он прогуливался в тени аллеи, чтобы остаться незамеченным. Не то бы начали кричать:
– Смотрите, а вот и сам Молла! С женщиной, хе-хе! Конечно – знаменитость! – и дергали бы его за руку, прыгали бы вокруг него, корча разные противные рожи, и хамье могло бы даже что-нибудь такое сделать и маленькой Рикке, ну, например, потянуть ее за шаровары.
У других афиш его не знали. И делали мрачный вывод:
– Кто этот Молла? Самозванец какой-то решил защищать честь нашего города. Ничего путного из этого не выйдет.
Этим бестолковым Молла хотел крикнуть:
– Как, вы не знаете чемпиона Моллу? Для чего же вы живете на свете, ослы? Ничего, я вам докажу, кто такой чемпион Молла!
Маленькая Рикка шла с чемпионом под руку и застенчиво щелкала орешки, доставая их из кармана Моллы.
Моллу тревожило и удивляло ее равнодушие к славе кавалера. Казалось, она и не догадывается, о ком идет молва вокруг.
Когда они очутились на безлюдной улице, Молла остановил даму возле афиши и долго, посапывая тяжело носом, читал о себе и ждал, что наконец Рикка заговорит о том, о чем говорит сейчас весь город.
Но Рикка молча продолжала щелкать орешки, недоумевая, почему они остановились у афиши.
Молла помрачнел сразу и сунул руку в карман, чтобы выбросить оттуда к чертям все орешки. Но сдержал себя, кашлянул и робко начал:
– Тут вот написано о Молле. Мол, чемпион он и прочее. Всегда у вас, циркачей, объявляется все громогласно?
– А что? – будто не поняла Рикка.
– Как что? Ведь Молла – это же я!
– Знаю, – сказала Рикка, беря новый орешек.
– Знаете? – почему-то просиял Молла. – Откуда? – И тут же понял: – Да, я ведь называл свое имя!
Когда отошли от афиши, Молла сказал мрачно, чтобы разговор этот не прерывался:
– Я буду бороться. Через тридцать долгих лет… Снова на ковре. Это правда… Что вы скажете?
– Не боитесь? – спросила Рикка.
– Чего? Директор сказал: не бойся. Народ ждет, что я снова одержу победу. Думают, что я бездельник. Но они увидят чемпиона Моллу! Такого, как много лет назад, молодого и красивого. Не думайте, что я такой. Вот – руки дрожат! Вот – щеки отвисли! И вот – живот у меня выпирает! Ерунда, я не такой! Внутри у меня здоровый дух! Я его оберегал, этот дух, все годы, лежа в чайхане, в темном месте, я его закупорил, как в кувшине, чтобы не тратить на суету и на мелочи. И он у меня сидит здесь и ждет! – хлопнул себя по животу Молла.
В ответ маленькая Рикка весело засмеялась, думая о том, какой он смешной и трогательный со своей оправдательной речью.
– Вы смеетесь, – обиделся Молла, – а это правда…








