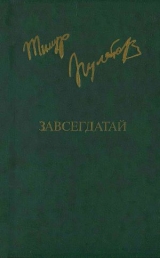
Текст книги "Завсегдатай"
Автор книги: Тимур Пулатов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 33 страниц)
Дальше раз сто «милая Нора», «люблю», «целую», наставления, как жить, как есть, как ходить по улице, – на целых три года.
– Какой милый чудак наш папа, – сказала мама. – Как он неуклюже пишет о любви. Совсем не умеет писать.
4
Я понимаю – для мамы сегодня необычный день.
Через много лет я так же волновался, когда шел давать свой первый в жизни урок. Ты, должно быть, помнишь, Марат? Помнишь, после окончания института нас направили учительствовать в одну школу. Преподавать язык и литературу. Помнишь, в мой самый первый урок ты был свободен и, чтобы я не умер от волнения, решил сидеть в моем классе. Ты подбадривающе мигал мне с последней парты, а я стоял перед учениками и несколько минут не мог ничего произнести, хотя прекрасно знал, о чем надо говорить. Ученики стали посмеиваться, и от этого я еще больше струсил. Я уже собрался махнуть на все рукой и выбежать из класса, как вдруг поднялся ты, Марат, и сказал:
– Ребята, не волнуйтесь. Магди Анварович в спешке прихватил мои конспекты. И не может разобраться в моем ужасном почерке!
Ученики рассмеялись, я облегченно вздохнул и сказал свое первое в жизни учительское слово: «А ну-ка, доставайте тетради», – и все пошло нормально с этой минуты.
Вот так и у мамы.
«Но все будет хорошо, мама. Раненые полюбят тебя, я знаю, только не надо бояться», – думал я, сидя на самом верху виноградника. Раз в неделю я забираюсь сюда, чтобы посмотреть бесплатное кино. Наша улица – большой экран, а артистов хоть отбавляй. Спрячьтесь где-нибудь и наблюдайте, только чтобы вас не заметили. И вы увидите интереснейшие вещи.
Вот, например, каждое утро из ворот напротив выходит старикашка Сираж-бобо. Выходит, закидывает голову вверх. и пристально смотрит в небо, будто увидел там летающего осла. Смотрит и все время без всякой надобности подтягивает брюки.
Брюки он начал носить недавно, когда поступил сторожем на макаронную фабрику, и еще к ним не привык. Раньше, пока сын его не был на войне, старик нигде не работал и ходил в белых штанах. В них прохладно и удобно сидеть в чайхане. И ходить в мечеть. Ведь появись в мечети в брюках – осмеют.
Стоит Сираж-бобо, смотрит в небо десять минут, полчаса, пока шея не одеревенеет, затем выдернет из ватника под мышкой комочек ваты, выдует из него сор и одним выдохом выстрелит в небо. И радостно следит за полетом ваты, подпрыгивает, машет руками. И так до тех пор, пока вата благополучно не застревает на дереве между листьями.
Отец объяснял, что у него такой возраст, когда хочется повторять все, что делал в детстве. Представляю, какой ужас будет со мной в его возрасте! С утра до ночи, как дурак, буду сидеть на винограднике и следить, кто куда пошел и зачем. Меня так и будут звать соседи: старый дурак на винограднике. Незавидная участь!
Или вот другое кино. Тоже соседи – дед и бабка. Они так похожи друг на друга, что до прошлого года я считал их близнецами. Но отец сказал, это муж и жена, и я долго не верил, как такие старые могут быть мужем и женой. Мне казалось, что муж и жена обязательно должны быть молодыми и писать, как супруги Буттенгот и Готтенгот, точно не помню, сказки о своей любви.
Деда зовут Мекка, а бабку Медина. И вот они появляются на улице, поворачиваются ко мне спиной и начинают глядеть на свои ворота, и вздыхать, и плакать, и ворчать друг на друга. Боже, как постарели, потрескались их ворота, любимые ворота, молчаливые свидетели их молодости! Какая мерзкая штука эта жизнь, что не пожалела даже ворот – гордость рода, предмет зависти соседей и дальних родственников.
Ворота у них действительно великолепные, массивные и угрюмые, из самого крепкого дерева на свете – карагача, разрисованные, как ковер, узорами и ромбиками. Из поколения в поколение передаются они по наследству, кочуют из города в город.
Мекка и Медина оказались на редкость плохими хозяевами. На их глазах ворота стали сохнуть и трескаться и, чтобы предотвратить дальнейшую гибель, каждое утро дед и бабка чистят их керосином. Трут, ругаются, плачут, но все напрасно. На следующий день на воротах появляется новая трещина – жизнь, жизнь, ничего не поделаешь! Только одно немного волнует меня в этом кино: кому же после их смерти достанутся ворота, ведь наследников у стариков не осталось?
У меня в запасе еще много картин, но обо всех рассказывать сразу не стоит – скучно будет. Тем более что внизу по улице идешь ты, Марат. Вид у тебя, дружище, очень печальный.
Встряхнись же наконец, выше нос, как Буратино! Но ты, оказывается, и не знаешь, кто это такой. В детстве у тебя были одни только выдуманные тобой и твоим дедом истории о ведьмах и колдунах и ни одной приличной сказки. А как нужны нам, дружище, сказки, чистые и светлые сказки – нам, семилетним и тридцатилетним, особенно тридцатилетним. Потому что без них, как говорил поэт, «нет житья… ни людям, ни зверям».
– Эй, Марат!
Только сейчас я заметил, что на тебе порвана рубашка.
– Дрался?
– Надоело все, Магди! Не могу больше. Каждый день черные бумажки – смерть, смерть, смерть… И будто я виноват.
Морщась, ты снял рубашку, и я ахнул – вся спина была в синяках.
– Кто тебя? Скажи, мы отомстим.
– Глупый. Я принес одному старику черную бумажку, а он начал бить меня палкой… А я стоял и не мог убежать.
– Так тебя убьют когда-нибудь.
Мы помолчали, и я сказал:
– Знаешь, что сейчас я… Слушай, отец мой дома, понимаешь? Он совсем не на войне. Все думают, что он воюет, а он прячется дома.
– Поклянись!
– Серьезно. Идем. – И я заставил тебя сесть на кровать, потом в комнате раздался голос папы.
– Внимание! На зарядку становись! Руки на пояс, мальчик…
Ты был растерян, а я хохотал:
– Это мой отец, честное слово. Теперь ты веришь, веришь?
Но ты сразу понял, что к чему, и сказал:
– Кто это придумал?
Я-то знал, в комнате пластинка, где записан голос отца, и, как только встаешь с кровати, пластинка включается и начинает передавать приказы в репродуктор на винограднике, но я не мог объяснить тебе, понимаешь, не мог, потому что я не хотел верить, что это обыкновенная пластинка, а не живой, настоящий голос папы, который потом много-много дней поддерживал меня, и мне даже стало обидно и больно, что я показал тебе, раскрыл тайну своей сказки…
Ты, видимо, понял мое состояние, сказал:
– А я… я сразу поверил, что это твой отец. Я даже знаю, что, если ты спросишь у него что-нибудь, он ответит. Спроси-ка…
5
Я подумал, как будет приятно маме, если мы с Маратом придем за ней в госпиталь – уж очень она волновалась в первый день работы и сразу бы поняла, что и мы волнуемся вместе с ней.
Марат знал, где находится госпиталь, и мы пошли. Мне запрещали уходить далеко от дома – в улочках нашего города не мудрено заблудиться. И в тот день я впервые нарушил этот запрет.
Какой интересный мир открылся мне! Мы шли друг за другом, потому что только так можно было пройти по узким улицам. На каждом шагу мечеть – поднимаешь голову, а там голубая шапка с гнездами аистов, и от этих шапок и дома, и деревья, и люди – все кажется голубым, хотя на самом деле улицы угрюмые, безглазые, и никто не высунет голову и не скажет «здравствуйте!».
И вдруг, как что-то совсем чужое, возникло перед нами каменное здание с множеством глаз – в этом единственном тогда здании европейского типа через много лет я учился в институте, набираясь ума-разума.
– Что же ты остановился? – Марат толкнул меня к этому зданию, и я посмотрел на окна в надежде увидеть живых, настоящих раненых, людей оттуда, с войны.
– Туда нельзя, – остановила нас у входа женщина с красной повязкой.
– К маме, – сказал я, – она работает здесь.
– К маме тоже нельзя. Она занята.
– У них дом горит, тетя.
– А не врешь? – женщина схватила Марата за руку.
– Обманывает, – поспешил я признаться, зная, что мама упадет в обморок, если ей скажут: у вас пожар!
– Ах, врет! – женщина принялась поучать бедного Марата, что-то говорить про взрослых, которые на войне, и про детей, которые занимаются враньем… Хорошо, что сзади нас протяжно загудела машина, и мы отскочили в сторону.
– Раненые, – шепнул Марат.
Из машины с большим красным крестом санитары начали вытаскивать носилки – одни, другие, третьи, седьмые… Я смотрел на них и ничего не видел, кроме ног, высохших, синих. Тебя, слава богу, не было среди них, отец, все чужое, незнакомое. А их несли, несли на носилках, с запахами крови, с запахами войны – мимо нас.
– Все, – сказала женщина с повязкой, – этого пока положите под деревом. Мест нет…
– Да вы что? Он очень плох. Он без сознания.
– Говорю вам узбекским языком – мест нет.
Его положили под деревом, восьмого, бедного, которому не хватило места, и мы медленно подошли к носилкам. Ветер откинул край простыни, и я увидел, отец, совсем худое, совсем безжизненное, страдальческое лицо человека, который чем-то был похож на тебя – такой же высокий и худой, но с широкими плечами, которые еле умещались на носилках.
Он лежал, и губы его дрожали. Наверное, он никак не мог отогнать от себя картины войны: бегут, падают и умирают солдаты, раскалываются пополам деревья и небо.
Вдруг я подумал, что он должен обязательно знать тебя, отец. И дядю Фархада. Солдат этот шел с вами по лесу, по темному, запутанному лесу, и дядю убили, а его ранили, а ты бросился к нему, чтобы спасти. А тут еще снаряд. И что стало с тобой, отец?..
– Дядя, дядя! – стал звать его я, стал будить, чтобы он смог отогнать от себя прочь картины войны и сказать, что стало с тобой…
– Мальчик! Оставь в покое раненого. Иди домой. Мама твоя очень занята…
И мы ушли. Шли и молчали. Совсем забыли, что нас двое, не разговаривали, не смотрели друг на друга.
Долго, очень долго я сидел, ни о чем не думая, словно меня нет, улетучился. Потом начал ходить из комнаты в комнату, по двору и думать.
Наверное, он все еще лежит под деревом и смотрит картины войны, и ему больно и нехорошо. А жена его и дети ждут письма и совсем не подозревают, что он лежит сейчас под деревом, не знают и не могут прийти к нему, чтобы помочь.
И я побежал на кухню, стал резать, резать хлеб, мазать маслом. Завернул все это в газету. Решил отнести ему, чтобы он обрадовался. И ему станет хорошо.
Но вот и мама. Я спрятал сверток и вышел ей навстречу.
– Поздравляю тебя, мама.
– С чем? Письмо от папы?.. Да, да, день прошел удачно. Но как я устала, ты даже представить не можешь! Зато восемь операций – восемь!
– Это мало или много?
– Это ужасно много для мирного времени, мальчик. Но сейчас… Один из врачей сделал двенадцать, и все удачные.
– У тебя сколько удачных?
– Будем надеяться, что все. Но одна была такая жуткая, как я волновалась!.. А зачем ты приходил в госпиталь?
– Просто мне хотелось поглядеть на тебя. Нельзя?
– Нельзя, маленький. Ты понял меня?
И, хотя я не понял, сказал:
– Да.
– Завтра у нас будет гость.
– Кто, мама?
– В госпитале очень тесно. Мы, врачи, решили взять к себе домой раненых.
– А зачем?
– Там им тесно.
– У нас в доме будет лежать раненый?
– Да, мальчик. И ты будешь помогать мне.
– Буду, мама. А ты уже выбрала кого? Ты знаешь его? А ему у нас понравится?
– Я еще не выбрала. Не знаю, понравится или нет. Но мы должны его вылечить.
– Я сделаю все, чтобы он вылечился. Ладно, мама?
– Хорошо, хорошо. Давай ужинать.
– Мама, давай возьмем его. Он лежит один под деревом. Ему не хватило места. Тебе ведь все равно. Я знаю, он будет хороший и послушный и не станет капризничать.
– Ладно, маленький. Мы пойдем вместе, и ты покажешь его.
– Он такой хороший! Такой славный! Мама! Знаешь, что я придумал? Сказать? Давай пойдем и возьмем его сейчас. Я прошу тебя…
И мы пошли в госпиталь. Он страшно удивится, когда узнает, что мы забираем его к себе. А вдруг он не захочет? Тогда я скажу маме, пусть она сделает ему укол, усыпит, и мы понесем его, а утром, когда он проснется, скажем, что мы не виноваты, так получилось. А потом ему у нас понравится и он согласится.
– Подожди здесь. Я узнаю сама, кто лежал сегодня под деревом, и заберу его.
Только бы мама не перепутала!
Мы угостим его хлебом, и маслом, и виноградом. А потом что будем с ним делать? Как лечить? Мама скажет как. А кто он – капитан, генерал, танкист, летчик? Хорошо, если он летчик, – я люблю летчиков. Есть ли у него ордена? Наверное, есть. Если бы он был трусом, он бы прятался и его бы не ранили. Что-то долго их нет. Неужели мама перепутала? Здорово же мы придумали взять к себе раненого, веселая пойдет жизнь! Ну и ладно, пусть я не пойду теперь в школу, надо ухаживать за раненым, не жалко. Жалко, конечно. Но раненый гораздо интереснее, чем школа.
– Мама!
Я бросился к носилкам. Взглянул – он!
– Он, мама!
Я бегал вокруг носилок, не зная, что же делать дальше.
Но все решилось просто. Подъехала машина с большим красным крестом, открылась дверца сзади, носилки всунули туда, мама крикнула: «Садись в кабину, Магди!», – и мы поехали, повезли нашего раненого, повезли к себе лечить его. Теперь он наш, и мы никому не дадим его в обиду. Все решилось просто и хорошо, а я боялся, нервничал.
Шофер был угрюмый дядька, молча крутил баранку, мне же хотелось петь, смеяться, прыгать, а он был такой важный и гордый, будто делает великое дело – крутит баранку и молчит. Я смотрел назад в белое окошечко, но ничего не мог увидеть. Мама там, все хорошо, и не надо волноваться.
А ехали мы очень медленно, как назло. Въезжали в какие-то узкие улочки, поворачивали обратно, царапали стены, на нас кричали, проклинали нас, а мы везли домой раненого: лечить его и возвращать к жизни.
И когда машина еле-еле проехала к нашему дому, выбежали все соседи. А я очень гордый выскочил из кабины, помог шоферу открыть заднюю дверцу. Люди придвинулись к нам, окружили, а мы, не обращая ни на кого внимания, торжественно понесли носилки к воротам.
– Боюсь сказать, милая Нора, неужто отец Магди? – спросила Медина.
– Нет, – ответила мама.
– Кто это, Нора?
– Раненый из госпиталя.
Мы внесли нашего раненого в комнату и уложили его. И когда вышли попрощаться с шофером, соседи уже обсуждали это событие.
– А отец Магди? Если он узнает, что в доме чужой мужчина…
– Пусть это вас не волнует, – ответила мама и побежала обратно в комнату к раненому, сказав мне: – Не заходи пока…
Что это им не понравилось, соседям? Ладно, сейчас некогда об этом думать. У нас гость, у нас раненый в доме.
Добро пожаловать в наш дом, незнакомый дядя! Поверь, тебе здесь будет неплохо, ты быстро поправишься и сможешь снова идти на войну. Только смотри потом в оба, как бы тебя опять не ранили и не убили. Я буду плакать, если тебя убьют, плакать будет и мама, и все, все, кто знал тебя, тоже будут плакать. Будет плакать и колыбель, где ты рос в детстве, мячик, которым ты играл, подбрасывал его в небо к облакам, и книжки твои будут плакать, твои сказки, и твои самые первые туфли, которые ты надел, когда научился ходить, и речка, где ты купался, и яблоня, на которую залезал, и окно твое, и паук на окне тоже заплачет, будет плакать твоя мама, она поседеет и состарится.
Прошу тебя, возвращайся с войны живым и невредимым.
А пока ты наш гость, мы с мамой сделаем все, чтобы ты в один прекрасный день мог встать, улыбнуться и сказать – все в порядке. По утрам, когда мама уйдет на работу, я буду поить тебя молоком. И, хотя это очень неприятная штука – пить молоко, но пить его надо, потому что без молока ты быстро не поправишься. И еще я буду давать тебе лекарства. Ладно, так уж и быть, самые горькие ты сможешь незаметно выбросить под кровать, но остальные надо принимать обязательно.
Хочешь, я буду рассказывать тебе интересные истории, которые мы сочинили вместе с дядей Фархадом? И когда ты уже сможешь разговаривать, когда у тебя ничего не будет болеть, посмотрим, сможешь ли ты сочинить какую-нибудь историю. Я люблю людей, которые фантазируют и сочиняют истории.
Мама тебе понравится. Ты не бойся, если она иногда будет строга. На самом деле она добрая, и, уж раз ты попал в ее руки, она тебя вылечит.
Я расскажу тебе о папе. А когда он вернется с войны, вы будете дружить с ним, играть в шахматы. У папы мало хороших друзей, и он согласится дружить с тобой, не волнуйся.
Дедушка тебе вначале может не понравиться, он покажется тебе злым-презлым. На самом деле он любит пошутить, но ни в коем случае не ругай при нем деревню – тогда все, вы враги навеки.
Потом я познакомлю тебя с моим другом Маратом. Он будет приносить тебе письма твоих родных, и, если кто-нибудь обидит тебя, будь уверен, он заступится.
Если тебе понравится у нас, понравится наш город, ты можешь приехать сюда после войны. Ты будешь приходить к нам в гости, и мы будем сидеть и вспоминать: «А помнишь, когда?.. – Конечно, помню… – А ты не забыл, как?..»
Все это я думал, дядя Эркин, в тот вечер, когда тебя привезли к нам в дом. Мама сказала, что будет делать тебе уколы, и запретила мне заходить в комнату, а ты лежал без сознания.
Мне надоело слоняться по двору, я подкрался к окну, встал на камень и чуть было не свалился, когда увидел маму, растерянную, плачущую. Она бегала по комнате со шприцем в руке, выбрасывала из тумбочки вату, бинты, флаконы с лекарствами, что-то говорила не то тебе, не то себе.
Я застучал по стеклу:
– Мама, можно я помогу?
Но она замахала руками и еще больше растерялась, забегала.
Видно, тебе было совсем плохо – машина укачала тебя, когда везла из госпиталя, и мама не знала, что делать.
Я хотел бежать на улицу, звать людей на помощь, но вместо этого ушел за виноградник и забился там в угол от страха.
И снова видел маму, куски ваты на полу, руки мамы на твоей спине и твою спину. Я зажмурился – так было страшно. Что они сделали с твоей спиной, дядя Эркин? О, эти изверги фашисты! Взяли твою гладкую, сильную спину и изуродовали ее.
Потерпи немного, мама поможет тебе, она сделает тебе хорошо. Немножко, чуть-чуть потерпи.
И мы еще посмеемся, вспоминая обо всем этом. Будем бить кулаком по твоей спине, по тому месту, где была рана, и ничего, ни капельки тебе не будет больно.
– Все!
Мама села на крыльцо и закрыла лицо руками. Я подошел к ней и осторожно дотронулся до ее плеча. Она улыбнулась сквозь слезы, сказала:
– Знаешь, мальчик, сегодня я выросла в своих глазах вот на столько, – и показала на сколько. – Как чудесно!
И, хотя я не понимал, что здесь чудесного, когда дядя Эркин так намучился, я поддержал ее:
– Не до крыши – до неба, мама, ты выросла.
Она притянула меня к себе и начала целовать и смеяться, и мы с ней стали прыгать, как сумасшедшие, и мама все повторяла:
– Чудесно, как хорошо!
Не успел я досмотреть коротенький сон о разных цветных шариках, которые лопались, едва взлетая к небу, как мама разбудила меня – ей пора на работу.
Раньше бы я капризничал, и мама бы целый час щекотала меня, чтобы окончательно разбудить, но сейчас я вскочил.
– Как дядя Эркин?
– Спит еще…
Голос у мамы был тихий и усталый, и вся она была измученная, как после болезни, похудевшая. Куда исчезла моя прежняя мама, веселая хохотунья. Встанет, бывало, рано-рано, тормошит папу, кричит:
– Посмотри хоть раз, как встает солнце, красота!
И бросается к окну встречать новый день, приветствовать солнце, капли росы на винограднике.
Где она, эта моя мама? За ночь она будто постарела. Еще бы, не спать, нервничать, все время сидеть возле дяди Эркина, поить его лекарствами и ходить по комнате и думать.
Только изредка она приходила ко мне, ложилась, не раздеваясь, на край кровати и лежала, и смотрела на тени на окне, на потолке.
– Слушай внимательно, Магди, – с казал а мама, – теперь ты должен быть взрослым и помогать мне во всём
– Да, мама.
– Как только дядя проснется, заставишь его принять лекарство в красной бумажке, а когда часы пробьют двенадцать раз – таблетки в белой бумажке. И будешь поить его молоком. А в полдень я прибегу, чтобы сделать ему укол… От тебя, малыш, зависит многое. И я верю тебе, понял?
– Да, мама. А что я должен делать сейчас?
– Ждать, пока он проснется. И дашь ему лекарство в красной бумажке… Будь умницей…
Мама ушла, а я постоял немного у двери дяди Эркина и начал ругать себя за то, что я трус и белоручка, и что я не могу открыть дверь, зайти в комнату и сесть на стул рядом с дядей Эркином и ждать, пока он проснется, и что не могу сочинить смешную историю, чтобы потом рассказать ее дяде Эркину, когда он откроет глаза.
Жил-был дядя, нет, мальчик. Этот дядя, то есть мальчик, был маленьким, а дядя большой, в два раза больше мальчика. И у него была жена и курица Ряба. И мальчик сказал жене: скажи, чтобы он поймал курицу. Курица была не простая – золотая, и мальчик гонялся за ней и наконец поймал…
Нет, жил-был Буратино. У него был дядя. Дядя был похож на Карабаса-Барабаса. У дяди была курица Ряба. Они жили на веселых, на зеленых, на Азорских островах, где, по свидетельству ученых, ходят все на головах, там жил Кашалот с тремя головами, он сам сочинял, сам исполнял и сам себе аплодировал. А курица Ряба сказала мальчику: съешь мое яйцо, не простое, а золотое. А дядя…
Он проснулся, открыл глаза, и я чуть не залез под кровать от страха. Он глядел на меня и не видел, что это я, смотрел сквозь меня – такой у него был взгляд, и у меня от его взгляда заболело все внутри.
– Здравствуйте, – сказал я. – Не бойтесь, я Магди.
А он не только не боялся, но и продолжал не видеть меня, гордый очень. Лицо его теперь было немного похоже на человеческое, и можно было разобрать, где глаза и где губы, а то все было одного цвета.
– Хорошо, – сказал я. – Не думайте, что это я хочу дать вам лекарство, мама приказала.
Ему было все равно: пить лекарство или нет. Но почему он так смотрит? Почему молчит? Может быть, ему очень плохо? И как его поить лекарством, если он ничего не понимает и не хочет открывать рот?
– Здравствуйте, – сказал я. – Здравствуйте!
И вдруг он посмотрел на меня и увидел. Он увидел меня и понял, что я сижу перед ним, и, кажется, чуть-чуть улыбнулся.
Он улыбался мне, я – ему, и мы смотрели друг на друга и улыбались. Я совсем не боялся его – удивительно, даже подмигнул ему и сказал:
– Это я, Магди. А я вас знаю. Вас зовут дядя Эркин. Вас ранили на войне, а потом мы взяли вас. В госпитале не было места. И мы вас взяли. Вам там негде было лежать и выздоравливать… Здравствуйте…
Он смотрел на меня и улыбался для приличия. И отвечал мне только тем, что чуть-чуть шевелил губами.
– Ладно, – сказал я строго, – давайте принимать лекарство. А то мы с вами заболтались тут.
И, как только он приоткрыл рот, шевеля губами, я бросил ему на язык таблетку.
– Глотайте, глотайте. Оно маленькое.
Он поворочал во рту белым, совершенно белым языком, и таблетка выкатилась на подушку.
– Не плюйтесь, пожалуйста, – сказал я, – если не хотите иметь неприятности с моей мамой.
Я снова бросил ему в рот таблетку.
– Вы глотайте. А я вам спою. Чтобы не было горько… На веселых, на зеленых, на Азорских островах, по свидетельству ученых, ходят все на головах – тах-тах-тах!
И пока он слушал меня, раскрыв рот, таблетка растаяла у него на языке, потекла внутрь – туда, куда положено.
– Вот и все, – сказал я. – И, если вы всегда будете послушным, мы подружимся с вами…
И тут часы пробили двенадцать раз – надо снова впихивать таблетку. Ох, как тяжело!
А потом прибежала мама. И прогнала меня, и начала осматривать дядю Эркина, и проверять, все ли таблетки я впихнул в него, а затем вышла во двор с ведром, полным красной жуткой ваты и бинтов и разных ампул, и, грустная, молчаливая, отнесла все это в мусорный ящик.
– Как он вел себя? – спросила она.
– Он меня слушался во всем! И не отказывался от лекарства. Мама, он там стонет!
– Слышу. Сейчас перестанет.
Дядя стонал очень жалобно, как маленькая собачонка, которую бросили одну. Мама пошла к нему. Дядя Эркин вскоре затих, и мне было интересно посмотреть, как же мама делает ему легко, но она меня не впускала к нему.
А когда мама снова ушла в госпиталь, я зашел к дяде и увидел, что он спит. Заснул дядя… Спал он как-то сердито, будто все время видел один и тот же сон про войну, про то, как в него стреляли и хотели убить и как он падает и уже не помнит ничего, ничего не видит и не слышит – потерялся.
И тут пришел ты, Марат.
– Я слышал, что у вас раненый?
– Откуда? Кто тебе сказал?
– Соседка ваша. Это правда?
– А как она сказала?
– Да никак!
– Скажи. Я же вижу по твоим глазам…
– Я отругал ее, не волнуйся. Мерзавка сказала: не успел уехать отец Магди, как мать его привела к себе другого мужчину.
– А что здесь плохого?
– Ничего плохого… Можно посмотреть на него? – попросил ты.
– Только краешком глаза, хорошо? Он спит.
Ты, чего-то боясь, просунул голову в дверь, увидел его, поглядел, поглядел и шепнул:
– Он кто, сержант?
Я не знал, сержант лучше, чем простой солдат, или нет, но на всякий случай сказал:
– Кажется, он генерал. Молоко не пьет, лекарства не принимает, капризничает.
Когда мы вышли во двор, ты спросил:
– Наверное, теперь ты не будешь дружить со мной?
– Что ты! Я буду дружить и с генералом и с тобой.
– Ты ведь знаешь меня раньше, чем генерала, на целых десять дней.
– Конечно. Притом с генералом надо много возиться. И не знаю, можно ли дружить с ним по-настоящему. И говорить ему правду в глаза… Если бы ты зная, как я сегодня спасая генерала! У него были припадки, он кричал и бил посуду, а я ему дал такое лекарство, что он сразу пришел в себя и целый час благодарил меня. И сказал, что даст мне орден, когда выздоровеет…
– Магди, – прервал ты меня, – можешь помочь мне?
– Могу, – сказал я растерянно.
– Вот видишь, – и ты вынул из сумки бумажки, много черных, жутких, противных бумажек. – Видишь, их сколько?.. Одну из них нужно отнести Лейле-апе, а я не могу. Она мне как мать. Делает мне все. Это о Хакиме, о дяде Хакиме, ее сыне.
– Его убили?
– Да.
– Я попробую. Сделаю, Марат… Только сейчас жарко на улице…
– Сейчас, Магди. Я не могу носить с собой его черную бумажку. Сейчас, пока генерал спит.
– Ладно, – сказал я, – как хочешь… Только ты смотри, чтобы генерал не проснулся.
И я пошел. Сжимая в руке черную бумажку дяди Хакима, сильного и большого дяди Хакима, который ушел и вернулся домой, став черной, злой бумажкой. И Лейла-апа будет плакать и рыдать, ей будет очень, очень плохо, и она будет звать сына, дядю Хакима, просить, чтобы он вернулся – оттуда, из лесов, и будет думать, что это она, мать, так обидела своего сына, что он ушел от нее навсегда… Нет, нет, это шутка, все это злая шутка, не может быть, чтобы дядя Хаким не вернулся к своей маме, ведь он так любил ее!
С минуту я постоял у ворот ее дома, потом открыл их, сделал шаг, второй, прошел по темному коридору и, увидев во дворе, под виноградником, Лейлу-апу, покраснел, будто без спросу залез в чужой дом.
– Чего тебе, Магди? – спросила она.
– Я…
– Ничего не слышу. Сейчас я достану вот эту большую кисть и слезу к тебе… Это я Хакиму, сыну… Он пишет, что скучает по винограду, мой мальчик…
Да, да, я так и думал! Дядя Хаким жив. Мать собирает для него виноград. Сын ее обрадуется, он так соскучился по винограду…
– Мой Хаким так любит виноград, – сказала мать, – в детстве, когда он был таким, как ты, Магди, он целыми днями сидел в винограднике и ел, ел, а я, дурная, кричала, гнала его, боялась, что живот его лопнет…
Да, конечно, он сидел в винограднике и сейчас сидит и вспоминает и ждет виноград матери… Нет, он жив, дядя Хаким!..
– Марат! – закричал я. – Он жив, это ложь. Я сам видел. Мать собирает для него виноград!
– О чем ты говоришь, Магди?
– На! На! На! – разорвал я черную бумажку, бросил и начал топтать ногами и кричать: – Он жив, дядя Хаким! Не смей! Не смей!
Три ночи подряд мама не выходила из комнаты раненого, три ночи подряд за стеной были слышны ее тревожные шаги и стоны дяди Эркина. Часто дом замирал совсем, не шелестели даже листья виноградника – дядя терял сознание. Три дня и три ночи подряд мама выносила из комнаты раненого полное ведро жуткой ваты и бинтов.
Ни о чем другом мы не говорили, кроме как о раненом. Ложились спать и просыпались с мыслями о нем. Как ему? Что с ним? И только по глазам мамы я видел, как плохо дяде Эркину и как трудно ей. Утром чуть свет она бежит в госпиталь, в полдень опять домой – перевязка, уколы, а вечером снова тревоги, волнения. И мама совсем не жаловалась, а наоборот – старалась делать так, будто все хорошо и нечего опасаться. Я совсем не знал, что мама моя может быть такой выносливой и самостоятельной, не подозревал, что она такая сильная без тебя, отец. А мы-то с тобой боялись, что будет с ней, когда ты уедешь на войну!
И тут еще мы получили от тебя, отец, хорошее, смешное письмо и совсем воспрянули духом. Мы несколько раз перечитали с мамой твое письмо, потом на следующий день Марат прочитал мне еще два раза, и я запомнил все слова письма.
И я представил, как вас привезли наконец к месту где должна была быть война. А там войны вовсе и нет, кругом лес, большие, толстые деревья, и ничего не видно в двух шагах. И ты ходишь, и удивляешься, и не поймешь ничего, потому что впервые видишь лес. Радуешься, залезаешь на деревья, собираешь шишки и, как говорит мама, совсем не думаешь о нас в эти минуты.
А потом командир кричит: «Стройся!», – и ты, как белка, сползаешь с дерева. «Направо, налево!» И тебе здорово достается от командира, – ты плохо понимаешь по-русски, путаешь, все идут направо, только ты один налево – смешно!
Затем командир заставляет тебя лечь, ползать между деревьями. У всех это получается хорошо и нормально, только ты один, как назло, застреваешь между двумя соснами и не можешь ни вперед, ни назад, кричишь: «Братцы, помогите мне, не оставляйте, медведи съедят!» Бедный папа… Солдаты тянут тебя за ноги, вытаскивают, а командир влепляет тебе выговор за неуклюжесть. Ну и смешной же ты, отец, на войне, прямо как храбрый Клыч-батыр из сказки.
Ничего, только пиши нам почаще с войны такие веселые письма. И пусть все ходят хмурые и убивают, а ты не падай духом…
Мама сказала, что, пока шло твое письмо, у тебя закончились учения и тебя отправили воевать по-настоящему. Желаю тебе быть хорошим солдатом, храбрым, веселым, и тогда, я уверен, тебя никогда не смогут убить…
6
Как хорошо! Сегодня дядя Эркин сказал наконец первое слово. Проснулся, поглядел на нас с мамой и сказал: «Ситора». Мы вскочили со стульев и начали ждать, что он скажет еще, но дядя молчал, словно говоря – хватит с меня сегодня. Уставился на нас, чуть застенчиво улыбаясь, и смотрел то на маму, то на меня, на комнату, на стену и на часы, на окно.
Маме надо было бежать в госпиталь, и она быстро перевернула его на бок и, в честь того, что дядя заговорил, влепила ему укол большущей иглой.
– Что это, мама, Ситора? – спросил я, провожая ее к воротам.








