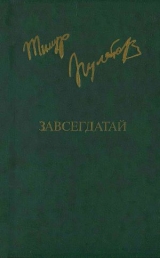
Текст книги "Завсегдатай"
Автор книги: Тимур Пулатов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 33 страниц)
В сумерках же, когда саранча поет песню любви и когда коршуну особенно приятно слушать ее, звуки песни такие сладостные, что сразу усыпляют. А если еще саранче подпевает сверчок и кузнечик – трио самых прекрасных певцов пустыни, – коршун чувствует, как выздоравливает, как уходит из его тела лихорадка и беспокойство перед длинной и темной ночью
Ведь коршун ощущает силу и жизнь в себе только на охоте, ночью же, когда естество и природа вынуждают его смириться, загоняют в гнездо, прячут, он складывает крылья, опускает в беспомощности клюв, кажущийся теперь таким слабым и немощным, что хищник чувствует беспокойство, ненависть к ночи, а эта тройка певцов умиротворяет его, примиряет со страхом отвагу, молодость и силу со старостью, а последний аккорд их мелодии, самый грустный и возвышенный, мирит уже саму жизнь со смертью.
Видел коршун, как крылатая мышь слабеет и замедляет полет, может случиться, что она неожиданно упадет, вздрогнет в судороге на песке, сложив в последний раз, уже ничего не чувствуя, в беспамятстве крылья, такие плотные и соблазнительные на вкус, и превратится в труп.
Коршун уже давно думал об этом и боялся, как бы беркут, который в любую минуту может нагнать его, возвращаясь после облета своей территории, не схватил на лету крылатую мышь… Может, и ему, как и коршуну, попадались такие странные особи, ведь территория его наверняка тянется к тем далеким го рам с пещерами.
Хотя коршун с удовольствием поклюет и труп крылатой мыши, но все же нет большего удовольствия для хищника и наслаждения, когда чувствует он на языке еще горячую кровь, – такое ощущение, словно он отважно потрудился, славно провел охоту, выследил, догнал и изловил жертву, рискуя каждую минуту потерять ее из виду.
Коршун решил больше не медлить, нежность к этому ушастому существу, такому странному и богатому, богатому способностью создавать из одних только звуков картины немыслимой сложности и выразительности, разлилась по его телу, и, захлебываясь от восторга, хищник ринулся вниз и, коснувшись хвостом песка, но не позволив крылатой гостье упасть, схватил ее на лету и унес в высоты…
Когда он спускался, звуки, что ловила летучая мышь, усиливались, поднимаясь к нему навстречу волнами, у самого тела мыши звуки эти даже оглушили коршуна, и с этой минуты он уже больше ничего не слышал.
Мертвенная тишина разлилась над песками. И теперь, когда коршун, отяжелев, летел дальше к своей скале, переваривая на лету пищу, он не слышал даже шороха собственных крыльев. Он попытался пощелкать клювом, но и клюв был как ватный, без звука.
Птицу стошнило, не почувствовала она удовольствия, как в тот первый раз, когда полакомилась крылатой мышью. Может быть, оттого, что организм ее, привыкший в этот день к воздержанию, обманутый, не хотел ничего принимать, но ведь пища не могла лежать внутри нетронутой, и вот тот месячный яд, что должен был выйти из птицы, вызывал теперь тошноту.
Вдруг кто-то сильным клювом ударил коршуна по голове и сразу же по шее и еще толкнул когтями в грудь; хищник застонал от неожиданности, вывернулся наконец от ударов и увидел, как другой коршун атакует его. Коршун наш собрался, чтобы защититься, но напавший не дал ему развернуть крылья, отлететь, чтобы иметь пространство для боя, и еще раз налетел, ударил в шею, в затылок, а один острый и жгучий удар попал чуть выше глаза, замутнив его.
Так отчаянно и метко мог драться лишь коршун, неприкосновенность территории которого оказалась нарушенной, и коршун наш, поняв это, не стал сопротивляться и показал противнику опущенный стыдливо хвост, признавая свою вину. И выпрямился, чтобы полететь направо, на свою территорию, и нападавший коршун молча проводил его до границы.
Увидел бы сейчас знакомый беркут нашего коршуна, он бы удивился такой перемене – вид у хищника был жалкий, перья на крыльях скомканы и еще не выпрямились в полете, а из глаза мимо переносицы к клюву текла кровь, свертываясь у дырочек носа. Во всем его облике чувствовалась вина. Такой птица давно не летала над пустыней.
Удары коршуна, на чью территорию он случайно попал, кажется, вывели его из оцепенения, вернули слух, и сейчас он снова слышал звуки собственных крыльев. Как тяжело разрезают они воздух, словно полет сделался чуждым для него движением и тяготил его непонятностью и бессмысленностью.
Да, кажется, только сейчас почувствовал коршун, как постарел всем своим существом, каждым негибким теперь мускулом. Ведь до того, как встревоженный собрат напал на него, коршун сам заводил драки, готовился к ним, накапливая в себе силы воспоминаниями о прошлых успехах, желанием побороть старость.
Сейчас же, когда он совсем не ожидал нападения и был сильно избит и поранен, коршун вдруг ощутил всю немощь старости и прожитых лет. И родилось это горькое чувство, когда коршун не смог увернуться от удара, и была тут еще вина за ошибку, когда залетел он на чужую территорию, и еще стыд после ухода, и сожаление, что кого-то потревожил, словом, все оттенки настроения, из которых собирается птичья мудрость. Мудрость – как запоздалое откровение, как предел, после которого коршун уже не может брать у жизни отвагой и силой, ибо мудрость ослабляет и глушит желания.
Прислушиваясь к звукам, коршун услышал приближение сумерек – серо-желтой полосы между днем и ночью – и понял, что не добраться ему теперь до темноты к своей скале.
Уже тени стали выползать из зарослей и россыпей камней, вытянулись они у подножия барханов, кустиков и веток, повеяло в воздухе слабыми всплесками прохлады, но зной не ослабевал, чтобы продержаться до полных сумерек. Тени эти расползутся потом по песку, и из них образуется кругом ночь, ровная и плотная, ведь в эту ночь не будет на небосклоне светила.
Коршун вздрогнул, когда услышал над собой шум крыльев, и догадался, что это беркут возвращается обратно.
С высоты беркут глянул на округлые бока коршуна и, поняв, что и тот не удержался от соблазна и полакомился тайком, блеснул, довольный, глазами и полетел дальше. Не он один, оказывается, нарушил запрет, и эта злорадная мысль должна теперь успокоить эмира хищников, чтобы не мучился он и не стонал перед сном.
Не успел, однако, беркут исчезнуть в глубинах воздуха, как коршун увидел, что внизу уже стелется ночь и, если не спустится он на пески, ночь захватит его в полете и собьет с пути. Кружась, он спустился вниз и сел где-то на темной поляне, тяжело дыша теплой вечерней росой. Посмотрел по сторонам. Куда идти? Где скала и гнездо?
Чутьем понимал он, что где-то по прямой и совсем близко. Но на пути встретятся барханы и заросли, их надо обходить, и можно тогда заблудиться и снова попасть на чужую территорию, где хозяин опять придет в ярость, начнет атаковать, поранит, а раненого коршуна легко может прикончить варан сильным ударом хвоста. И тогда все…
Коршуну стало жаль себя, одинокого среди ночи, где за каждым кустом таится опасность.
Но он все же решил идти, ибо вдвойне опасно оставаться до утра среди песков, где скоро совы выйдут на охоту за змеями и сусликами и могут принять его за жадную, ненасытную птицу, пожелавшую отнять у них добычу. Коршун пошел сквозь заросли, и ветки саксаула царапали его усталое тело, но он не обходил их, чтобы идти по прямой к скале.
Вдруг кто-то выскочил из зарослей, прямо из-под когтей коршуна. Хищник остановился, пригляделся и узнал того самого суслика, что жил недалеко от скалы и которым коршун не раз хотел полакомиться.
Суслик вскарабкался на холмик, огляделся и увидел, как коршун выходит из зарослей, и тоже узнал его, соседа. Разглядев, как хищник измучен и растерян, суслик понял, что потерял коршун дорогу к дому и что такой он совсем не опасен. Суслик важно зашагал впереди на задних лапах, передние сложив на животе – в своей всегдашней самодовольной позе, – и коршун запрыгал за ним, чувствуя, что суслик направился к скале.
Так шли они, деликатные, и коршун не приближался к суслику, пока неожиданно перед взором его не возникла знакомая поляна. Коршун забылся и на радостях прибавил шаг, и суслик, не поняв его, нырнул в свою нору и посвистел оттуда, укоряя коршуна за хитрость и вероломство.
Коршун хотел было дать как-то понять соседу, что побежал он к скале безо всякого злого умысла, но решил, что ему, сильному, унизительно оправдываться.
Скала слилась с плотной темнотой и лишь слабо белела от внутреннего своего света.
Коршун взлетел на нее, постоял, чувствуя привычное тепло гранита, запах мха, птичьих перьев – скромного знакомого мира, который был его домом. Затем полез в трещину на шапке столба и стал спускаться вниз мимо гнезд, где уже укладывались на ночлег другие птицы.
Весенний выводок, два маленьких его коршуна, приветствовали его полусонным ворчанием, он ответил свистом, слабым и успокаивающим.
Еще один поворот, и увидел коршун в расселине ту, к которой торопился, последнюю свою самку, еще совсем не старую, заботливую и добрую.
Она не спала, видно, дожидалась его возвращения. Выглянула и захлопала на него глазами, влажными от зевоты. И, увидев, что он жив, она, ничего не требуя – ни ласки, ни внимания, – приготовилась уснуть в одиночестве в своем неуютном гнезде, но коршун не уходил, стоял и смотрел на нее. Потом он нахохлился и хлопнул два раза крыльями над головой.
Это был жест примирения, зов, и, пережив волнение от столь неожиданного для нее сигнала, самка вышла из гнезда и запрыгала за коршуном…
Сова, что жила по соседству с гнездом коршуна и обычно заглядывала к нему, чтобы убедиться, что коршун уступил ночную свою территорию ей, увидев, что хищник сидит в своей расселине с самкой, долго смотрела на них немигающими глазами.
Казалось, она осуждает коршуна за малодушие, за страх перед старостью, за то, что не устоял он и привел к себе самку, но ведь сова еще многого не чувствовала, не понимала, и короткий, прожитый ею отрезок времени отсчитывался другими днями и ночами, чем у коршуна.
Коршун проводил ее усталым взглядом, и вдруг напряжение отпустило его, сняло горечь, когда уткнулся он клювом в сонное тело самки, пришло разом умиротворение, что примирило его с жизнью и вновь заставило почувствовать ее полным дыханием…
1974
Впечатлительный Алишо
1
Это частное жизнеописание начнем мы не в духе восточного повествования – с рассказа о чайном ритуале, в который посвящается Алишо, или же о детском приобщении к фиолетовому туту, тоже похожему на ритуал, – все это исполнено изящества и красоты! – а с переживаний актера и скажем, что наваждение, столь часто ощущаемое им ранее, потеряло остроту, не вызывало более беспокойства и удивления, а стало мало-помалу глубокой сущностью Алишо. Видя себя таким, он перенес это свое видение и на окружающих, в сознании его появилась еще одна личная тема…
Но сегодня вдруг его чувствительное «я» вновь заставило Алишо посмотреть на себя со стороны и пережить тревожное волнение от собственной искаженности, – вот Алишо идет и кажется сам себе нелепым и смешным, такое ощущение, будто в спешке бегства схватил он в гардеробе киностудии и надел чужое пальто, и оно сидит на нем не так, – серое в полоску, с потертыми рукавами, – и эта шляпа, касающаяся полями бровей, приглушенно-зеленого цвета, никак не гармонирующая с его одеждой, и обувь как будто не его, размера на три больше, шаркающая, с изогнутыми кверху носками, – ужасно комичный портрет! И лицо, помятое бессонницей, взгляд не спокойный и мягкий, а суетливый, зрачки расширены… Кажется, стоит остановиться, чтобы успокоиться, взять себя в руки – он мнит себя выше остальных, – и прохожие деликатно и неназойливо поднимутся на носки, чтобы заглянуть ему в глаза и, довольные тем, что узнали тайну актера, уйдут, переговариваясь, ибо тайна Алишо сделает их всех знакомыми друг другу, сотоварищами.
Эта игра воображения, глубокая и острая, обманывала и зрение, когда казалось Алишо, что прохожие не прочь подойти к нему, остановившемуся у какого-нибудь дерева, поодиночке, терпеливо; искажалось и обоняние, когда чудился ему запах чужого пальто, идущий за ним серым шлейфом, плотным и не рассасывающимся; стоило ему обернуться, как конец шлейфа поднимался сам собой, чтобы ударить ему в нос, – так воображение становилось сильнее реальности, а реальность окружающего, присутствующие запахи и точный портрет Алишо, шагающего в своей одежде, складно на нем сидящей, – все это блекло, уходя в состояние призрачного.
Игра фантазии длилась обычно до самого дома и остротой своей и необычностью намекала Алишо на какое-то его непристойное существование, на неприятность быть узнанным вот таким нелепым; и тогда, чтобы не быть разгаданным окружающими – ведь как актер он очень дорожил своей внешностью, – приходилось ему дерзить, точнее, играть… Знакомого он встречал неестественным смехом, неуклюже обнимал, чрезмерно веселый в своем притворстве, пошловато шутил с проходящими женщинами, лепетал что-то насчет свиданий, знакомые тоже старались войти в роль; а когда Алишо возвращался домой, долго и тщательно мылся в ванной комнате, укорял себя, не желая выходить к жене: «Боже, как все было пошло!» И, глядя в зеркало, гримасничая, думал, как бы ему незаметно перенести телефон в ванную, чтобы позвонить женщине, согласившейся на свидание, извиниться, оправдаться длинным монологом.
Это оправдание входило в тот ритуал очищения-мытья, стрижки усов, который всякий раз совершался в ванной комнате после внезапного наваждения на улице, и лишь тогда искаженный портрет Алишо снова принимал свои обычные черты – черты человека, чуточку скучноватого и надоевшего самому себе.
Телефон ему почти никогда не удавалось пронести незаметно в ванную комнату, оправдания перед незнакомой женщиной, написавшей свой номер на клочке бумаги и так легко согласившейся на свидание, не было, и Алишо долго жил со скверным осадком на душе, хотя чуточку самонадеянно думал, что та женщина после стольких дней все еще ждет его звонка.
В такие часы – внезапное бегство в ванную комнату, долгое и медленное мытье рук и желание как-то избавиться от неприятного ощущения своего шутовства на улице – он пускал струю из душа, чтобы был слышен шум и плеск воды и Мариам, его жена, подумала, что решил он принять ванну, заметив на волосах следы небрежного грима – красноватой пудры с резким запахом одеколона.
Вода наполняла ванну, но Алишо все стоял перед зеркалом с напряженным лицом, стараясь по словам, фразам, услышанным или сказанным им, по запаху того места, где он был, по свету на холодных, потных декорациях собрать вместе картину, предшествовавшую тому любопытному состоянию на улице…
Все обычно начиналось с пробуждения на широкой кровати, обитой красным, с низкой спинкой у изголовья – на конце ее приделан небольшой столик для лампы. Теперь уже, с возрастом, это частая и долгая борьба с легкой меланхолией и ленью, нежеланием смотреть на телефон, который должен непременно зазвонить, – голос, удивительно сочетающий в себе вкрадчивость и нетерпение, – голос какого-нибудь помощника режиссера, – так некстати врывающийся в его комнату, разгоняющий утреннюю дымку интимного, сокровенного, собранного за ночь в спальне дыханием, теплотой одеяла, предсонными грезами и сновидениями…
Особенно желанны эти предсонные ощущения – кажется, они согревают все, до и после сна и сам долгий сон, снимая тоску и освобождая от напряжения и усталости. В голове легкий хмель, в носу запах тепла постели, а лень, которой Алишо отдавался полностью, как бы наполняла эти грезы плотью.
Задолго до сна он оставлял Мариам одну в ее спальне, курил, прежде чем лечь и в своем воображении снова вызвать Мариам, но не эту, другую, которую он никогда не знал, но видел на большой фотографии в раме в доме ее родителей, очень давно, и с тех пор он любил Мариам, никогда не виданную им, с доверчивым взглядом, девушку лет шестнадцати, полную ожидания и радости от будущей неведомой ей жизни…
Ведь женщина, что спала сейчас в своей одинокой спальне, была Мариам, которой он не принес счастья, и это, как укор, легло своим знаком на все ее существо и омрачало, искажало сознание Алишо; та же, которую он увидел на большой фотографии, приходила к нему в грезы с доверием и ожиданием, потому и была желанной, как будто этой он мог бы дать счастье, если бы она хотела. Но Мариам, что появлялась в его воображении, была тем и хороша, что счастья не требовала, оставалась всегда молодой и доверчивой…
Прижавшись к ней, Алишо засыпал, довольный этим, не очень-то равным супружеством, ибо Мариам, приходящая к нему, была лет на двадцать моложе.
Странно, воображаемую Мариам он почти никогда не видел в своих сновидениях, даже капризную, могущую ранить своими укорами, – грезы эти не продолжались со сне, видимо, оттого, что в соседней комнате спала действительная Мариам во плоти, женщина одного с ним возраста, и ревнивый дух ее, должно быть, изгонял молодую Мариам из кровати мужа, едва тот засыпал, умиротворенный ее доверчивостью.
Но реальная Мариам из соседней спальни была бы, наверное, довольна тем, что в фантазии мужа приходила она сама, а не чужая женщина, она, хотя и в прошлом, несколько иная, еще с надеждой в душе… Но Алишо был скрытен и очень оберегал свои грезы, может, и потому, что нередко мучила его ревность, обида, если думал он, что шестнадцатилетняя Мариам, еще не знавшая его, могла бы полюбить другого – но кого, кого? Он вспоминал всех из ее окружения и не находил ни одного достойного мужчины, но ведь это и страшно, она могла ошибиться, доверчивая, желающая радости, и тогда нередко эту свою ревность и обиду Алишо переносил на Мариам, ставшую его женой, – одна мысль, что она могла бы предпочесть его другому, менее достойному, злила его.
Воображаемая Мариам не приходила в его сон в своей плоти, наверное, еще и потому, что утром, едва Алишо просыпался, боясь телефонного звонка, бежал в спальню к жене, как будто могла она еще продолжить его грезы. Сны щадили его, не желая тревожить столь длинной искаженностью реального, – ведь Мариам, пришедшая в его сновидения из грез, и та, подлинная, которую он видел по утрам, почти не отличались бы тогда друг от друга, обе со знаком укора.
Он сбрасывал с себя одеяло и бежал по коридору мимо детской и забирался под ее одеяло, пахнущее совсем по-иному, запахом чего-то тревожного, некой неестественной игры, дающее ощущение дня с его мелкими заботами – при всем воображении нельзя себя обмануть, притвориться, как нельзя насладиться притворством того состояния, за которым последуют слова: «Ну, пора вставать!»
Они просыпались почти одновременно, довольно поздно, в девятом часу (летом чуть раньше), но Мариам продолжала лежать в постели, нежиться и потягиваться, ибо также отодвигала время утренних забот на кухне.
Когда он приходил к ней неестественно бодрый, с ужимками и смешком, желая своим серьезным намерениям придать шутливую окраску, иронический подтекст, Мариам отворачивалась от него, тоже шутливо, играючи, чтобы не смотрел он на ее белое, опухшее от сна лицо и растрепанные волосы, так естественные ночью и так уродующие утром.
Они говорили две-три фразы, ничего не значащие, не обязательные, как правило, как супружеский кодекс утра, и слова эти полностью рассеивали его желание, его жажду поймать то тонкое, еле уловимое ощущение, которое помогло бы продолжить грезы. Он смотрел на ее плечи в красных отпечатках одеяла, на ее шею, сравнивал с Мариам, которую видел в своем воображении, но все это было в искажении, далеким от оригинала, разве что только голос. Он был нежен и игрив, единственное, что еще могут как-то обыграть женщины ее возраста, надеющиеся уже больше не на свой вид, который вот весь тут, перед глазами, осязаем, грубо ощупываем, а на звуки, мелодию голоса, обманывающие ухо.
Но ведь он никогда не слышал голоса той, шестнадцатилетней Мариам, не мог сравнить с голосом жены, и нелепо поэтому оценивать этот звук, ласкающий и обещающий удовольствие.
Теперь, после утренних приветствий, Алишо понимал, что эта реальность начавшегося дня помогла ему ощутить нечто другое, полное противоположности его первому ощущению в момент прихода в спальню жены – не является ли та из грез копией этой, а оригинал вот он, эта женщина? Эта быстрая смена ощущений приходила от сознания того, что наступила другая жизнь, жизнь дня, а ее надо признать, покориться – ведь ее ценности истинные, человеческие, совсем иные, чем ценности ночных фантазий; трудно сводить их, они разные и несравнимые, и в каждый момент принимаешь то, что ощущаешь истинным.
Тоска была недолгой, лишь на границе иллюзорного и реального, и, видя, как он ежится от неудовольствия, Мариам предупредительно гладила его волосы, чтобы «поставить его на землю».
Страдала ли она сама от этих частых его перемен мнимого на подлинное? Наверное, да. Он чувствовал это по движениям ее рук; в раздвоенности, правда короткой, пока утихнет боль от разочарования, от смены грез, она особенно сильно ощущала в нем человека взрослого, но с мальчишеским характером, и только такой он был еще способен на дерзкие замыслы. Из чувства дерзости и противоречия он мог бы сделать себе славу как актер…
Но с возрастом успокаивался, стал лучше, человечнее, ибо избавлялся от тщеславия, но и таким он не совсем удовлетворял ее. Кажется, она больше хотела видеть его тем, дерзким, не благопорядочным, ровным и человечным, ибо в ней, при всей ее пассивности, рыхлости характера, сидел глубоко демон (не тот ли, который приходит к нему в грезы?!), а он желал искушать, звал к честолюбию, зато потом, когда Мариам видела его неудачи, это ее удовлетворяло, но не потому, что она мстила Алишо, нет, просто такой, ей думалось, он свыкнется с этой действительной Мариам.
Так приходящая в грезы Алишо в облике шестнадцатилетней Мариам боролась против него в паре с реальной Мариам, и обе они помогали друг другу, в большом согласии и так ловко, что он и не подозревал об их союзе; они же и не намекали ему на этот союз, ибо знали, что в его восприятии их раздельно – в мечтах и наяву – и есть их сила.
Правда, теперь он опять что-то решил для себя честолюбивое, когда сказал недавно, что этот наступивший год – Год Зайца, под знаком которого он родился, «мой год» – повторил он несколько раз и так многозначительно, что Мариам покоробило – не задумал ли он прожить «свой год» по-новому? Потом, видимо испугавшись чего-то, он пояснил, что это будет год нравственный, и, хотя он не договаривал до конца, Мариам подумала, что проснулась в нем его всегдашняя ревность.
Но в чем мог он ее подозревать, эту истинно домашнюю женщину, родившую ему поздних детей и все время подавляющую в себе всякое искушение? Это-то и ужасно, думал он, подавление и мелкая борьба, ибо, при всей ее доброте, он ощущал в ней ожесточенность от этой борьбы, и не может ли случиться так, что, оставив его с той, шестнадцатилетней, Мариам изменит ему, ибо эта длительная пристойность, становившаяся приторной и рыхлой, потеряет свою прочность от любования, лелеяния, и останется один лишь умственный запрет, перечеркнуть его не стоит большого усилия.
«Черт знает что!» – думал Алишо, чувствуя, что тревожится. Но если очистить его сознание от этой дури, с чем он останется и как будет воспринимать потом Мариам? – ведь мысль о ее возможной измене уже сама по себе драматична – для Алишо Мариам и существует как личность только в этой драматической окраске, а без нее она будет ровной, холодной, постылой женщиной.
«Ну, пора вставать», сказанное после долгого молчания, окончательно мирило Алишо с утром, и он первым шел в ванную комнату, а Мариам еще немного лежала в постели до пробуждения детей.
Теперь уже короткий взгляд на себя в зеркало (основной актерский туалет для бодрой внешности лишь по вечерам) – тоже способ щадить себя, не замечать вздутости вокруг глаз и не думать о приближающейся актерской старости, а постоянное: «Да, уже не то, не то», вылетающее всякий раз из уст, наверное для того, чтобы найти оправдание невезениям на студии.
Затем – напряжение, переходящее в ироническое кривляние, ибо уже зазвенел телефон. Говорит Мариам, и разговор ее с помощником режиссера, он уверен, короткий и сдержанный, никто из студии не подумает пококетничать, соблазнить, прошептать пошлое в трубку, ибо актерские жены, если они не актрисы, не во вкусе этих пошляков, кажется им, что они скучны, не искушены в любви – вздыхают о них такие же скучные инженеры и учителя.
«Да, я слышал, – говорит он, открывая дверь ванной комнаты, – да, да, надо торопиться. Послали автобус? Очень хорошо». И замолкает, чтобы не дать волю просыпающейся истерике: минут через пятнадцать у подъезда будет стоять автобус, пыльный, с поломанными сиденьями, который станет потом кружить по каким-то улицам и собирать актеров; для них встреча друг с другом в автобусе украсится неестественным для этой духоты, пыли и давки теплым восторгом приглашенных на ничтожные роли, а то и просто на реплики, которые кажутся бессмысленными. Один только режиссер и двое-трое из его окружения до того серьезны и каждый жест их так значителен, что обида от своих ничтожных ролей сразу забывается, а чувство униженности от этих двух-трех выговариваемых реплик сменяется чувством собственного достоинства, которое всегда так красит творчество.
Эта серьезность уже и сюда проникает, в ванную комнату, и, чтобы как-то смягчить ее до срока, хотя бы до выхода из дома, чтобы не так пугала, Алишо, бреясь, почти всегда иронически противопоставляет мнимой серьезности того, к чему его приглашают, – веселость, напевает куплет из детского фильма, который он дублировал, о плутах, что явились в город и нарушили покой[4].
Король из атласа имел, говорят,
Для каждого часа особый наряд,
На пьесах веселых он часто зевал,
В штанах и камзолах зато понимал…
Все, что ни делалось на студии, казалось фальшивым, ведь не зря же слышится со всех сторон, чаще от режиссера: «Нет, это несерьезно!», «Так не бывает, несерьезно!» – как будто тот, кто делает все эти занятия значительными и правдивыми, сам давно разуверился во всем.
Привлеченные сюда песенкой, уже стоят в очереди возле ванной комнаты его дети в ярких своих пижамах; их отдохнувшие за ночь лица в нетерпении обращены на дверь, но укор в их глазах смягчался выражением той непосредственности, которая живет еще в существах, радующихся утру, своим играм и прогулкам, и это ощущение невинности, идущее от детей, рождает у Алишо желание поцеловать их, как если бы он прикасался сейчас к своему детству.
Желание остановиться, заговорить, вместо этих всегдашних легких и торопливых жестов, похожих на отмахивание, часто мучило Алишо, душа его чувствовала не просто короткую и быстро исчезающую вину, в сознании Алишо появилась устойчивая тема – тема «плохого отца».
Все эти игрушки, подарки – зыбкие знаки внимания; две крайности в отношениях с детьми – сдержанность, неумение сойтись с ними по-настоящему, так, чтобы было хорошо, и эта щедрая расточительность в подарках, в детских книгах, пластинках, – все больше похоже на пустую трату чувств, чем на постоянное, терпеливое воспитание.
Вся причина в том, что они – «поздние дети», считал Алишо, и это свое объяснение, вовсе не обязательное для других отцов и детей, но удовлетворительное в его случае, он считал тем более уместным и успокоительным, что было оно как бы глубоко личным объяснением для родителей, у которых такая разница в возрасте с их детьми (старшей дочери – шесть, младшей – четыре года), для людей, уже в чем-то разочарованных, усталых, со своими хроническими недугами (у обоих, кроме прочих болезней, пошаливает давно сердце, оба подвержены депрессии). И не оттого ли столь частая раздражительность, отмалчивание или ответы невнятные, скороговоркой на детскую любознательность – желание узнать, прочувствовать, потрогать, сделать, удовлетвориться. Но в ответ лишь слегка прикрытая улыбкой или кивком усталость, и нет между детьми и родителями душевного прикосновения; через дымку этой отдаленности любознательные глаза детей различают все, чувствуют холодок, – так и хочется поскорее закрыть чем-нибудь приоткрывшееся лицо подлинных отношений, – и не от этого ли – погоня за модной одеждой для них, чтобы сократить, затушевать отдаленность, за самыми интересными игрушками, за известными педагогами по музыке, за книгами, которые редко достаются другим детям, отсюда эта «книжность» воспитания, которая должна заменить собой теплоту и человечность, подмена себя каким-нибудь доктором Споком и мадам Фредерик, привлекающими таким сжатым, таким ускоренным воспитанием, – все это сродни любимому отцовскому жесту – легкому поглаживанию по голове детей, ждущих его у ванной комнаты.
Как продолжение их трудных детских вопросов воспринимает Алишо эти всегдашние и оттого ставшие сами как ответ вопросы актеров, сдержанно и чуть стыдливо появляющихся в дверях автобуса и поспешно усаживающихся на свои «законные» места: «Что будем играть?», «Кого выставлять напоказ?» – себя, свою неуклюжесть, ненатуральность в глазах режиссера.
В эти часы в автобусе утренняя тема Алишо – тема «плохого отца» – полностью занимает его, ибо вдруг он сам внутренне эмоционально опускается до возраста своих «поздних детей», чувствуя себя и сидящих с их вопросами: «Что будем играть?» – хлопающую ладонь или ногу, наступившую на окурок: «Кого? кого?» – детьми, дающими самим себе невразумительный ответ.
Но порой все это кажется лишь домыслом, лишь капризом расстроенного сердца. Часто заставляет его вздрагивать появление режиссера со своей свитой, – в ней не оператор, не художник и не главный герой, то есть персонажи, вместе создающие для Алишо ощущение мнимости происходящего, – от них режиссер удален, чтобы подчеркнуть свое пренебрежение к кино. Да, он весь в жизни, что-то шепчет ему на ухо кокетливая девица, так желающая сниматься, – она согласна на риск, на будущие слезы, на мерещащийся обман, он же хмур, поглаживает усы и всем своим видом выражает неудовольствие, однако не настолько, чтобы обидеть и оттолкнуть от себя. Такое поведение режиссера более всего удручает старых, уже вышедших в «тираж» актрис, которые также в его свите. Кажется им, что, пренебрегая молодостью, режиссер вдвойне укоряет за старость; былые заслуги, звонки и записки влиятельных знакомых кажутся просроченным векселем, и удивительно, просто удивительно, как долго они надеются на роль. Еще есть, кажется, ничтожный шанс, обещание какого-нибудь помощника или ассистента режиссера молвить за них словечко в обмен на свое развязное поведение в их обществе, на откровенную пошлость, на дорогие сигареты, на намеки…








