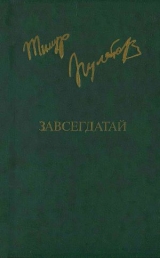
Текст книги "Завсегдатай"
Автор книги: Тимур Пулатов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 33 страниц)
Но со всех сторон раздавались требования судить вора и того, кто его укрывал, со всей строгостью закона. А наша местная газета не удержалась и еще задолго до судебного разбирательства поместила статью, где строчка за строчкой доказывала нашу виновность и тоже требовала от имени спортивной общественности и многочисленных любителей легкой атлетики наказать пьяных хулиганов.
Честно признаться, мне тогда и в голову не приходило, что я укрываю вора. Передо мной сидел человек, которому, как я, может быть, наивно полагал, надо объяснить многое, что творится в его душе.
Я не знал, что обычно в таких случаях без долгих разглагольствований (это слова судьи) преступника сдают в ближайшее отделение милиции, и делу конец. И что перевоспитанием его займутся потом в исправительно-трудовой колонии люди, которым это поручено по долгу службы.
Каюсь, над всем этим я как-то не думал в ту ночь!
Не знаю, что бы я делал утром, если бы за нами не пришли: может, продолжил бы свои беседы, а может, простился бы с ним, убедившись, что это ему не помогло… Впрочем, помогло бы, я уверен! Не сразу, так через какое-то время. Ведь помогли же вам моя выдержка, мое упрямство, Вали-баба, признать, что и вы были не правы, когда незаконно лишили меня пайка и установили за мной слежку, дабы спровоцировать еще большие осложнения. Помогло же, верно?..
Мне кажется, что мы, люди, очень скоро растеряем все ценное, если будем друг к другу равнодушны. Вы согласны со мной, Вали-баба?..
19
Вали-баба молча встал и долго потом прохаживался по крепостной стене, поглядывая на унылый двор замка.
Да, отношение его к беглецу было теперь новым, более драматическим. Можно ли все рассказанное Мусаевым принять на веру, думал Вали-баба. И можно ли забыть о побеге? Если Мусаев не скрыл чего-нибудь такого, что представило бы его в невыгодном свете, можно прийти к печальному выводу, что с ним поступили сурово.
Тогда как же быть ему, Вали-бабе, если судья все же признал того виновным? Если он не учел истинных, благих намерений Мусаева, когда тот продержал у себя всю ночь спортсмена, укравшего кубки?
Суд велик, и авторитет его работников для Вали-бабы всегда был неоспорим. А как же иначе? Ведь с судом и законом была связана вся его служба в колонии, все долгие тридцать лет жизни.
Он просто не допускал мысли, что судья может принять ошибочное решение и что закон, на который тот опирается, не всегда может учесть всю сложность человеческой натуры, все понятные и скрытые движения души того, кто сел на скамью подсудимых.
И вдруг Вали-баба сталкивается с человеком, деяние которого, если отнестись формально, можно признать уголовным преступлением, а если же в нем разобраться, заглянув глубоко в душу, можно признать моральным и человечным. Вот какое противоречие! И оно угнетало Вали-бабу.
Но, может, все-таки есть нечто, что скрыл от него Мусаев? – искал утешения Вали-баба. Но тут же думал: а какой ему в этом смысл, беглецу?
Ведь Вали-баба не судья и не начальник колонии, от которого зависит восстановление доброго имени Мусаева; он рядовой человек, просто строитель моста, волей обстоятельств стерегущий Мусаева в замке.
Нет, конечно, он не может рассчитывать ни на снисхождение, ни на помилование, ни на какую другую выгоду – Вали-баба человек неофициальный. И Мусаев это прекрасно знает. «Ведь он долго не делился со мной, – вспоминал Вали-баба. – И рассказал лишь тогда, когда понял, кто я есть. Я простой человек, – внушал самому себе Вали-баба, – я ничего не могу решать. У меня нет ни власти, ни силы отменить приговор… Теперь понятно, почему он с таким упорством рыл эти свои подкопы, зная, что имеет право на свободу… Одержимый, фанатик…»
Но что же ему ответить? Вали-баба знал, что он ждет какого-нибудь ответа, ведь не зря же рассказывал.
«Проклятый день!» – впервые затосковал Вали-баба, вспомнив, как настигли они беглецов на горе.
Казалось, все так просто и не надо ломать голову. Все было просто до этого дня: служба, караулы, ночные игры в домино. И даже мост, даже уход колонии не переживался так остро.
Вали-баба молча подошел к сторожевой башне, где сидел и смотрел на реку Мусаев… Постоял, потоптался на месте.
– Я все думал… Получается, если так подумать, можно сказать, что вы в той истории не виновны, – был ответ Вали-бабы.
Сразу бросилось в глаза, как он побледнел и как испугался собственных слов. И как не в силах был больше выдержать взгляда Мусаева! Повернулся и быстро сошел вниз по лестнице.
С той минуты он заперся в своем кабинете и не выходил больше ни к своим товарищам, ни к беглецам.
Молчаливый по натуре, он еще больше ушел в себя, занятый невеселыми размышлениями.
И Калихан, только Калихан, которого Вали-баба пускал к себе, заметил, как буквально за день старший караульный осунулся и похудел, и лицо его стало серым, как у сидящих в колонии.
– Что случилось? – пытался узнать верный Калихан.
Но Вали-баба всякий раз прогонял его без ответа.
Было похоже на то, что старший из караульных добровольно заточил себя в одиночной камере, в то время как уголовники-беглецы прогуливались на свободе в стенах замка., в
Вали-баба теперь просто боялся показываться на глаза Мусаеву. Ведь признав его невиновным, он должен освободить его из-под стражи и отпустить на все четыре стороны. Да, все верно, так надо.
Надо?
А побег, а освобождение уголовников – это как? И даже если освободить – сделать это должен тот, кто признал его виновным, судья – человек официальный, а не Вали-баба.
«Я человек рядовой, – все говорил себе Вали-баба, – у меня нет прав ни осуждать, ни снимать с людей вину. Я строитель моста…» Говоря так, он боялся, однако, поймет ли это Мусаев, – поэтому прятался.
Но Мусаев все понимал. Он слишком хорошо успел узнать, кто есть Вали-баба, на что он может решиться и чего никогда не допустит. Понимал все и ничего не ждал, да и тогда, когда рассказывал, рассказывал просто, чтобы утолить любопытство старшего караульного. И даже не думал, что Вали-баба вдруг поймет его невиновность.
Услышав признание Вали-бабы, он лишь благодарно посмотрел на него, и все. И теперь, даже если Вали-бабе пришло бы в голову из чувства справедливости освободить его, не передавая караульным из колонии, людям официальным, Мусаев все равно не согласился бы принять свободу из рук Вали-бабы. Этим бы он поставил старика в очень трудное положение, но делу не помог бы…
20
В то последнее утро неожиданно налетел ветер. Ясный белый день стал желтым, и солнце как бы растворилось в песчаной туче.
Пустыня, видно, долго терпела, накапливая в себе энергию, но теперь не выдержала, закружилась в вихре, пугая зверье и людей.
У строителей сорвало много палаток, унесло вниз по течению их лодки, а сама река, не успевая поглощать нефтяные пятна с песком, задыхалась и вышла из берегов – только сваи будущего моста остались нетронутыми, видно забитые на совесть.
Разорив многое на берегу, вихрь понесся к замку и первым делом сорвал с крепостной стены мягкий, набухший от весенних дождей слой, оголив камни и норы ящериц.
Залетел в пустые сторожевые башни, поиграл на славу железными прутьями, как играют на органе, а потом засыпал все желтым песком.
Оттуда песок посыпался вниз, во дворы замка, на лестницы и переходы, захлопали и застучали двери и окна, и горячая струя воздуха, залетев через люк и через щели в воротах, подула сквозняком по темным коридорам, выветривая барачный запах.
Вся эта игра природы длилась не более минуты, затем ветер вздохнул где-то в стороне и ушел высоко в небо, забирая у земли самую малость – листья, пух одуванчиков и верблюжью колючку.
И караульные и беглецы пережили все это, спрятавшись в главном помещении замка.
А когда вышли наружу, то не узнали замка. Был он весь какой-то угловатый, оголенный, без четких переходов и линий, засыпанный песком и камнями. Как исчезнувший средневековый город, который успели расчистить только в общих чертах, а детали еще лежали скрытыми от глаз.
– Заставим их убрать замок? – пришел к Вали-бабе с вопросом Калихан.
– Не сейчас, – махнул рукой старший караульный. И, взглянув на серое, пыльное лицо Калихана, дал указание: – Приведи-ка себя в порядок. Сегодня должны прибыть из колонии.
Интуиция не подвела Вали-бабу и на этот раз. Не успели караульные и беглецы почистить одежду, вымыть лицо и руки, как послышался над рекой шум вертолета.
Строители, занятые починкой палаток и рабочего снаряжения, подумали, что это летят к ним из города, чтобы узнать о последствиях сильного вихря. И стали махать касками и кричать, показывая, где удобнее всего приземлиться пилоту.
Но вертолет, пойдя на снижение, полетел дальше к загадочному замку, сделал круг над сторожевыми башнями и опустился во дворе на мягкий песок.
Вали-баба видел из окна, как открылась потом дверца машины и как вышли сначала двое караульных с карабинами, а за ними и сам начальник караульной службы тоже при оружии, с пистолетом.
Удивляясь, начальник поглядывал на пустой двор, на молчаливый замок, не понимая, почему их не встречает Вали-баба. Караульные ходили вокруг него, крадучись и держа карабины наготове.
Начальник, нахмурившись, подозвал одного из них и что-то приказал, видимо, искать Вали-бабу.
Больше всего Вали-бабу сейчас заботило другое: куда делся один из его товарищей, Нури, посланный неделю назад в колонию. Но вот и Нури вылез из вертолета, бледный и шатающийся. Он плохо перенес полет, а теперь сел на песок, чтобы прийти в себя.
Начальник наклонился к нему, видимо приказывая присоединиться к караульному, чтобы начать поиски Вали-бабы, но Нури махнул рукой, не в силах стоять на ногах.
Чтобы не слишком затягивать церемонию передачи беглецов, Вали-баба вышел со своими товарищами во двор.
Куда же вы пропали, Вали-баба? – Начальник бросился пожимать ему руку. И, всматриваясь в каждого, кто подходил к нему, спрашивал: – А где же эти, уголовники?
Видя, что начальнику не терпится улететь обратно из засыпанного песком замка, Вали-баба приказал Калихану вывести беглецов.
– Все трое здесь? – спросил начальник, вынимая список и читая: – Нуров, Мусаев, Парпиев…
– Все трое, – сказал Вали-баба и отвернулся, посмотрел на сторожевые башни.
Начальник тоже посмотрел на башни, но, увидев, что беглецов выводят из помещения, сказал Вали-бабе:
– Они здесь, Вали-баба, внизу… Сажайте в вертолет, – приказал затем караульным.
А сам засуетился, доставая из чемоданчика коробки с подарками.
– Это вам, – передал коробки Вали-бабе, – десять именных часов. За хорошую службу.
Это был уже пятый подарок, те четыре тоже за хорошую службу. Беглецов тем временем посадили в вертолет и захлопнули за ними дверцу.
– Ну, кажется, все сделал, – остановился начальник, вспоминая. – Беглецов проверил, именные часы передал… Да! – вспомнил он главное и, подойдя к Вали-бабе, дружески взял его за локоть. – Послушайте, Вали-баба, не хотели бы вы вернуться опять в колонию? Я бы взялся ходатайствовать…
Вопрос его, хоть и несколько неожиданный, не застал Вали-бабу врасплох. Он знал, что могут так спросить. И потому ответил не раздумывая:
– Нет, спасибо, начальник. Мы уже строители моста. Со старым покончено… – А сам подумал, что не сможет уже, наверное, быть таким, как прежде, караульным, а служить без особого рвения, без души на такой работе никак нельзя.
– Ну, смотрите! – огорчился начальник. – Для вас в колонии всегда место найдется. Вы караульный что надо!
– Спасибо, – поблагодарил Вали-баба за доверие и, пока начальник шел по песку к вертолету, думал, как бы ему поточнее выразиться, поубедительнее, чтобы не показаться неправым.
Заметив, что Мусаев и двое других беглецов смотрят на них через стекло вертолета, Вали-баба остановился и чуть позже, чем надо было, сказал:
– Начальник, у меня есть просьба. – Вертолет уже зашумел, и остальное Вали-бабе пришлось прокричать: – Мне кажется, начальник, что один из них сидел без вины. Слышите меня?
– Который? – услышал в ответ голос начальника.
– Мусаев. Ученый инженер.
– Разберемся, – пообещал начальник. – Во всем разберемся. Пусть не волнуется.
Довольный своим разговором с начальником, Вали-баба поднялся на лестницу, чтобы лучше видеть, как вертолет взлетает.
Затем бывшие караульные побежали к сторожевым башням, но вертолет поднялся выше башен и замка и полетел в сторону безводной пустыни.
Долго стояли Вали-баба и товарищи возле башни и спустились вниз, когда вертолет с беглецами стал уже невидим для глаз.
– Убрать и почистить замок, – приказал на прощание старший караульный.
А к вечеру, когда замок был чист, команда снова долго шла по темным коридорам, возвращаясь на свою главную теперь службу – к мосту.

Выйдя за ворота, они тщательно, тремя ключами, закрыли их.
Вали-баба оглянулся на замок и вздохнул, как бы желая напоследок насытиться его воздухом, сказал:
– Ну, кажется, все…
Да, все, пусть замок теперь тоже живет своей новой жизнью, а если ему суждено уйти под землю вместе со сторожевыми башнями, что ж, пусть уходит – образ его навсегда останется в памяти…
1969
Владения
Этот коршун после ночи полнолуния всегда облетал территорию, которая по негласному птичьему закону принадлежала ему. Утомительно длинный перелет от скалы, одиноко торчащей из песка, через пустыню к высохшему сейчас, летом, озеру с деревцем акации на правом сыпучем берегу
Путь туда и обратно длился весь световой день, но, когда жаркий ветер, покружив в вихре над песками, поднимался высоко в небо, коршун не успевал вернуться домой, и тогда-приходилось ему ночевать, спрятавшись в кусте саксаула, вздрагивая в страхе от шорохов и блеска упавшей звезды. Коршун был стар и уже не мог пересилить поднявшийся ввысь ветер, махал крыльями, пытаясь уйти в сторону, чтобы обмануть его, но все тщетно. Поток воздуха, плывущий в нижних высотах над пустыней, желтый, со струей легкого песка и листьями одуванчика, плотный, как сама мгла, безо всякого усилия и напряжения трепал птице крылья, и коршун, наглотавшись воздуха, с надутыми боками, отяжелевший, опускался на песок.
Такие перелеты случались раз в месяц после полнолуния, а для каждодневного промысла коршун улетал недалеко от гнезда в скале – всегда удавалось тут, вблизи, полакомиться зазевавшимся сусликом или, неожиданно спустившись с высот, отнять у ленивого варана шакалью лапу и взлететь обратно, ловко увернувшись от взмаха вараньего хвоста.
А в нестерпимо жаркие дни, когда зверье пустыни уходило далеко под землю, можно было довольствоваться и парочкой каких-нибудь пичужек, измученных жаждой и лежавших в траве с высунутыми языками.
Так жил коршун изо дня в день, а длинный свой перелет он совершал не столько ради пищи или воды, а из беспокойства, не захватил ли кто-нибудь его владения. Зная, что ему принадлежит территория, коршун считал себя полноценной птицей, а отними у него этот путь над пустыней, он, униженный и забытый, сунул бы в тоске клюв в песок и умер…
В последнюю ночь перед полетом, когда луна округлялась и медленно поднималась из-за барханов, какая-то неестественно красная луна, без своего всегдашнего ровного света, от которого хочется зажмурить глаза, бодро и смело поцарапать клювом камни вокруг гнезда, устланного мхом и теплой лисьей шерстью, и тут же полететь на промысел со спокойным хладнокровием, так нужным для охоты, – в последнюю ночь, когда круглая и кажущаяся такой тонкой и воздушной луна, поднявшись немного, застывала справа от скалы, коршун не спал.
Он не мог уснуть не от того, что завтра с утра ему надо было облететь свои владения до самого высохшего озера с одиноким деревцем на сыпучем берегу; просто свет луны беспокоил его, коршун злился, боялся даже своей тени – в таком он был напряжении, – поворачивался, чтобы устроиться поудобнее, но бурый хвост мешал ему, мешали красные, уже туповатые когти на лапах, а сам он, весь черный, отбрасывал в эту ночь такую тень, которая казалась в два раза чернее обычной.
Еще не совсем открывшаяся луна, висящая серпом или уже потерявшая очертания серпа, но еще не полная, а закрытая сбоку, бросала свет без тени на песок ровно и спокойно, казалось, даже медлительный бархан поворачивается так, чтобы от него не падала к подножию тень, и зверек – суслик ли это или песчаная мышь – так пробегал хитро, что не видно было его отражения. Словно свет падал на зверька со всех сторон, зверек купался, наслаждаясь, в свете, и длинный хвост света, сквозь который пробегал суслик, забирал все запахи на шерсть: запахи влажного песка в норе, полыни, которой прикрыт вход, а полынь пахнет солью, от нее щиплет в носу, а также людским жильем, ибо полынь – это связной между людьми и зверьем, покатится, высохшая, доберется до какой-нибудь деревни, воровато побродит ночью между спящими, забредет туда, где разложен очаг, заглянет в кувшины с маслом и водой, посмотрит на потолок над окном – висит ли мордой вниз высушенная овечья туша? – а потом, довольная, что не побеспокоила людей, увидела их спящими и сытыми, побежит обратно в открытую пустыню к зверью и будоражит их запахом человеческого очага.
Бросится суслик вдогонку за травой-полынью, поймает ее и держит лапами и вдыхает запахи деревни, а не насытится, потянет за собой в нору, чтобы полежать в тревоге на траве, а потом заснуть одурманенным.
Полынь зашевелится, пытаясь вылезти из-под спящего суслика, когда почувствует, как из другого, потайного выхода в нору проник ветер, принес с собой свежесть ночи и капельки влаги где-то стороной пробежавшего дождя, и захочется траве вместе с этим ветром, уносимой им, найти выход из норы, чтобы катиться потом в одиночестве по пустыне. Полынь свернется в комок, как сворачивается она обычно перед мордой какой-нибудь овцы, чтобы та испуганно не дотронулась до травы, приняв ее за песчаного ежа, и попытается освободиться из-под гладкого потного живота суслика. Но едва она сворачивается, идя на хитрость, как суслик, застонав, просыпается и, не успев открыть глаза, ощупывает лапками вокруг себя быстро так и проворно и, убедившись, что лежит все еще на полыни, успокоится и понюхает снова траву, но удовольствия уже не получит, ибо все людские запахи успел унести ветер, пробежавший по норе.
Суслик недовольно поморщится, все, что до этого ему чудилось, покажется лишь обманом, грезами, и даже тот миг, когда трава была поймана и обнюхана со всех сторон, был как будто так давно, в детстве… Теперь уже суслик откроет глаза, потянет еще раз носом, но уже не для того, чтобы почувствовать полынь, а просто чтобы успокоиться, умиротвориться запахами своего жилья.
Но – вот оказия! – нора уже пахнет другим, свежестью, дождем, всем, что принес с собой тот короткий и случайный ветер, пробежавший по подземелью. Видно, шакал, что вечно рыщет, обнюхивая все перед собой, набрел на ветки саксаула, которыми был прикрыт потайной выход из норы, а суслик, когда закрывал его ночью, испугался тени варана, метнулся, неудачно ступил, поскользнулся и, оставив на острой ветке саксаула клочок шерсти, скрылся в норе, и вот ша кал и нашел этот клочок шерсти и сразу понял, что если поднапрячься, терпеливо расширить нору, а потом просунуть морду, то во мраке можно почувствовать вдруг жирное тело суслика в зубах. И шакал разбросал вокруг ветки саксаула и уже хотел было расширить выход, но что-то ему помешало, остановило, должно быть, сама мысль о долгой работе ради минутного удовольствия утомила шакала, и он бросил все и отошел.
А в расширенный выход ворвался поток воздуха, вихрь, вернее, не весь поток, широкий и плотный, а только одна его струйка, изменившая из-за встречного бархана линию полета, ушла в нору, а остальной поток, уже чуть суженный, чуть обессиленный, поплыл дальше, не желая ждать, пока оторвавшаяся струйка, пробежав по всей норе, выбежит из другого выхода, по ту сторону бархана, и присоединится к основному ветру.
Эта струйка ветра, уйдя в нору, поиграла двумя гладкими морскими камнями у самого выхода, ударив их друг о друга, и в темноте даже искра выскочила, родившись между камнями, камни вспотели, став чуть теплее, а дальше ветер уже не бежал, а двигался медленно направо, туда, где в норе было ответвление, что-то вроде маленького амбара. Ветер стал собираться, передняя струйка остановилась, а потом поднялась на стенку из песчаника, чтобы подождать, пока хвост ее тоже не войдет в амбар. И ветру пришлось уплотняться, задыхаться, ибо амбар был тесен, и тогда ветер так собрался в этой тесноте, ища быстрого выхода, что поцарапал стенки амбара; песчаник кое-где обвалился, обнажив корни саксаула, растущего над норой.
Благо амбар был пуст или почти пуст, иначе ветер обвалил бы все, разломав эту часть, норы. Только покатилась и прижалась к углу обглоданная кем-то, не сусликом, баранья кость, белая и отполированная, почему-то принесенная сусликом в свой амбар. Может быть, в длинные зимние дни, когда наверху, над песком, слой снега и льда, перемешанный с солью, суслик просто играет этой костью, перекатывая ее из угла в угол, подбрасывает, ловит на лету, держит в равновесии на кончике носа, затем, наклонив чуть, берет в зубы, словом, развлекается, а может, делает все это всерьез, чтобы не жить зря зимой, а оттачивать свои навыки, свое умение ловко набрасываться на полевую мышь или на хвост змеи. Потом, весной, летом… Ведь и суслик этот стареет, а чтобы жить дальше, надо оставаться ловким и умелым.
Ветер загнал эту баранью кость в угол, а потом еще и приналег, и половина кости медленно ушла в стену амбара.
Потом в амбаре стало свободнее, когда ветер начал выползать, а когда вылез, собрался у входа, а затем побежал дальше по норе, стенки амбара слегка заколебались, принимая свои первоначальные очертания, и кость снова медленно вылезла из стенки и, покатившись, упала в ямочку и застыла там, ибо песок, который давил сверху, вытолкнул кость обратно, и, как воспоминание о ворвавшемся сюда ветре, да и то короткое, недолгое, остались на стене капли влаги, дождя, которые принес с собой ветер и, уплотнившись, оставил.
Нора суслика коротка, так, метров пять со всеми ответвлениями и переходами, а дальше еще два или три пробега ветра по широкому месту норы, где суслик прогуливается – тут пусто и чисто, нечто вроде– залы, – затем столовая со множеством ямок – в– них суслик закапывает несъедобные остатки пищи, – и вот спальня, где суслик лежал на полыни и мимо него к выходу помчался ветер, забрав с собой все запахи.
В беспокойстве суслик поднялся, и вот тут-то полынь в последней надежде помчаться прочь из норы, ухватившись за хвост ветра, зашевелилась, но была снова поймана сусликом. Суслик взял траву зубами, запрыгал в залу, где прогуливался он после еды, и, встав на задние лапы, ловко так подпрыгнул и повесил траву на острый камень, выступающий из песчаника, рядом с другими пучками полыни, пойманными ранее, но теперь уже мертвыми, не благоухающими. Повесил в надежде, что они снова запахнут, а может, просто как украшение тусклых стен.
Теперь уже полынь никогда не полетит вниз, ей надо свернуться, успокоиться и высохнуть до основания и остаться так, как собственный скелет.
Траву может вынести отсюда лишь поток дождя. Набухшая, она будет бежать вместе с водой из низины в низину по пустыне, пока вода не спадет, а траву не засыплет песок.
Суслики боятся дождя. Весной, а нередко и летом, в такое время, как сейчас, льет короткий, но обильный дождь, вмиг наполняет озера, быстро всасывается в песок, проникая в норы и выгоняя зверье из жилья. И так же быстро потом дождь проходит, вода испаряется, поднимаясь тяжелым облаком над пустыней, облаком не плотным, а из слоев, между которыми просвечивает воздух в лучах солнца; слои облаков спускаются друг к другу, нагретый воздух между ними лопается – звук глухой и нестрашный, – облака разрываются и бросают на прощание на землю несколько крупных капель уже не дождя, а воды, но вода эта, не дойдя до песка, испаряется.
Суслик, встревоженный запахами дождя, но наверняка знающий, что дождя над его норой нет, все же решается из осторожности проверить, и еще его беспокоит ветер, проникший в нору, значит, кто-то расковырял запасной выход.
Суслик решает вылезти в ночь полнолуния, и едва он высовывается из норы, как длинная полоска света, вобрав в себя запахи зверька, те запахи, что остались на его теле от полыни, несет их к скале, где мучается в бессоннице коршун.
Свет, принесший запах полыни, согрел коршуна; приятное ощущение лени охватило птицу, и в этот миг она уже уснула бы наконец, если бы не почувствовала, что скоро утро и ей придется облетать свою территорию.
В узкой расселине, где скрывалось гнездо коршуна, запах травы, перемешанный с запахом людского жилья, задержался и долго не выветривался. Эдесь, среди чистых камней, тщательно и навсегда вымытых ручьем, что некогда стекал со скалы, запах этот отстоялся, выкристаллизовался и все чуждое и постороннее спряталось, осело в слое мха: запах норы суслика, амбара, где влага, не имея возможности испариться, уйти глубже или рассосаться, превратилась в дурно пахнущую смолу. Этот залах ушел, и остался букет из полыни, одуванчика, белые воздушные шарики которого, сотканные так искусно и незатейливо, катила с собой полынь, когда перебегала от бархана к бархану, возвращаясь из деревни, и еще запаха двух-трех лепестков прошлогоднего тюльпана, цветка, столь нежного и хрупкого, что, разбуженный утром солнцем, к вечеру он уже стелется по песку, принимая окраску верблюжьей колючки.
Весь этот запах снял с коршуна нервную бессонницу, нагнанную полной луной, и лень – это состояние существ спокойных и умиротворенных, как бы погладил крылья птицы.
Она прижала к телу свои крылья, так много причинявшие неудобства, и опустила хвост, вздохнула, готовая теперь пролежать так до утра, до первых лучей солнца.
Хорошо бы, конечно, уснуть и набраться сил перед столь длительным и утомительным осмотром своей территории, но тем ненавистно птице полнолуние, что оно нагоняет беспокойство, страх, и все это, казалось бы, беспричинно, без повода, ибо после каждого облета коршун возвращается целым и невредимым.
Почему нужно лететь так далеко именно после ночи полнолуния? Здесь снова в силе негласный закон птиц, и само полнолуние не играет в этом особой роли. Просто так повелось издавна, стало как сигнал, как зов.
Полети коршун на осмотр в любой другой день месяца, он парил бы над своей территорией с большим усердием, легкостью и желанием, ибо был бы он отдохнувшим и выспавшимся, а не суетливым и беспокойным.
Но все же, думается, в дне отлета после полнолуния есть какой-то большой смысл, в него невозможно проникнуть умом. Инстинкт повелевает коршуну лететь именно в этот день, ибо чувствует птица, что всякий раз после полнолуния что-то меняется в пустыне и на ее территории. А на территории, которая в чем-то изменилась, надо все проверить, измерить всю меру нового, понять, на пользу ли это новое, облегчает ли оно существование или же, наоборот, затрудняет его. И, хотя за один короткий облет всего не оценишь – тем более, изменения происходят столь часто от полнолуния к полнолунию, – все же коршун пытается если не оценить, то, во всяком случае, привыкнуть к этим изменениям, чтобы во время охоты не сделать неверного шага в новых условиях и не попасть впросак.
Если он осматривает всю свою территорию из конца в конец только раз в месяц, охватывая взглядом заодно и всю ширину пространства, то изо дня в день ему приходится облетать какую-то ее часть, а эта часть, пусть даже малая, тоже может в чем-то меняться после полнолуния.
Но уже рассветало. Того самого мига, когда ночное небо приоткрылось, коршун не поймал, он все же не выдержал и уснул с открытыми глазами, так неожиданно задремал, одурманенный запахами, что не успел сжать веки. Впрочем, оно и лучше, что с открытыми глазами. В скале сейчас не все спят, кое-кто и бродит по мокрым от росы камням. Могла какая-нибудь самка приблизиться к нему и, чтобы снять беспокойство, просунуть клюв в его крыло безо всякого желания, равнодушно, просто ощутить запах теплого тела и снова отойти к себе в гнездо, пройдя спереди и заглянув коршуну в глаза – в темноте его желтые зрачки блеснули бы на нее отблеском понимания и сочувствия, и благодарная самка решила бы, что он тоже не спит.
Рассвет в пустыне приходит медленно, и, если не разглядеть в небе тот миг, когда в нем прочерчивается слабая, еле заметная черта между ночью и рассветом, можно долго не чувствовать приближения утра. Об уходе ночи коршун догадывается лишь по короткой прохладе, похожей на чье-то влажное дыхание рядом, – это роса ложится на песок и камни, ложится и сразу же нагревается и снова начинает улетать, превратившись в легкий туман.
Но коршун не всегда чувствует прилет росы. Обычно он спит в это мгновение и только, съежившись чуть во сне, прижмет плотнее крылья к телу и наклонит голову к теплым камням в гнезде.
Ночью в полнолуние все залито неестественным холодным светом, от света этого не шевелится трава, и птенцы не растут в яйцах, и много старых птиц и зверья умирает в эту ночь – нет роста и приобретений, зато много потерь в пустыне.
Потом, ближе к рассвету, свет этот ослабевает, и те, кто остался жить, чувствуют смутное облегчение, а трава осторожно, на ощупь, все еще не доверяясь этому свету, выпрямляет свои корни в земле, чтобы с приходом утра продолжать расти и наверстывать зря прожитую ночь.
Но вот наступает миг, когда свет вдруг меняет свою окраску, его столько же вокруг, видимость осталась такой же, только свет этот теперь не матовый, а сероватый, естественный и таким он останется, не ослабевая, до самого утра, а утром все кругом зальет желтый свет – дневной свет пустыни. И в ту самую секунду, когда матовый свет полнолуния посереет, прилетает на землю роса, будто матовым свет был от росы на небе.
Но и тут, на песке и камнях, жизнь росы коротка. Едва она коснется земли, как превращается сразу от тепла просто во влажный слой – это может быть пот на камнях или следы дождя, не успевшего высохнуть и оттого пахнущего водорослями.
Роса, чистая и прозрачная, пахнущая высотами мироздания, где летает звездная пыль, живет только в полете, от матового света до песка – вот отрезок короткой, но поистине поэтической жизни!
Туман, оставшись после росы, поспешно уходит в расселины скал, в заросли саксаула, в норы песчаных зайцев, мышей и будит их влажным запахом, напоминая о близком дне. И после тумана все вокруг становится чистым и зримым, взгляд уже видит дальше и зорче и не утомляется от долгого созерцания пустыни.
Туман как бы забирает с собой легкие струйки песка, что держатся до рассвета в воздухе и не могут ни улететь, ни лечь на камни и травы, уносит он с собой и дымку – песчаная осока, сгорая днем от солнца, дымит незаметно; он такой легкий и воздушный, этот дым, что днем, при свете солнца, совсем не виден и только ночью собирается над песками красноватым облачком. И туман все разом смахивает с лица пустыни торопливым, но усталым жестом…








