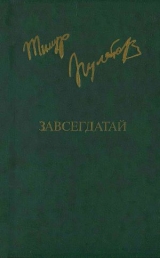
Текст книги "Завсегдатай"
Автор книги: Тимур Пулатов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 33 страниц)
– Да ведь простительно, столько лет прошло… А напоминать не хотел. Зачем?
Беков поднялся, и они молча побрели на вокзал
– Остановите, пожалуйста, – попросил Беков шофера.
Поле, возле которого вышли они из машины, шло далеко вниз, к белым домикам и фисташковым рощам.
Тишина и покой так подействовали на Бекова, что он долго не мог прийти в себя, стоял на обочине дороги и смотрел на зеленый, кажущийся ему нереальным мир, от которого он почти отвык в переулках Гаждивана.
Там, в глубине поля, куда убегали кусты, трудились крестьяне: собирали хлопок. Согнувшись, шли они цепочкой навстречу Бекову, и никто ни разу не посмотрел на него – так были все увлечены работой.
Беков долго не решался сойти с обочины в поле, опасаясь, что все, что он видит, может исчезнуть, если сделать лишнее движение.
– Рафика в прошлом году родила в этом поле, – пришел откуда-то сверху искаженный эхом голос.
– Счастливый сын, что родится в поле, – ответили ей.
Это были совсем простые разговоры людей но, пришедшие с этого поля, из этой первозданной тишины, они казались сладостными.
Наконец Беков решился и стал спускаться с косогора в поле. Осторожно раздвигая кусты, он пошел навстречу крестьянам.
Заметив его, крестьяне прервали работу и, не сразу распознав, кто он, начали совещаться.
– Бог в помощь, – сказал Беков издали.
– Пусть и вам он поможет, добрый человек, – ответили ему
И тут один из сборщиков вдруг бросился к нему и остановился неподалеку, радостно воскликнув
– Да это же товарищ Беков! Добро пожаловать!
– Бобо-Назар…
– Да, да. Мы каждый день ждали вас, вся моя семья, и сыновья спрашивали, когда же придет товарищ Беков, – торопливо заговорил старик.
Те, кто был с ним, уже высыпали хлопок и, став полукругом за его спиной, слушали, одобрительно кивая.
Беков обернулся к ним, поздоровался, и Бобо-Назар пригласил его присесть на кучу хлопка.
Беков сел, крестьяне расположились вокруг возбужденные не меньше Бобо-Назара.
А он крикнул в поле:
– Э-э! Махсум!
– Э-э! – пришло с поля. – Слышу тебя, отец.
Помолчали. От чистого, первозданного воздуха
у Бекова приятно кружилась голова.
– Вот вы и пришли посмотреть на свое поле, – сказал Бекову Бобо-Назар. – Добрый нынче урожай Дома наши будут полны хлеба и достатка.
– Да, – согласились старики, – будет много свадеб этой осенью…
Откуда-то принесли чайник и пиалы. Бобо-Назар налил Бекову чай.
– Весной было много дождей, ведь так? – Все еще смущаясь, Бобо-Назар обращался к сборщикам, чтобы те поддержали разговор.
– У нас крышу смыло, – сказала женщина.
– Да хватит тебе об этом вспоминать! – рядом сидевший мужчина крепко обнял ее, весело засмеялся.
Женщина смутилась; оттолкнув его от себя, она объяснила Бекову:
– Это муж мой, отец Исхак…
Подошел парень с мотыгой, поклонился Бекову, почти до земли.
– Это сын мой, Махсум, – стал знакомить Бобо-Назар. – Это я ему кричал. Он хлопок поливает.
Беков протянул парню руку:
– Рад познакомиться.
– Я обучил сына своему ремеслу, а сам теперь собираю хлопок. А вот его невеста, – Бобо-Назар показал на девушку, сидевшую позади всех.
К Бекову пододвинулся старик с белой накидкой на голове и доверительно сообщил:
– Махсум мой зять.
– Я вижу, вы одна семья, – повеселел Беков.
– Все люди одна семья, – сказал старик с накидкой. – Разные есть в этой семье, но мы знаем, что вы самый добрый…
Подбодренный словами старика, Бобо-Назар вскочил и, показывая рукой далеко в поле, стал вспоминать:
– Вон там, где четыре тополя, там отдыхал отряд товарища Бекова…
– Помню… – кивнул Беков.
– Кроме змей, здесь ничего не могло выжить. А теперь земля эта нас кормит!.. И впервые там, возле четырех тополей, я увидел товарища Бекова… Вы вышли, кто-то подал вам лошадь, вы вскочили, и тогда я…
– Не надо, – прервал его Беков, сразу почувствовав усталость.
– Я до сих пор мучаюсь по ночам. Как я посмел?! Вы пришли с добром, а я, безмозглый осел…
Сборщики сидели, опустив головы, подавленные происходящим.
Махсум обнял отца, отвел его в сторону и вполголоса стал что-то объяснять.
– Да, он всегда мучается, – подтвердил старик с накидкой. – Говорит: стрелять в вас – все равно что стрелять в пророка.
– Я давно простил ему. И давно забыл это, – сказал Беков, но почувствовал, как вдруг разболелась левая рука его, простреленная Бобо-Назаром. Он потер ее выше локтя, но украдкой, чтобы сборщики не заметили.
Бобо-Назар с сыном вернулись и сели недалеко от Бекова.
– Здесь так тихо, – прошептал Беков…
Он прилег, Бобо-Назар подложил ему под голову хлопок.
– Здесь так тихо и хорошо, – повторил Беков и под добрыми взглядами сборщиков стал засыпать…
Когда он проснулся, солнце уже спустилось к белому поселку вдали. Весь хлопок на том клочке, где лежал Беков, был убран, и силуэты сборщиков мелькали где-то далеко.
Только Эгамов один сидел возле командира, охраняя его покой. В руке у него был ком влажной живой земли, и, увидев, что Беков проснулся, он показал ему эту землю, чтобы и Беков порадовался:
– Какая земля, командир! Словно сильная, здоровая женщина, что рожает сразу четырех близнецов!.. Идемте туда, дальше, по вашим полям.
Он поманил его к белым домикам, к фисташковой роще, где можно было побродить среди зелени. Сырой, весь пропахший бедностью Гаждиван сейчас пугал Эгамова.
– Там у меня есть знакомая семья, командир. Мы переночуем у них…
– Нет, нет, – запротестовал Беков. – Там Нуров. Я не хочу к нему. Он это знает. Знает, что не нравился мне тогда, в молодости. Но все же только он один в те годы мог поднять колхоз, только он один из нас троих. И я поступил правильно, назначив его председателем…
Как только они вошли в переулок Гаждивана, Бекову стало плохо. От душного воздуха, от испарений и соленых сквозняков его начало тошнить.
Возле самого обелиска он мучительно закашлялся и сел на постамент
– Командир! – закричал Эгамов, видя, что он падает навзничь.
Обелиск, ярко освещенный, резал глаза и был белый, чисто белый, странно белый.
Беков вскрикнул. Но голоса не было. Что-то оборвалось внутри. И он упал, накрытый белым.
Всю ночь он лежал без памяти, спокойный и белый. И когда пришел в себя, увидел Эгамова и Маруфа, сидящих у его изголовья. Эгамов тут же вскочил, скинул с себя халат и, скомкав, бросил под ноги. Он не знал, что говорить. Чувствовал себя виноватым.
Маруф же продолжал сидеть, с грустью глядя на Бекова, словно стараясь навсегда запомнить его облик.
Лицо Бекова было спокойным и красивым. Дряблое, старческое исчезло, и пришло новое, словно он постиг некий смысл, отчего душа его и тело стали прекрасными…
За стеной послышались какие-то голоса.
– Слышите… Народ благодарен вам, командир.
Затем Эгамов снова сел на табуретку рядом с сыном.
Беков продолжал смотреть на него спокойным, ровным взглядом, и он терялся от этого
– Люди ждут вашего выздоровления командир. Вы слышите их голоса?
Какая-то последняя мысль мелькнула в глазах командира, но тут же исчезла, и взгляд его снова ничего не выражал, кроме тишины.
– Я боюсь, мне страшно оттого, что вы молчите, командир. Что передать людям от вас?
Теперь уже судорога свела лицо Бекова. Но он все же смог собрать силы, чтобы произнести:
– Я хотел добра… Всем… И тебе..
Эгамов бросился на колени, пытаясь взять его руку.
– Вы столько добра сделали! Клянусь вам. И теперь… Вот увидите, все изменится…
Но Беков уже не слышал.
– Не оставляйте нас одних, командир
В дверях появился доктор
Эгамов поднялся и стал пятиться к выходу
Маруф наклонился и поцеловал Бекову руку.
Дверь закрылась за ними. Кто-то крикнул с улицы:
– Да здравствует товарищ Беков!..
Бекову привиделась белая дверь, будто он встал, подошел к ней и стал толкать, пытаясь отворить. Но дверь, тяжелая, гранитная, не поддавалась.
Он бил кулаками, но и звуков не было, все так глухо..
И тогда он напряг все силы, все, что еще теплилось и жило в нем, и навалился на эту дверь с распростертыми руками. Дверь беззвучно открылась, и Беков упал в нечто белое, чтобы навсегда раствориться в нем…
6
Много работы теперь в Гаждиване. Что-то сносится, что-то строится заново.
Везут из Бухары кирпичи, доски. Гаждиванцы делают из этих досок окна и двери для консервного цеха, копают траншеи и месят желтоватую глину.
И еще было у гаждиванцев соревнование, кто быстрее снимет с заборов своих стекла, насыпанные для того, чтобы сосед поранил руку.
Эгамов тоже работает.
Сделал он себе кетмень и теперь долбит ту землю, где была пролита его горячая молодая кровь. И хорошо знает старик, что недаром пролилась его кровь.
Бывшему адъютанту помогает сын его, Маруф. Он никуда не уехал, он остался с отцом. Он тоже знает, каким неимоверным трудом дается счастье. И пусть трудное оно, это счастье, но верное.
…К вечеру в Гаждиван пришла вода. Вначале был слышен только гул – открыли шлюзы, и вода, которую пробурили машины, вдруг хлынула, перекатывая камни, заливая все, что годами лежало на дне мертвой реки.
А потом гаждиванцы увидели и самую воду. Желтую-желтую от солнца.
Вода ползла, словно насторожившись, ощупывая незнакомые места и боясь сразу довериться людям, которые когда-то столь неразумно израсходовали ее.
Все, кто работал в Гаждиване, бросились в реку Смеялись, радовались, обливали друг друга и пили, пили…
– Вода, Вода! Как долго ты шла к нам, – шептали старики. – Поцарапала лицо о камни и стекла, что лежат на дне. Бедная вода…
Незадолго до захода солнца Эгамов сидел на корточках и бросал на холмик могилы командира куски хлеба.
Птицы уже ждали его. Они налетели на хлеб, хлопая крыльями и воркуя. Так каждый день поют они возле могилы командира, и от голосов их командир в своем вечном покое не видит неприятных сновидений, беспокоивших его душу…
Птицы усыпляют страдания.
Холмик командира прост, как и все холмики его воинов на этом кладбище, и уже покрылся солью, что просачивается вместе с водой из земли, на которой стоит Гаждиван.
– Вот и река возвратилась, – шепнул бывший адъютант своему командиру.
Медленно брел он затем через весь Гаждиван.
Подойдя к обелиску, остановился.
– Ну, иди, – сказал он Маруфу.
– Я помогу тебе, отец.
– Нет, я люблю один…
Эгамов следил, пока Маруф не вошел в дом, затем шагнул к газонам.
Здесь был обычный порядок – цветы подрезаны и почва полита.
Эгамов взял ведро, спрятанное в кустах и поднявшись на постамент, начал мыть мраморную доску…
1966–1967
Второе путешествие Каипа
Эвелине Шевяковой
1
Каип давно пережил тот возраст, когда умирают от чего-то постороннего – скоротечной болезни, солнечного удара, от укуса змеи или яда рыбы; от слепоты или глухоты, кашля или дурного глаза: старика должны были просто побеспокоить и позвать к себе предки.
По утрам старик выходил во двор, вешал на кол постель из верблюжьей шкуры и, разглядывая вдали холм, все думал…
Думал Каип, откуда появился тот первый человек, от которого и пошла потом жизнь на – острове. Из чего сотворила его природа?
Вначале казалось Каипу, что сделался первый человек из смерча. На холме пещера, и, выпрыгнув оттуда, смерч с песком понесся к морю, радуясь обновлению. И несся он, ударяясь о валуны и пугая коршунов, и так до тех пор, пока, утомившись, не остановился у самой воды.
И вот тут-то от старания воды, ветра и солнца превратился смерч в глиняный столб, а столб этот, на удивление коршунам, вышел из моря человеком.
Сидели они как-то с Ермолаем на поляне, и Каип поведал другу о своем прозрении, показывая на холм, откуда шел к ним смерч.
– Смотри, человек, – сказал Каип в тихом старческом волнении, наблюдая за столбом пыли.
Ждал, что смерч приблизится и Ермолай сможет увидеть причудливо нарисованный песком грустный лик человека.
Смотрел Ермолай, но так и не увидел – убежал, ибо смерч летел к его дому, чтобы сорвать крышу и двери.
А Каипа смерч повалил с ног и засыпал наполовину. И старик уже наполовину умер – хорошо, откопали его вовремя земляки, люди, которые стали ему давно неинтересны.
В другой раз пришло Каипу прозрение от змеи. Старик обнаружил ее под шкурой и выбросил на солнце. А к вечеру нашел змею, высохшую всю, кроме глаз.
Взглянув в глаза змеи, удивился Каип: тело твари распрощалось под солнцем со всеми соками, и только глаза были по-прежнему живые.
– Смотри, – принес Каип змею к Ермолаю. – Видишь, глаза змеи никогда не умирают, потому что не грустят и ничему не удивляются, – и показывал Ермолаю свои глаза, чтобы друг сравнил со змеиными.
Знал Каип, что змеи были корнями деревьев. Сползли они в землю и зарылись в песок, где больше жизни, чем на воздухе. А из этого песка и появился первый на острове человек.
Ермолай слушал Каипа и делал вид, что соглашается, хотя на самом деле опыт другого был ему неинтересен: жил он, как и все, только своим опытом…
А море все дальше и дальше уходило от их острова. И люди сказали: от нас уходит рыба. Подобно тому как предки их говорили: от нас ушел лес, а еще раньше: от нас ушла река, ибо знали, что все слабое в природе уходит, чтобы дать место пустыне…
2
Ночью, когда на острове ждали путину, старику вдруг приснился коршун. Застонав, Каип проснулся и долго просидел в постели, зная, что теперь умрет коршун такая примета.
Старик уже был готов к отплытию. Кажется, он успел сделать все: наловил водорослей и перекрыл заново крышу – в доме теперь будет жить сын с женой; со всеми, кого хоть чем-то обидел, помирилсявсем, у кого что-то брал, вернул; ел и пил умеренно, чтобы тело не тратило свои соки на мелочи. И смог наконец уговорить сына, чтобы тот вернулся с Акчи, с завода, на остров к жене и был бы вместо старика работником дома и в море.
Пугала Каипа смертная суета. Знал он, что просто уходит в другой, долгий и утомительный мир. Знал, что туда уходят и добрые и злые и что новый мир этот совсем близко, в тех песках, что вокруг.
Боялся он того, что, превратившись в песок, будет долго блуждать в новой своей жизни, доставляя хлопоты живущим.
Станет ветер трепать его и разбрасывать по острову, сползет он в море, и рыбы проглотят его и будут носить песок в утробе и между плавниками. А оттуда попадет он в чужие города и оазисы и будет кружиться в вечном стремлении обрести покой, но так и не найдет его до конца мира.
Каип знал, что немного времени отпущено ему на приготовления. Значит, без промедления, сегодня же, надо отплывать на Зеленый остров – там Каип родился, оттуда бежал когда-то, чтобы наказать Айшу… Когда же все это случилось? Старик облизал высохшие губы… Всякий раз, когда Каип думает об Айше, его преследует запах абрикосов. Откуда это? Тогда ведь была жара и в зарослях вокруг Каипа прыгали лягушки.
Недавно он встретил в море рыбака с Зеленого, и тот сказал, что Айша жива, одинока. По-прежнему ловит водоросли, закапывает рыбу в раскаленный песок и продает ее гостям острова.
Там, откуда Каип сбежал, похоронены отец и весь остальной род.
И вот сегодня они позвали его. Надо успеть. И хотя Зеленый виднеется отсюда в тумане – он близок, добраться будет нелегко.
Нужна лодка. А своей у Каипа нет. Нет ее и у Ермолая и у остальных – все лодки собраны бригадой: ждут с часу на час путину. Председатель Аралов отменил все поездки и одиночные выходы в море до особого распоряжения.
В поселке пусто. Вторую ночь уже все на карауле У моря. Только бродят овцы, заглядывая в дома и обнюхивая пороги.
Спят прямо на песке бухарцы – заезжие сапожники. Набросали вокруг себя веревок, чтобы скорпионы не могли подползти к ним и ужалить.
Добравшись неделю назад на остров, сапожники застряли здесь из-за путины. И, чтобы не тратить времени даром, практичные бухарцы весь день вчера стригли островитянам головы, подправляли усы и бороды.
Мимо спящих тихо прошел с кувшином вина осетин Владимир. Сапожники вечером пили у него в погребке, вот и думал Владимир, что, может, кто-нибудь захочет вина и ночью.
Поздоровавшись с Каипом, Владимир, грустный, поплелся к маяку распивать кувшин с приятелем своим, сторожем.
Каип стал раздеваться возле чистого, только что наметенного бархана.
Раздевшись догола, сел, зарыл ноги в песок и принялся натирать тело, чтобы заиграла кровь перед дорогой.
Затем он добрых полчаса шлепал по мелкой воде, но, так и не найдя глубокого места, лег недалеко от берега.
Узелок с чистыми штанами и рубашкой, давно приготовленными на этот случай, старик оставил на берегу. Возле узелка сидел и смотрел на Каипа сын Ермолая Прошка, юноша лет четырнадцати с усталым взрослым лицом.
Отец послал его проведать Каипа и отнести ему рыбий жир, если старик болен.
Но старик не был болен. Прошка посидел один, поскучал и бросился в море к Каипу.
На сей раз Каип встретил его недовольным ворчаньем – старику хотелось быть одному.
– Ты что, следишь за мной? – спросил Каип, поднимаясь из воды.
– Отец велел напоить вас рыбьим жиром.
– На что мне жир? Бери обратно… Нет, постой, ты с причала?
– Да. Приезжал бригадир. Поругал всех и ушел.
– А лодки все на привязи?
– Все. Отец на карауле… Хотите половить рыбку? – лукаво заулыбался Прошка.
– А что? Ведь ловят же другие…
Прошка удивленно вскрикнул, все еще не зная, шутит Каип или же вправду решил воровать – за ним ведь никогда не замечали такого греха, даже в самые трудные дни.
– Ну беги, – таинственно проговорил Каип, и по тону его Прошка решил, что старик действительно собрался на ночной лов и просит хранить это в тайне.
Отправив Прошку, Каип оделся и пошел к причалу, надеясь, что никто больше ни о чем не спросит, не потревожит.
Все двадцать семей, живущих на острове, были в этот поздний час на молу. Семьи казахов и родственных им каракалпаков, таджиков, узбеков и уральских казаков, переселенных сюда сто лет назад.
Был часовым приказ: заметят в море катер или увидят, как хлопнула и загорелась в небе ракета, разбудить всех и выступать.
Рыбаки должны направить свои лодки к дельте реки, к Северному островку, где дежурит председатель Аралов, и соединиться там с рыбаками соседних островов.
Никто не имел права действовать самовольно или же отлучаться в эти дни с острова ни под каким предлогом – за это было обещано строгое наказание.
Ждали, что огромный косяк рыбы пойдет мимо острова к дельте реки в нерестилища. Вот тут-то его и должны были подстеречь, окружить и выловить.
Недавно уже поднимали рыбаков по тревоге. Но, когда добрались к дельте реки, выяснилось, что надо возвращаться обратно по домам – то ли косяк ушел туда, где его меньше всего ждали, то ли летчикам от усталости просто что-то померещилось.
На узкой полосе мола теперь и варили, и ели, и спали, и любили.
Калихан умер здесь вчера от старости.
Спрятавшись в камышах, Каип наблюдал за спящими, видел, как дремлет, держа перед собой тлеющий факел, часовой Мосулманбек – злой натуры старик.
Все же остальные не были видны в полумраке. И только по тому, кто в какой позе сидит, Каип узнавал их и вспоминал имена и клички – Кашча, Палван, Безбородый Ванька…
Почему-то вспомнил Каип, как приехал однажды бригадир на проверку и вот так же, спрятавшись в камышах, закричал во всю глотку, чтобы подшутить над спящими: «Эй, Кашча!» – и выпала у старика из руки кость, которую он грыз и уснул с ней. И все проснулись, и захохотали, и кричали: «Кашча, Кашча!» – и толкали старика в песок, и тот, стыдясь, уполз куда-то в темноту.
Слышно было, как трутся друг о друга боками лодки, как скрипят они, ударяясь носами от ветра. Самих лодок не было видно: спрятаны за камышами в бухточке, где сторожем Ермолай. Каип вышел из воды и неслышно подкрался к Ермолаю, сел. Чуткий Ермолай тут же очнулся и уставился на Каипа, заметив в нем многие перемены.
Глубокие, пораненные солью морщины чуть сгладились, на мертвых пятнах щеки, где ранее не росла борода, пробились черные волосы, а в глазах, с мольбой смотрящих на друга-часового, исчез желтый, болезненный цвет, и перестали они слезоточить.
– Что случилось? – заволновался Ермолай.
Каип не знал, с чего начать.
– Ты ведь, кажется, болен? – продолжал недоумевать Ермолай.
– Мне нужна лодка. Вернусь к утру, – сказал Каип.
Сказал и сам удивился, но не тому, что легко солгал, хотя уже не имел на это права, а тому, что Ермолай, не спросив ни о чем, согласно кивнул. Не знал старик, что Прошка после их разговора прибежал к отцу: «Вот видишь, отец, и дядя Каип теперь воровать собрался, а ты говорил – святой он…» – «Молчи, не понимаешь ты многого», – прогнал Прошку отец и, пока Каип пробирался к причалу, о многом передумал и, ничуть не осудив друга, задремал в тоске.
Ну что же, Каипу, верно, захотелось половить рыбу. С такими просьбами почти каждую ночь обращаются к часовым, и те, уверенные, что и сегодня лодки не пригодятся для путины, соглашаются помочь на свой страх и риск. И в виде мзды берут потом у ночных воров часть рыбы.
– Не успеешь ты до рассвета, – трезво рассудил Ермолай.
– Успею, успею, – заверил часового Каип. – Не беспокойся.
– Смотри! – для пущей убедительности сказал Ермолай, обиженный тем, что Каип не делился с ним подробностями своей ночной вылазки.
С трудом пробирались они к бухточке, путаясь в болотных растениях, которыми покрылась вся прибрежная полоса моря. Трудно было также и из-за паров, осевших в камышах, задыхались. Как только сгибали камыши, пар окутывал их с ног до головы, покрывая тела липкой желтой водой.
Раз на их пути повстречались люди. Отчаянно гребли они, пытаясь выбраться из камышей на берег, дичали и ругались и, чем больше нервничали, тем глубже запутывались в зарослях, теряя дорогу.

Каип спрятался, а Ермолай подошел к лодкам и начал переговоры.
Люди эти оказались рыбаками с соседнего острова, поднятыми ложной тревогой. Как и люди Песчаного, они ждали путину – и вот в полночь пришел приказ идти курсом к Песчаному, откуда якобы и должен пойти косяк.
Ермолай все толково объяснил соседям, и те, успокоившись, повеселели и повернули лодки обратно.
Еще долго были слышны их голоса в море, затем в тишине только плеск весел, а когда соседи уплыли далеко, кто-то из них запел.
Голос его, приглушенный и искаженный морем, был похож на крик заблудившейся птицы, потом все утихло.
Когда пришли в бухточку к лодкам, Ермолаю захотелось посидеть немного с другом, покурить, но Каип очень торопился. И показывал на небо, откуда подкрадывалось утро нового, тревожного для него дня.
Они выбрали большую крепкую лодку, освободили ее от цепи. Каип упал, поскользнувшись об ил, рассек подбородок, но боли не почувствовал.
Далеко в море Каип наконец взобрался в лодку
Ермолай не уходил назад. Он плыл за лодкой Каипа и подталкивал ее.
На острове, откуда Каип уплывал навсегда, последним приветом мерцал огонек факела.
Потом зажегся второй факел, третий, и вскоре на всем берегу замигали огни, споря о чем-то с высоким маяком на холме.
Когда Каип опомнился, Ермолая уже не было возле лодки. И только по тому, как вдалеке плескалась вода, старик догадался, что друг благополучно добрался назад, на остров.
3
Нет у Каипа времени ни сожалеть, ни предаваться воспоминаниям. Ни тем более думать о будущем – впереди все неизвестно.
Он плыл. Он знает в море каждый риф, каждую скалу и каждое течение.
Скоро лодка одолеет полосу, где остров омывается морем, обогнет треснувшую пополам скалу, на которой стоит слепой маяк, и дальше надо плыть по течению реки.
Всегда ленивая, эта река, впадая в море, образует быстрое течение, перекатываясь через пороги; поймав лодку, стремительно несет ее и кружится вместе с судном. Если хоть раз дрогнет рука или зазевается рыбак, на третьем или на пятом круге можно оказаться выброшенным в море. Лодку опрокидывает вверх дном, а на рыбака наваливаются бревна и гнилые ящики. Нужно достаточно мужества и сноровки, чтобы спасти лодку.
Зато потом уже до самого Зеленого лодку саму несет другое, мирное течение – тишь и благодать!
Но и здесь отдых длится недолго. Впереди, в прибрежных водах Зеленого, лодку подстерегает более тяжкое испытание.
Рассказывали Каипу, что в иные дни во время приливов никак не удается пристать к берегу. Идя ровно и быстро, лодка в какое-то мгновение срывается и бежит, бежит безостановочно, несет ее вокруг острова, не приближая и не удаляя ни на дюйм, словно что-то притягивает судно к себе и не отпускает, ждет, пока прилив не сменится отливом.
С берега, конечно, могут заметить лодку и выловить ее канатами. Но чаще всего на берегу возле лечебницы сидят больные. И единственно, что они могут сделать, – это звать других, здоровых, на помощь, если таковые бродят поблизости.
Никто не может объяснить, что происходит с течением в такие дни, но таких дней, к счастью, не очень много. Чаще всего вода вокруг Зеленого спокойна, даже мертва, и лодкам, пристающим к берегу, не грозит опасность.
Сделав два резких круга, лодка Каипа выбралась в безопасную зону, старик вынул весла из воды и, тяжело дыша, лег на дно – лихорадило. Он даже подумал, что, истратив последние силы на борьбу с течением, теперь не встанет – умрет раньше времени. А ведь старику хотелось о многом важном переговорить с самим собой, с этим морем, где прошла его жизнь, с рыбами, чайками.
«Он породил меня, пустил повидать свет и вот теперь сказал: ну довольно, возвращайся. Вот так и я позову сына. Видно, все мы в роду не можем друг без друга: будем плавать рыбами, собравшись в косяк», – подумал Каип об отце Исхаке.
И сразу же из глубины сознания всплыло детство, то, что Каип лучше всего помнил, сохранил в себе, сберегая чистым и ясным.
«В тот год мы сидели без рыбы – в море был шторм… – вспоминал старик. – Сейчас, видно, море устало: когда сердится, поползет на берег, потом, одумавшись, возвращается, забрав с собой самую малость – камни и ракушки… Подобрело море. А в тот год ему нужны были людские тела…»
Отец лепил и обжигал кувшины. Потом топил в море – никто их не покупал. «Будет пророк наш, господин Сулейман, запечатывать в моих кувшинах джиннов», – мрачно шутил он…
Отец построил себе новый дом, а нас с матерью оставил в старом. Мать с ума сходила, хотелось ей ласки, но отец гнал ее. Странно, но у старух желания живут дольше, чем у стариков, к семидесяти годам к ним возвращается девичье сумасшествие.
В то утро, когда отцу вдруг приснился коршун, мы с матерью работали во дворе. Мать подумала, что уходит отец за хворостом, и приказала мне вынести ему веревку. Старухи никогда не знают, когда уходят их мужья. Впрочем, старики тоже. Я вот тоже не знал о моей старухе. Она умерла просто, так же просто, как и жила. Уснула – и умерла не простившись. Старух, видно, никто не зовет. Мужчины хотят жить сами в своей второй жизни, бестелые и бесплодные…
Река была высохшая. Хрустела соль под ногами. Странно – отец шел, поглядывая на дно реки, боясь раздавить всяких жучков. А твари эти, жучки, осмелев, цеплялись за штанины отца и царапали ему ноги…
Вскоре отец пришел к тому месту, где обычно прятал силок. Он опустился на колени и освободил еле живого зайца. Казалось, что отец, как всегда, свернув шею зайцу, спрячет зверька за пазуху, радуясь удаче. Но он разорвал на себе рубашку, старательно перевязал зайцу пораненные лапы, положил на живое мясо корни саксаула для лечения. Затем просунул язык в горло зверька и напоил зайца влагой из своего тела… Заяц встал на лапы и, оглядываясь, ушел в пустыню…
За свою долгую жизнь отец истребил много всякого беззащитного зверья, вырвал и сжег траву и кустарники, перерви пустыню и выловил живое в море – жил, как и все пастухи, охотники и рыбаки, чтобы прокормить семью. И вот теперь, когда природа позвала его к себе, пришло к отцу желание хоть как-то искупить вину, хоть что-то восстановить в природе, сделать так, как было до него, будто он, отец, никогда и не был среди нас, людей…
Было страшно, – вспоминал Каип. – Я побежал к отцу, но он продолжал смотреть, как уходит заяц. Отец был уже наполовину мертв. То, что еще жило в нем, помогло отцу встать. Словно он еще надеялся. Словно не знал, что сильно только добро живого, а мертвый все напутает и усугубит.
Так шел отец, поправляя кусты и освобождая разных тварей из плена, ветер же тем временем выдул из него все тепло и унес в пустыню, усиливая зной
Я заплакал и бросился в поселок звать людей. И когда мы вернулись, отец уже лежал на песке и над ним кружились коршуны. Он даже не успел порадоваться. Ведь прилетели коршуны, чтобы съесть его труп и восстановить в природе разумное…
Каип, забеспокоившись, с трудом приподнялся, сел и ухватился за борт лодки.
Прищурил глаза и вдруг отчетливо увидел Зеленый остров – огромную черную скалу в тумане.
Родина! Родина!
Среди камней и зеленых холмов здесь бьет родник, окруженный деревьями. И тем, кто привык уже к унылому однообразию моря, зеленый мир острова видится как чудо, как плата за долгий путь и усталость. Ведь не зря здесь, на Зеленом, собраны со всего моря больные и немощные в одной большой лечебнице.
И еще слышны голоса людей, идущие не то с берега, не то из глубины острова, и как что-то большое, металлическое работает зубчатыми колесами, как бьется жернов о камень. Одни только звуки…
А как там, у берега? Примет ли Каипа родина или же лодку его бросит в стремительный бег вокруг острова? Умереть у врат родины – можно ли придумать человеку более постыдный конец?
Каип опустил весла и стал помогать лодке Но от его движений лодка ушла в сторону – ей надо самой плыть навстречу неизвестному. И человек тут не помощник.
Каип лег, вновь почувствовал усталость. Все, что должно быть, будет, решил старик, на большее рассчитывать не приходится.
Так лежал он с закрытыми глазами, и по тому, как брызги запрыгали ему на лицо, Каип понял, что течение начало меняться…
«Только бы успеть ее повидать, – подумал Каип. – Выйду на берег… Она должна быть уже очень старой. Тот рыбак говорил, что она бродит возле больницы, предлагая копченую рыбу. Там я и найду ее… Хорошо, что я успел позвать сына обратно на остров, к жене К старости я, кажется, подобрел. Но добреем мы уже тогда, когда устаем от суеты. Поздно добреем… Интересно: все ли, кто совершил когда-то подлость и предательство, все ли терзаются? Или есть и такие, в ком совесть давно умерла? А сами они уходят в могилу пустыми и бездушными. Как будто с них уже никто ничего не спросит…»
Неожиданно старик услышал странный гул – лодку сильно качнуло, понесло в сторону. Раздался отчетливо чей-то голос: «Стой, стрелять буду!» и за бортом затрясся высокий, как скала, черный предмет.
Каип хотел подняться, но не смог. Лодку снова тряхнуло – и старик упал, ударившись головой о днище. В лодку полетел канат и последовал приказ:
– Завязывай!
Каип, повинуясь, взял канат, но от неожиданности, потеряв всякую сообразительность, не знал, что и куда завязывать. Лучше бы ему приказывали и направляли.








