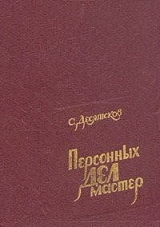
Текст книги "Персонных дел мастер"
Автор книги: Станислав Десятсков
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 45 (всего у книги 45 страниц)
Конечно, эти скромные привычки были в обычае у Петра и раньше, но не отказывался же он от роскошных ужинов в Антверпене и Брюсселе! Скорее всего, здесь был ответ сердца: столь великую нищету узрел Петр по дороге из Кале в Париж. В отличие от богатого Брабанта провинции Северной Франции поражали такой нищетой, что казалось – здесь прошло нашествие страшного неприятеля, хотя никаких военных действий от Кале до Парижа не велось. Крестьянские дома напоминали самые убогие хижины: стояли без окон (ведь за каждое окно брали отдельный налог и король, и сеньор), без печных труб (брали подать за дым), с прохудившимися крышами, а выползавшие из хижин люди в лохмотьях выглядели еще хуже, чем нищие, толпившиеся у церквей и вдоль дороги. Подчеркнутая роскошь французской знати среди моря бедности выглядела в глазах Петра как пир во время чумы, и потому он отвергал пиршества и празднества, тяготился бесконечными визитами и церемониями, которые мешали увидеть ему другой Париж – город ремесел, искусств и науки. Потому и полетело такое письмо в Амстердам: «Катеринушка, друг мой сердечный, здравствуй! Объявляю вам, что я третьего дня ввечеру прибыл сюда благополучно и два или три дня вынужден в доме быть для визита и протчей церемонии и для того еще ничего не видал здесь, а с завтра начну все смотреть. А сколько дорогою видели, бедность в людях подлых великая! Петр».
Некоторых визитов никак нельзя было избежать. Само собой, пришлось принять регента Франции герцога Орлеанского. Оба были люди веселые, свободные, самого что ни есть крепкого мужского возраста и разумения. И оба понравились друг другу.
Петр предложил регенту полную перемену в восточной политике – Франции. Этот, по мнению придворных шаркунов, мужлан и неуч, не умевший отличить один соус от другого, предложил регенту план, который возобновит только Наполеон и который полностью состоится только еще через сто лет: создать франко-русский союз и на сей прочной оси замирить всю Европу.
Среди французских политиков того времени только один из умнейших, знаменитый герцог Сен-Симон оценил царские пропозиции и верно понял всю выгоду предложенного альянса с Россией.
«Ничто более сего не могло благоприятствовать нашей торговле и нашему весу на Севере, в Германии и в целой Европе»,– писал он впоследствии в своих знаменитых мемуарах. Однако большинство советников регента, и прежде всего главный вдохновитель французского кабинета аббат Дюбуа, союзу с Россией предпочитали союз с Англией, от которого в конце концов Франция не выиграла, а проиграла.
Петр I знал, конечно, о борьбе, шедшей в кабинете (Василий Лукич Долгорукий и Куракин имели в Париже своих людей), и не настаивал на скором договоре. Доволен был уже тем, что регент обещал твердо: союз со Швецией не возобновлять и кредит шведам боле не открывать.
Посему, когда плохо осведомленный и верящий разным домыслам и россказням королевский библиотекарь Бюв писал в «Газете Регентства»: «...кажется, у царя нет никаких дел, он редко пишет депеши и не посылает гонцов», он ошибался и вводил в заблуждение своего корреспондента, главу голландского правительства Гейнзиуса. Именно в Париже во время частых встреч и переговоров с регентом, которые шли с глазу на глаз при одном Куракине, как доверенном лице и переводчике, Петр и герцог Орлеанский и порешили ежели и не заключать прямой союз, то подписать дружественный договор, по которому Франция не только прекращала поддержку Швеции, но обещала посредничество в будущих мирных переговорах. Такой договор был согласован и подписан уже после отъезда Петра из Франции, в августе 1717 года в Амстердаме. К Амстердамскому договору присоединилась и Пруссия.
Так что визит в Париж был дипломатической викторией, и немалой: выбили французский костыль из рук шведского короля и сделали тем еще один шаг к прочному миру.
Но все эти переговоры, само собой, оставались тайной для парижского обывателя. Для них Петр поначалу представал загадочным восточным владыкой, вроде турецкого султана или персидского шаха. Посему странный вечерний въезд царя в Париж, без всякой церемонии, когда Петр не хотел даже, чтобы были зажжены сотни факелов, объясняли тем, что царь привез с собой десятки повозок со слитками золота и не хотел сразу показывать свои богатства. Тем времемем парижские купцы, особенно те, кто торговал предметами роскоши, готовились туго набить свои карманы от царских щедрот. Каково же было их разочарование, когда прошел слух, что царь зашел в небогатую меховую лавку и полчаса торговался с приказчиком из-за дешевенькой муфты. Правда, потом он дал приказчику 30 ливров на чай, но все-таки и знать, и купцы были поражены: царь, и торговался с лавочником – французские короли такого обычая не имели.
Вскоре разочаровались и знатные дамы: Петр отказался посетить гомерический бал у герцогини Беррийской, который стоил до ста тысяч ливров, и ночные пиршества, и маскарады, где можно было выбрать себе фаворитку. Золотая молодежь фыркала: царь не заводит метреску, не бросает тысячи на карточный стол и, по слухам, играет только в подкидного дурака. Словом – варвар!
Само собой, лихая слава француженок пугала Екатерину в далеком Амстердаме. Петр ее успокаивал: «Объявляю вам, что в прошлый понедельник визитировал меня здешний королище, дитя зело и изрядное образом и станом и по возрасту своему довольно разумен, которому седмь лет. А что пишешь, что у нас здесь есть портомойки... и то, друг мой, ты, чаю, описалась, понеже у Шафи-рова то есть, а не у меня, сама знаешь, что я не таковский, да и стар».
Однако этот «старик» бегал по Парижу, как молодой горец. А при ответном визите малолетнему королю подхватил понравившегося ему мальчика на руки и легко поднялся с ним по парадной лестнице, громко и весело объявив: «Всю Францию несу на себе». Впоследствии историки доказывали, что это анекдот и что не мог царь нарушить заведенный строгий этикет французского двора, но, зная нелюбовь Петра к разным церемониям, можно поверить в эту историю.
Зато при виде идущей на параде разодетой в пух и прах французской гвардии в завитых париках, парчовых камзолах, атласных туфлях и шелковых чулках, победитель под Полтавой резко обернулся к важным битым маршалам короля-солнца и отчеканил: «Я видел парадных кукол, а не солдат!» – и с облегчением объявил, что на сем конец церемониям.
Наконец-то он был свободен. И он учился: неоднократно посетил гобеленовую фабрику (ему подарили здесь четыре гобелена, вытканные с картин Жувенета) и медальерную мастерскую (такую он потом заведет в Петербурге); в обсерватории в телескоп смотрел на звезды; в Академии живописи интересовался ее уставом и осмотрел мастерские скульпторов и художников; на стекольном заводе изучал выделку больших зеркал и стекол; по дороге в Сен-Клу, где должен был встретиться с регентом Франции, заехал-таки на часок взглянуть на чулочную мануфактуру.
Вскоре высшая французская знать поняла, что Петра можно заманить на бал или ужин скорее всего обещанием показать ему собрание картин или коллекцию редкостей. И в Люксамбургском дворце герцогиня Беррийская показывает ему знаменитую галерею Рубенса, в Лувре он смотрит картины итальянцев; герцог Орлеанский в Сен-Клу демонстрирует ему свою коллекцию живописи.
«Царь носится по Парижу из угла в угол, не соображая, могут ли за ним поспеть его спутники. Маршал де Тессе изнемогает. Герцог д’Антен бежал от двора...» – уныло сообщала «Газета Регентства».
Конечно, уже сам распорядок царского дня утомлял приставленных к нему вельмож. Ведь Петр вставал по-мужицки, в пять утра, а в шесть уже был на улице, одетый в самый скромный костюм: суконный камзол, перепоясанный широким кушаком, матросские штаны, грубые, но крепкие башмаки. Из-под камзола выглядывал ворот простой чистой рубахи, на голове красовался простой парик.
А меж тем обычный туалет французского вельможи заканчивался лишь в двенадцать часов. Каково было бедному маршалу де Тессе быть при Петре уже в шесть утра? А дальше начиналась бесконечная скачка с кратким перерывом на обед. Правда, отходил ко сну Петр совсем «по-мещански», и в девять часов, когда только и начиналась подлинная жизнь французского высшего света, Петр был уже в постели, как простенький буржуа.
Впрочем, высшая знать мало интересовала! Петра, и он отказался принять принцев крови, заявив, что ответные визиты с их бесконечными обедами и возлияниями займут много времени.
«Сам царь трезв!..» – отмечал даже недружелюбный к Петру корреспондент «Газеты Регентства». Правда, поп Битка вовсю наверстывал за царя.
А Петр спешил, словно знал, что он в первый и последний раз в Париже. Ему показали загородные замки и дворцы: Версаль, Марли, Сен-Клу. В Версале его боле всего поразили фонтаны, и среди версальских аллей был окончательно обдуман им Петергоф.
Вернувшись обратно в Париж, он не преминул посетить университет и библиотеку славной Сорбонны. Здесь Петр беседовал с профессором математики Вариньоном и смотрел разные математические инструменты.
18 июня царь удостоил своим посещением и Академию наук. Когда ученые мужи хотели встать, как то было в обычае перед королями Франции, Петр попросил их сидеть и продолжать заседание. Затем ему демонстрировали машину академика Лафея для подъема воды (памятуя о Петергофе, он рассмотрел ее с особым тщанием), академик Лемери демонстрировал химические опыты, а Реомюр показывал рисунки и гравюры к готовящейся «Истории искусств». Особенно долго Петр говорил с академиком Делилем. Знаменитый географ, которому сопровождавший Петра доктор Арескин передал карты Сибири, а также Каспийского и Азовского морей, увлеченно стал расспрашивать и Петра, и Арескина, известно ли им, где соединяются Азия и Северная Америка и нет ли между ними моря или пролива. Петр и сам видел, что на карте здесь белое пятно, и обещал, вернувшись в Россию, тотчас снарядить экспедицию в Сибирь для уяснения сего важного предмета. В разговоре с Петром, к ужасу президента Академии ученого аббата Биньона, разошедшийся Делиль совсем забыл о царственном положении собеседника и по своей несносной привычке взял его за пуговицу. Но Петр и не заметил в горячем разговоре этого пустяка.
Посещение Академии наук не осталось без благодетельных последствий. Сами академики от визита Петра б.ыли в видимом восхищении – ведь французские монархи боле интересовались охотой и метресками, нежели наукой. И вскоре после отъезда царя из Франции Академия предложила избрать Петра своим почетным членом. Петр выразил прямое удовольствие, и Арескин по его поручению написал благодарственное письмо: «Его величество очень доволен тем, что ваше знаменитое общество собирается включить его в число своих членов и посылать ему свои труды с 1699 года... он совершенно разделяет ваше мнение о значении в науке не столько знатности, сколько гения, таланта и способности их использования. Точными исследованиями всякого рода и присылкой куриозатов, находимых в государстве, и новыми открытиями, о которых он намерен сообщать вам, его величество надеется заслужить звание действительного члена вашего знаменитого собрания».
По получении этого письма 22 декабря 1718 года Парижская академия наук единогласно и без баллотирования избрала Петра своим действительным членом.
И Петр сразу показал, что он не намерен бездействовать. Уже в 1719 году в Сибирь была отправлена им научная экспедиция Готлиба Мессершмидта, и вслед за тем напечатана новая карта Сибири, а в 1721 году с царским библиотекарем была прислана в Париж новая карта Каспийского моря. Человечество открывало для себя новые края и моря на еще не обжитой им полностью земле. И Петр хотел, дабы и русский народ принял в том прямое участие. Незадолго до кончины он отправляет экспедицию Беринга искать край Азии, где она смыкается с Америкой,. выполняя тем свое обещание Делилю. Так и здесь посещение Парижа оставило свой след. А Версаль ожил в плеске петергофских фонтанов.
Вообще в Париже Петру столь страстно захотелось строить (наверное, потому, что война шла к концу), что он повелел немедля снять планы со всех дворцов французской столицы для своего невского парадиза.
Именно с того часа царь начал также ставить знатных архитекторов наравне с генералами и платить им соответственное жалованье. А строить и поправлять надобно было многое – из Петербурга Меншиков доносил, что на сильном балтийском ветру голландская черепица осыпается с крыш. Тут было не до сладкой жизни. И Петр покидает столь любезный сердцу Париж, пробыв в нем всего сорок четыре дня. Впереди его ждала огромная недостроенная храмина – Россия.
Путешествие на остров Цитеры
В рубенсовской галерее Люксамбура Никите случилось познакомиться с молодым художником, который даже не отрекомендовался, а сухо прокашлял: «Антуан Ватто». Знакомству сему он был обязан, само собой, Сержу Строганову, только что приобретшему небольшой этюд Ватто.
Молодой французский мастер, судя по всему, был беден яко церковная крыса и посему был приятно потрясен щедростью российского мецената. Серж Строганов вынул толстый кошель не задумываясь. Надобно сказать, что ежели большинство российских учеников за границей немало бедствовало, содержась только на скудный государев кошт (к тому же пансионы часто задерживались, и тогда россиянам приходилось взывать к милости городских властей), то купчина Строганов-отец в деньгах любимому чаду николи не отказывал.
А Ватто жил в те дни еще трудно: его маленькие фландрские картинки не расходились, а к своей большой картине он еще только подступал. Молодой Антуан чувствовал себя в веселом Париже таким же одиноким чужаком, как и Никита. Токмо русский мастер знал, что он непременно вернется на родину, а Антуану некуда было уезжать – он мог бежать лишь в мечту.
– У человека есть два мира: первый – грубый и черствый, в коем мы все обитаем, а рядом иной, как бы за театральной ширмой,– мир мечты и волшебных грез! Но одни художники и поэты да еще влюбленные проникают в тот сладкий запретный мир! – с жаром объяснял Антуан своим новоявленным русским знакомцам,– И только кисть великого мастера способна запечатлеть тот дивный мир!
– А как же тогда с портретом? Ведь все наши модели, они-то из первого мира? – спрашивал Никита.
– О, это не просто! Видимость, которую ты точно передаешь с модели,– это только одна наружность. Но ежели ты уловил на портрете взгляд, а во взгляде уловил мечту человека,– это уже поэзия, это искусство.
– Ну а ордена и бантики, о коих твердит нам Никола Ларжильер?
– Все это кухня мастера, мой друг, только кухня. Главное в живописи: дымка мечты, далекий и близкий остров влюбленных, остров Цитеры, или Киферы, как говорили древние.
Той зимой Антуан Ватто и писал свою знаменитую картину «Путешествие на остров Цитеры», которую собирался представить на суд Академии.
На сей раз суд тот оказался счастливым. Академия удостоила его звания «живописца галантных празднеств». И к тому же его заметил и пригласил писать декорации для своего домашнего театра знаменитый собиратель картин Кроза. Этот бывший банкир и откупщик, некогда субсидировавший самих королей, отошел вдруг от дел и зажил сказочной жизнью, где не было ни дел, ни политики, а был только бесконечный праздник. И самой большой его страстью в сем празднике жизни были не вино и женщины, а театр, цветы, музыка и в первую очередь живопись. Для Кроза «Путешествие на остров Цитеры» прозвучало как призыв родственной души, и он не только разыскал Ватто и стал давать ему заказы, но и поселил в свой дом, как ближайшего друга с нежной и мечтательной душой.
Надобно ли удивляться, что Ватто ничего не стоило уговорить Кроза открыть двери своей знаменитой галереи для московита, влюбленного в Тициана. Никита увидел в галерее Кроза многих знакомых уже ему мастеров, но перед одним остановился и прочитал: «Рембрандт». С портретов этого великого голландца, как из таинственного полумрака, высвечивали лица, поражавшие силой духа и реализмом жизни.
Так еще один мастер словно осенил Никиту своим крылом, и снова он чувствовал себя маленьким учеником, как и перед Тицианом. И снова ему, как когда-то в Дрездене, показалось, что он никогда не достигнет совершенства великих учителей. И оттого пришли сомнения, горечь и мука.
Меж тем в картинную галерею из сада, где на открытой сцене давал спектакль домашний театр Кроза, доносились звуки флейт, гобоев, щебетание птиц и нежные женские голоса. И вспомнилась Флоренция, Мари и украденная любовь. И оттого горечь совсем переполнила душу.
Здесь-то и подошел Ватто и участливо улыбнулся:
– Ну что, мой друг, ты тоже чувствуешь себя как бедный Пьеро перед великими мастерами? Но не грусти, разве ты николь не замечал: пусть мы и не достигнем их совершенства, но ведь мы совсем иные! И если я открываю своими картинами новую страницу искусства во
Франции, то ты вообще счастливый человек – с тебя начнется вся новая живопись на твоей родине!
И странно, Никита, который плохо владел французским, отлично понял, о чем хотел ему сказать Антуан Ватто в тот нежный весенний день в саду веселящегося Кроза! И на душе стало легче: ведь он и впрямь будет первым там, в России! И с молодой беспечностью он бросился веселиться вслед за звавшим его в сад беспечальным Сержем Строгановым. Когда же вечером он вернулся с этого праздника на острове Цитеры на свой бедный чердак, то, распахнув дверь, угодил вдруг в крепкие объятия брата Романа, которого он ждал где угодно, но только не в Париже.
– Я тебя, чертушку, целый день поджидаю, а он песенки французские распевает и винищем от него разит! – весело рассмеялся Роман, внимательно изучая своего долговязого и милого брата. – Хорошо еще, что свое оружие с собой повсюду таскаешь! – Роман показал на мольберт: – Значит, не токмо по парижским девкам бегаешь и амуры крутишь! – И, став серьезным, добавил: – А я ведь к тебе, брат, по делу. Тебя сам государь ждет!
– Петр Алексеевич уже здесь, в Париже?! – изумился Никита. Он слышал, конечно, от Зотова, что Петр вот-вот пожалует на берега Сены, но никак не ждал, что это случится столь скоро.
– Видно, забыл государеву привычку во всем поспешать. Второй день, как приехал, а уже зовет, хочет взглянуть на твои успехи, с тем и меня послал. Я бы в сем Вавилоне тебя и не нашел, да спасибо Коиону Зотову, сам на твой чердак отвел.– Роман не без пренебрежения оглядел грязноватую мастерскую, по которой были разбросаны холсты, кисти, подрамники.– Плохо живешь, братец, а ведь ты старшой, уже тридцать стукнуло. А что имеешь: конуру с красками да дом-развалюху на московском подворье? Был я проездом в Москве – приказал хоть крышу заново перекрыть. Да и то не один ведь гостил в первопрестольной, а со своей новой хозяюшкой!
Из редких писем брата Никита ведал о страшной смерти Марийки, но что брат женился – то была новина!
– Так кто же она, новая суженая, из каких краев? – пристал он к брату с расспросами.
– Да наша, новгородская, сам увидишь.– Роман лихо подкрутил ус.– Как полк получил, так и женился.
– Выходит, ты, Ромка, уже полковник?! – еще более удивился Никита,
– Да что я, Кирилыч и тот за финский поход и Гангут капитанского чина сподобился. Среди нас троих один ты в отставных поручиках ходишь.
– Оно так, да не чином, брат, в нашем ремесле берут! – Теперь уже рассмеялся Никита.– И о поездке своей долгой не жалею: есть чему здесь поучиться, за тем и государь сюда, чаю, явился.
При упоминании царского имени Роман сразу приобрел суровый и строгий воинский вид.
– Надобно спешить и завтра же показать государю наилучшие работы, пока царь еще принимает визитеров и никуда не выходит! – Роман уже не говорил, а приказывал.
Утром, когда отбирали картины и Никита рылся в ворохе полотен, красок и ветоши, Роман вдруг расчувствовался, глядя на худобу брата и неуютность его чердака, и подступил твердо, по-родственному:
– Домой, брат! Пора! Эвон сколько намалевал! Все здешние картины все одно не перепишешь. А в России у тебя свои парсуны пойдут, да и жизнь твоя одинокая поправится! И потом, чаю, ты здесь все тонкости и хитрости живописного письма давно одолел!
– Вот сие мы ныне на экзамене у великого государя и увидим! – И Никита нежданно для себя оробел, вспомнив, сколь суров, по рассказам других питомцев Конона Зотова, бывает государь на экзаменах. И, отбирая этюды и эскизы, галантные праздники он отставил, – время для них в России еще не пришло.
И был прав, выставив перед Петром прежде всего портреты различных персон. Ведь за тем его царь и посылал на долгие годы за границу: стать добрым персонных дел мастером.
Впрочем, Петр был в хорошем расположении духа: его только что визитировал мальчонка-король Людовик XV. И потом у Петра на руках было уже известное письмо от великого герцога Тосканы с похвальным отзывом о таланте российского живописца. И снова Никита близко узрел страшные царские глаза, от взгляда коих иные падали в обморок. Ему же, как персонных дел мастеру, надлежало те глаза писать.
Царь взял, по своему обыкновению, Никиту обеими руками за голову, глянул пытливо, но не гневно и, словно убедившись еще раз в верности своих мыслей, поцеловал его в лоб. Затем спросил весело:
– Вот брат наш, великий герцог тосканский, пишет, что ты и среди тамошних мастеров в отличку идешь! Так ли сие?
– За мастера говорят его работы, государь! – И Никита склонил голову.
– Верно! – Петру самому, как корабелу, плотнику и токарю, нравилось, когда работу можно показать лицом.
И, взглянув на картины Никиты, безошибочно выделил две: портрет Мари и недавно законченный Никитой портрет Строганова.
– Постой, а ведь эту персону я сразу узнал,– то фрейлина у Кати – молодая Голицына. А вот кто сей шалопай? – И Петр, к ужасу Сержа Строганова, стоявшего в углу залы среди других учеников Конона Зотова, грозно нахмурил брови.
На портрете том молодой Строганов, умоливший дру-га-живописца одеть его в настоящие баронские латы и пустить через грудь орденскую ленту, этаким беспечным мотыльком, в модном парике и с лукавой улыбкой, скользил в грациозном менуэте по навощенному паркету.
И тут Петр, помнивший по своим делам тысячи лиц и уже оттого умевший легко определять сходство, выделил вдруг Строганова среди трех десятков учеников, толпящихся вокруг Зотова, яко молодые гуси вокруг гусыни, и воскликнул, как бы в изумлении:
– Да вот же он! – И тут поманил его пальцем и спросил с притворной лаской, топорща, однако, усы, как хищный кот: – А имя-то твое как, молодец?
Стоящие за спиной Петра Ягужинский и Шафиров тревожно переглянулись: оба отлично ведали, что Петр так начинал в застенках Преображенского самые свои жестокие розыски. Однако вмешаться вельможи поопаса-лись.
И здесь своего друга выручил Никита. Шагнув вперед, он весело заявил:
– А имени у сего молодца на портрете нет, государь!
– То есть как? – Петр отвернулся от Строганова.
– А так, что для меня это только модель, государь! Ведь для художника, дабы руку поупражнять, всегда натура требуется. А здесь, в Париже, натурщики деньги не берут, а гребут! Вот я и попросил российских учеников быть у меня натурщиками, то бишь моделями на разных полотнах.
– Ох и шельмец ты, оказывается, брат Никита! —• Петр, который был отходчив, снова возложил свою длань на голову мастера.– Будь ты не добрый мастер, не пожалел бы. Ты что же, думаешь, я сына купчины Строганова не спознал? Да сей поросенок – вылитый портрет своего батюшки в молодости. И не помогай его батюшка мне так крепко в свейскую войну, я бы сего молодца не пожалел, огрел дубиной за роскошь и мотовство!
И, снова повернувшись к Сержу Строганову, сказал уже отходчиво:
– Ты зачем, дурень, розовые бантики на штанишки одел? – И захохотал так заразительно, что и все грохнули. Потом спросил сквозь смех: – Чему же ты учишься, молодец?
– Философии, государь! – жалко пролепетал Строганов, кляня себя за то, что решил вырядиться по последней моде французских маркизов.
– В чем же твоя философия? – спросил Петр уже серьезно.
И здесь Серж опять ляпнул:
– По Эпикуру, государь,– жить и наслаждаться! – И, видя, что Петр молчит выжидающе, обрадованно продолжал: – Порхать нежным зефиром по лугам и рощам, брать долги и николи их не отдавать...
В свите опять засмеялись, но Петр остался на сей раз грустным и сказал как бы про себя:
– Того и боюсь! Умру я, они и помчатся в Европу не за умом и разумом, а за легким зефиром! – И, обращаясь к Зотову, строго наказал: – Ты этого философа немедля отправь в Петербург, да пусть его определят в полк! У нас еще война идет, и не время нам по лугам и рощам этакими козликами в бантиках розовых скакать! – И, взглянув на Никиту, усмехнулся.– Да вот пусть он с Никитой и едет, коли тому модель все время потребна!
Тебе ж, брат,– Петр снова подошел к Никите, взял его за голову и опять поцеловал в лоб,– спасибо! Добрый для России мастер народился! Могут, значит, и из нашего народа быть добрые мастера! – И тут же распорядился: – Ехать тебе в Петербург немедля. И чин твой отныне – персонных дел мастер! – Затем, обратившись к Ягужинскому, Петр добавил: – А ты, господин генерал-прокурор, впиши в Табель о рангах, что отныне «персонных дел мастер» равен чину полковника.
Тем царский экзамен для Никиты и кончился.
– Ну вот, брат, оба мы, выходит, с тобой полковники! – от души обрадовался Роман за брата.– И чаю, наш поход заграничный к концу идет.
– А помнишь, как сей поход начинался? – задумчиво спросил Никита, глядя из окна своей мансарды на море черепичных парижских крыш.
– Как же, сидели у Спаса на Нередице в Новгороде, уху с Кирилычем варили.
– А я даже запах той ушицы помню! – вырвалось у Никиты.– И еще небо – столь высокое небо токмо в России и есть. И мне надобно еще написать его – русское небо!
notes
1
Ретраншемент (фр. retranchement) – укрепление в XVI – XIX вв., располагавшееся позади первой позиции оборонявшихся.
2
Так называли сторонников Станислава Лещинского.
3
Транжамент (разг.) – от «ретраншемент».
4
Буджакская Орда, подчиненная крымскому хану, кочевала между Днепром и Днестром и имела своего правителя – калгу-салтана.
5
Шанцы – окопы, в которых устанавливали пушки; апроши – линия траншей, подводящих к стенам крепости.
6
Тет-де-пон – предмостное укрепление.
7
Номады – степные кочевники.
8
Топчи-бей – начальник артиллерии в тогдашней турецкой армии.
16 С. Г. Десятсков
9
Один – один из богов скандинавской мифологии.
10
Нетчики – дворяне, уклонившиеся от воинской службы.
11
Твермянне – бухта на южном побережье Финляндии.
12
Шаутбенахт (гол.) – равносильно первому адмиральскому званию контр-адмирала.
13
Фендрик – младший офицерский чин в шведской артиллерии.
14
Чинквеченто (итал.) – Высокое Возрождение.
15
Шнява и бригантина – легкие посыльные суда.
16
Брандвахта – передовой морской дозор.
17
Сойма – рыбацкое старинное судно.
18
Деметра – богиня плодородия (греч.).








