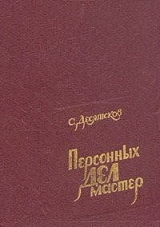
Текст книги "Персонных дел мастер"
Автор книги: Станислав Десятсков
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 39 (всего у книги 45 страниц)
Но вот и шведские бомбардиры выволокли пушки из транжамента и потащили их на холм.
– Да что же это деется? Почему не выступаем? – подскакал, размахивая нагайкой, атаман Фролов...
– Экая казацкая вольница...– сердито посмотрел на него Бутурлин, но в сей миг над лесом взлетела еще одна ракета, и ничего не оставалось делать Ивану Бутурлину, как махнуть рукой: – Выступаем!
Лавина рейтар Ла Бара, обойдя новгородцев с фланга, смяла усталые эскадроны и прорвалась в тыл русских, казалось все сметая на своем пути.
– Молодец, гасконец! Вот видите, Карл, а вы называли его пустым бахвалом! – Армфельд со своего холма с радостью следил за этой атакой.
Но что это, русские сумели на руках перетащить через эти леса даже пушки! С опушки шесть русских орудий ударили картечью по рейтарам Ла Бара, и великолепно начатая атака захлебнулась. А тут еще русские драгуны зашли во фланг. Это Роман, взяв эскадроны второй линии, повел их в атаку. И рейтары не выдержали, закружились на месте, а затем начали уходить.
– Урра! – рявкнул над ухом Романа Кирилыч и помчался к нарядному всаднику в роскошном плаще и диковинном шлеме, украшенном перьями. Атака рейтар была отбита.
– Ваше превосходительство, ваше превосходительство! Там справа! – тоскливо потянул Армфельда за рукав его начштаба. Тот обернулся И ахнул. По, большой дороге вдоль реки мчались русские драгуны, а за ними маршировала пехота.
– А мы из транжамента пушки убрали! – с какой-то легкомысленной отчаянностью махнул рукой Армфельд и понял, что снова проиграл сражение. Его начштаба еще распоряжался, приказывал спешно: вызвать ландмилицию Гилленборга, завернуть пушки с холма против новой опасности, но Армфельд понимал, что все это бесполезно, битва проиграна.
Хвастливый Ла Бар вздрогнул, когда на него налетел этот огромный, ревущий «ура!» драгун с татарским арканом. Он наслышан был об этих страшных удавках и, увидев, как этот дикарь в роскошном парике что-то завывает и размахивает верейкой, как-то само собой завернул лошадь и стрелой помчался вслед за рейтарами, обгоняя многих из них по пути на своем превосходном англизированном жеребце. Позже на военном суде гасконец оправдывался, что лошадь-де виновата в сей ретираде, унеся его с поля битвы по своей врожденной прыткости и с испугу, но сам-то он прекрасно знал, что испугалась не лошадь, а сдрейфил он, полковник Ла Бар, увидев этого здоровенного московита, который, улюлюкая и размахивая веревкой, гнал его до самого берега Стор-Кюре. (Заметим, кстати, что военный суд оправданий французика не принял и после Лапполы навсегда отчислил его с королевской службы.)
Кирилыч, глядя с откоса на уходящего по реке нарядного всадника, плюнул и пожалел, что от него ушла столь знатная добыча. Вслед за тем он повернул на звуки полевого горна, призывавшего к новому построению.
Конная ландмилиция графа Гилленборга, к немалому удивлению Армфельда, подоспела вовремя и перерезала путь к мосту драгунам Бутурлина. К тому же шведы успели на сей раз зарядить свои пушки и ударили картечью. Конница Бутурлина стала заворачивать коней.
– Сейчас ваше время, граф! – обратился Армфельд к тучному помещику.– Отомстите за вашего друга Ла Бара.– Гилленборг весело склонил голову в тяжелом дедовском рыцарском шлеме и поскакал с холма вниз, к своей ландмилиции.
– За мной, мои финские мужички, вперед за вашим графом! – громогласно возгласил Гилленборг и, вытащив старинный меч, повел свое конное ополчение в атаку. Но в это время во фланг ландмилиции ударил присланный Голицыным бригадир Чекин с тобольскими драгунами. Для сибиряков двадцатиградусный мороз был пустою забавой, и, выйдя на широкое поле, они пустили вперед своих крепких и выносливых лошадок наперерез ополченцам. Гилленборг хотел было на ходу завернуть ланд-милицию супротив нового противника, но когда обернулся, то увидел, что все его конные ополченцы несутся сломя голову к единственному мосту через Стор-Кюре. Граф не успел завернуть лошадь, как налетевший на него Чекин выбил старинный меч и, приставив к горлу шпагу, сказал насмешливо:
– Хватит кричать, папаша, отвоевался!
Меж тем шведская пехота, видя, что оба фланга смяты русскими, в панике хлынула вслед за рейтарами и ланд-милицией через Стор-Кюре в сторону Лапполы. Но в деревню уже ворвались казаки Фролова. Пешее финское ополчение и не думало сопротивляться отважному атаману: разбежалось по своим деревням и мызам, откуда было насильно согнано шведами на королевскую службу.
Вечером же, после славной виктории, русские офицеры собрались в том самом помещичьем замке, в котором накануне так весело ужинал генерал Армфельд. В приемные покои вносили захваченные шведские знамена, во двор сгоняли сотни пленных. Утром, когда пересчитали число убитых шведов, то их оказалось боле пяти тысяч,– особливо много убитых лежало вдоль реки, где их нещадно рубили казаки и драгуны. Русские потери составили полторы тысячи убитых и раненых. Виктория была полная.
К радостному и сияющему Голицыну приводили все новых и новых пленных шведских офицеров. Среди них был и граф Гилленборг.
– Я коренной финн, ваше сиятельство! Хозяин здешнего поместья. Шведы силой принудили меня вступить в их войско! – с порога объявил Гилленборг.
– Ну что ж! Тогда вы знаете все свои погреба и тайники! Накормите моих офицеров! – распорядился Голицын,– А я наконец побреюсь после столь долгой битвы.
И когда генералы и офицеры собрались за тем же самым столом, где прошлым вечером столь весело ужинал с Ла Баром генерал Армфельд, к ним вышел, слегка прихрамывая (след татарской стрелы под Азовом), чисто выбритый и одетый в белоснежную рубашку под нарядным кафтаном князь Михайло Голицын и, поднимая бокал с пенящимся французским шампанским, услужливо налитым Гилленборгом, весело провозгласил:
– С викторией, камрады! И объявляю вам, что зимняя кампания окончена! Ныне здесь, на суше, мы полные господа! Теперь флоту российскому потребно на море иметь столь же полную и славную викторию, кою армия наша снискала в сей час у Лапполы!
Петр наградил Михаилу Голицына крупной денежной дачей. Получив по весне деньги, князь Михайло все эти крупные суммы потратил на новые сапоги для своих солдат. Узнав о сем неслыханном дотоле поступке, светлейший князь Меншиков в Санкт-Петербурге обозвал героя Лапполы прямым дураком.
Мастер во Флоренции
Из широких окон мастерской маэстро Томмазо Реди, построенной на холмах вблизи монастыря Сан-Марко, из стен которого во времена республики вышел неистовый монах-доминиканец бунтарь Савонарола, Флоренция видна была как на ладони.
Море красных черепичных крыш широкими волнами подступало к площади Синьории; купола и башни бесчисленных церквей и соборов парили над ними, как бы оторвавшись от своего основания; узенькие щели улиц, где было прохладно и в июльскую жару, сбегались к площадям, на которых пышные каштаны бросали густую тень на плитчатую мостовую. Флоренция в такой сияющий июльский день казалась Никите богатой узорчатой шкатулкой, таившей в себе сокровища и тайны искусства итальянского Возрождения.
О тайнах этих сокровищ мог без устали повествовать своим ученикам маленький, горячий и резкий человечек с печальными глазами, хозяин мастерской, маэстро Томмазо Реди. Он был настолько влюблен в Высокое Возрождение, что, казалось, все еще жил там, в той эпохе, а стоявший за широкими окнами мастерской XVIII век был ему чужд и непонятен, хотя он был академиком и числился первым живописцем великого герцога Тосканы.
– С нашим стариком стоит заговорить о Рафаэле и
Микеланджело, как он тотчас забудет все свои придворные чины и звания и станет своим братом-художником! – давно раскусил маэстро весельчак Джованни и широко этим пользовался. Стоило школяру не подготовить задание, как он заводил в мастерской разговор о перспективе Леонардо да Винчи или рисунке Рафаэля, и академик вспыхивал, как фейерверк в вечернем саду, и не видел уже перед собой два десятка учеников, а словно наяву зрил великие тени творцов чинквеченто, уроки коих он почитал обязательными. Другой излюбленной темой маэстро была критика новомодной парижской школы, приукрашивающей и припудривающей свои модели. Особливо ненавистным для академика был знаменитый парижский портретист Ларжильер и его парадные портреты, где «пуговицам на камзоле и орденам на кафтане,– маэстро в этом месте закатывал обычно свои большие выразительные глаза,– уделяется больше внимания, чем человеку!».
В Италии проводником модной парижской школы маэстро Реди считал, к несчастью Никиты, его бывшего учителя Гиссланди, который тоже приукрашивал персоны и, по словам академика, «лгал своим моделям в лицо».
Узнав, что в Венеции Никита проходил школу именно у Гиссланди, академик прямо задохнулся от радости: наконец он мог заговорить, хотя бы через Никиту, со своим противником.
– Я из вас гиссландизм, мой друг, выбью! – с великой радостью объявил академик, поставив жирный крест на первой же работе Никиты.– Это же прямое разрушение искусства, у вас краска висит клочьями, а главное, под краской нет рисунка, основы и станового хребта портрета.
Чему-чему, а рисунку и линии в мастерской маэстро отдавали первое место.
– Добейтесь чистоты линии, и только тогда вы станете подлинным мастером! Так-то, мой гиссландист!– Маэстро изобрел для Никиты эту кличку как бы в наказание за все грехи венецианской школы.
– Париж и Венеция – вот два очага заразы, погубившей высокое искусство... – важно вещал академик своим любимцам.– Ныне от него остались отдельные оазисы, но и в них уже пробираются гиссландисты...– При этом маэстро выразительно показывал на Никиту, старательно срисовывавшего в уголке мастерской скульптурные антики.– И ничто ему не поможет, ничто... – как бы с сожалением покачивал головой маэстро.
И впрямь, прошлое увлечение Тицианом не забывалось, и горячие краски вспыхивали на холстах Никиты как бы сами собой. Маэстро Реди безжалостно отвергал эти работы и, схватившись за голову, носился по мастерской с громким криком: «Гиссландист, упрямый гиссландист!»
– Ты вот что, несравненный тицианец,– насмешливо убеждал Никиту неунывающий Джованни,– Преодолей себя хотя бы раз и выдай нашему старикану божественную Рафаэлеву чистоту. Не то боюсь, что академик даст тебе скверную аттестацию и отчислит тебя по полной неспособности к великому искусству. А ведь у вас в Москве не очень-то разбираются в борьбе разных художественных школ и течений. Для приказного ярыги один черт: что Тициан, что Рафаэль! Им главное – денег тебе больше не слать и тем сберечь государеву казну и получить за то царское поощрение!– Джованни еще мальчишкой несколько лет прожил со своим отцом, почтенным торговцем черной и красной икрой Гваскони, в Москве и наслышан был от папаши о мздоимстве московских приказных.
– Да черт с ним, с пансионом! Не могу я писать так, как это угодно маэстро! Для меня был и будет учителем один Тициан! – сердился Никита.
Джованни в ответ только пожимал плечами. Сам он уже на третьем году кончал курс искусств, не затратив ни особых усилий, ни прилежания. Да и до уроков ли было известному повесе, если все первые красотки Флоренции знали дорогу на его знаменитый чердак, где он устроил мастерскую. Хотя матушка и мечтала видеть своего сынка знаменитым мастером, в берете несравненного Рафаэля, но папаша-то Гваскони лучше знал широкую натуру своего любимого чада и, отправляя его во Флоренцию, просто полагал, что надобно дать сынку два-три года полной свободы, дабы перебесился перед тем, как усядется за купеческие счеты и овладеет двойной итальянской бухгалтерией в отцовской конторе. В любом случае денег торговец русской икрой для своего сынка не жалел, и стены мастерской Джованни были увешаны богатыми коврами и лионскими шелковыми тканями, а вместо алтаря возвышался поистине королевский альков. Что касается мольберта, то ему был уделен скромный уголок у широкого окна, откуда был прекрасный вид на знаменитый купол собора Санта-Мария дели Фьоре.
И Никита куда больше времени проводил за сим мольбертом, чем его хозяин, занятый утехами плоти. Впрочем, на первых порах, пока Никита не освоил тосканский диалект, Джованни был для русского живописца незаменимым чичероне по Флоренции и ее окрестностям. И только в одно место Никита предпочитал ходить один: то была знаменитая галерея Уффици, открытая по распоряжению герцога для учеников Академии. Здесь Никита оставался один на один со своим любимым Тицианом, здесь было и богатейшее собрание других мастеров Возрождения, того славного времени, когда кисть художника-мастера почиталась, как кисть бога.
Джованни же был незаменимым для Никиты и еще в одном отношении – как верный банкир. То ли московские приказные и впрямь усердно экономили государеву казну, то ли, может быть, временами та казна вообще пустовала, но, так или иначе, царев пансион вечно запаздывал, платье Никиты поистрепалось, и бывали дни, когда в кошельке у него не звенело и нескольких сольди. Вот тогда Никита и поднимался в мастерскую своего друга. Надобно отдать должное: Джованни никогда не отказывал в помощи, а когда случалось, что и у него не было денег (поистратился на очередную красотку), друзья выкатывали из чулана бочонок с черной или красной икрой, присланный папашей Гваскони для негоциантских целей, и устраивали пир, черпая икру ложками и запивая ее легким вином, которое Джованни держал вместо воды.
Но сегодня Джованни встретил Никиту с необычной мрачностью: пришло грозное письмо от отца, требовавшего кончать курс живописных наук, сдать экзамен и немедля возвращаться в Венецию. Оттуда ему лежал далекий путь в Россию, где потребно было забрать закупленные приказчиками кади с икрой.
– Батюшка пишет, что стар и хвор и не может совершить столь дальний путь, так что все свои надежды возлагает на меня...
– И что же, ты не хочешь ехать?– спросил Никита.
– Еще как хочу! Ведь путешествие – это приключения, встречи, женщины разных стран! А в море нас могут перехватить шведские каперы, будет баталия. Трам-та-та!– Схватив шпагу, Джованни сделал несколько выпадов.
Никита рассмеялся, так напомнил ему двадцатилетний Джованни братца Ромку в оны годы, когда собирались они в дальние страны в Новгороде.
– Вот ты смеешься, а мне не до смеха...– скова уныло нахмурился Джованни.– Ведь впереди экзамен, а у меня ни одной картины!
– Ну этому горю легко помочь...– легко махнул рукой Никита.
– Как помочь, коль академик требует представить на его суд или свою картину, иль знатную копию? А какие у меня картины, сам видишь!– Джованни со вздохом обернулся к широкому алькову.
– Ладно, бери мою копию с Рафаэлевой «Madonna della Sedia», думаю, угодишь академику.
– А в ней нет духа Гиссланди?– недоверчиво спросил Джованни.
– Нет, нет... Пожалуй, я впервой там нащупал Рафаэлеву линию, – серьезно ответил Никита, который и впрямь несколько последних месяцев бился над копией Рафаэлевой мадонны, понимая, что в чем-то академик прав и что в картине нужен и крепкий рисунок.
– А ведь верно, вылитый Рафаэль! – обрадовался Джованни, когда Никита достал копию,– Ну спасибо, друг, выручил!– И, вспомнив Москву, итальянец полез целоваться с Никитой по-русски, троекратно.
– Поздравляю, синьор Никита! – сдержанно и слегка заикаясь, произнес высокий и мрачноватый испанец Мигель, присутствовавший при этом разговоре,– Старик никогда не подумает, что это ваша кисть. Копия вам сказочно удалась!
Через неделю состоялся знаменитый экзамен красавца Джованни.
«Madonna della Sedia» вызвала в мастерской академика настоящий переполох.
– Вот это работа! Блестящая копия! Не уступит оригиналу!– неслось со всех сторон. Вдруг все стихло, вошел академик. Маэстро долго стоял перед работой, отходил и снова приближался к ней и наконец фыркнул:
– Недурно, очень недурно! – И, переводя глаза с картины на переминающегося с ноги на ногу Джованни, выряженного в щегольской бархатный костюм и бархатный же рафаэлевский берет, вдруг спросил тоненько, совсем по-иезуитски:—А скажите, милейший, правду – это ваша работа?
– Моя! – твердо ответствовал Джованни, преданно выкатив на учителя свои красивые глуповатые глаза.
– Что ж, похвально, похвально! – несколько разочарованно протянул маэстро, а затем опять оживился: – И все же, хотя вы уже мастер, что доказали нам этой несравненной копией, выполните-ка с нами со всеми последний урок – так, простенький рисунок с натуры.
Установив натурщика – дюжего, здоровенного малого, играющего мускулами, на возвышении и убедившись, что все двадцать учеников послушно склонились над рисунком, маэстро Томмазо стал расхаживать между рядами, ведя поучительную и полезную беседу и изредка карандашом поправляя тот или иной рисунок.
И здесь Никита, перехватив отчаянный взор Джованни, взывающего о помощи, нарочито допустил небрежность в рисунке. Этого было достаточно. Академик забыл обо всем на свете: перед ним снова был гиссландист!
– Да ведаете ли вы, варвар, что ваш святоша Гиссланди может писать только нарядные куклы и нагло именовать их портретами? Хуже его один Ларжильер, этот парижский щеголь! – шумел академик, выправляя рисунок Никиты.
– Но Тициан тоже отдавал предпочтение цвету,– осмелился было возразить Никита.
И тут началась буря. Маленький академик взъерошенным воробышком наскакивал на русского варвара, посмевшего иметь свое мнение.
– У вашего светоносна Тициана крайне небрежный рисунок! Никуда не годный рисунок! – кричал академик звонче, чем прачки на реке.– Меж тем рисунок есть основа основ!
Пока маэстро читал Никите свою лекцию, Мигель, который был превосходным графиком, успел срисовать натурщика дважды и перебросил один рисунок Джованни. Разгневанный маэстро ничего не заметил, занятый своим спором с Никитой.
– Нет, вам надобно съездить в Рим, посмотреть работы Рафаэля и Микеланджело!– заключил он свои рацеи,– Только тогда из нашей мастерской испарится дух этого ничтожества, этого Гиссланди!
А Никита с грустью подумал: в какой же Рим он может отправиться, ежели даже не знает, где сегодня пообедает?
Но об обеде на сей раз он напрасно тревожился. Джованни сдал-таки экзамен, предъявив рисунок Мигеля.
– Все правильно, но слишком правильно, – раздраженно проворчал маэстро, разглядывая жульнический шедевр Джованни.– Сухо, очень сухо!Похоже, вы чересчур буквально поняли мои слова об анатомии. Неужели забыли, что великий Леонардо учит нас, что хотя и мадонна не чуждается приливов и отливов крови в своем теле, но в то же время ее лик выше простой анатомии. В нем сокрыта... Впрочем, вы сами нам ответьте: что сокрыто в лике мадонны?– Академик грозно воззрился на красавчика Джованни. Тот завертел башкой, призывая па помощь товарищей.
– Поэзия...– прошептал Никита.
– Поэзия,– согласно зашипел еще добрый десяток товарищей.
– Живопись – немая поэзия, а поэзия – незрячая живопись! – с видимым облегчением вспомнил наконец Джованни слова великого Леонардо.
– А дальше, дальше...– продолжал маэстро наступать на ученика, выставив вперед свою голову, словно собираясь боднуть его в молоденькое брюшко.
Джованни с отчаянием обернулся к товарищам.
– Пи-пи-пи-при-ро-да,– прошептал тут, к несчастью, заика Мигель.
– Дальше пи-пи-пи...– громогласно ляпнул Джованни и удрученно склонил голову.
Мастерская взорвалась от дружного гогота.
– И живопись, и поэзия подражают природе, балбес ты этакий!– Разгневанный маэстро не поддался общему смеху. Повернувшись спиной к школярам, он подошел к копии Рафаэлевой мадонны, еще раз полюбовался ею и вдруг стукнул рукой о стол и рявкнул: – Баста!– Все замерли, а маэстро уже подскочил к Джованни: – Баста! Я не желаю боле иметь дело с лжецом и балбесом! Я не верю, что это ваша работа! Но я хочу сказать вам – ариведерчи! Вот вам диплом! К счастью, в торговых делах живопись будет вам не потребна!– И академик вылетел из мастерской.
Немало пораженный Джованни повертел в руках бумагу с печатью Академии, поглядел на свет и, убедившись, что бумага настоящая, а печать подлинная, тоже грохнул вдруг кулаком о стол:
– Баста! Я свободен! Наконец-то свободен! – И, обратись к товарищам, пригласил всех на прощальный ужин.
Вечером мастерская Джованни гудела от радостных виватов.
– Теперь моя матушка отпустит меня в Россию, повесив сей диплом на самое почетное место в своей опочивальне. Кстати, батюшка пишет, что царь Петр разбил шведов и на море! Потому нет нужды плыть в Архангельск, а можно сразу отправиться в Петербург, а оттуда в Москву. Так что, если хочешь, я буду твоим почтальоном.– Веселый, подвыпивший Джованни обнял Никиту, отошедшего от общего застолья, где художники сидели вперемежку с флорентийскими красавицами, к широкому окну. За окном густые темно-синие сумерки спускались на знойные крыши Флоренции, из узких улочек тянуло августовским жаром – каменные улицы отдавали свое дневное тепло. Как это было не похоже на зеленые, поросшие травой-муравой московские дворики! И Никите захотелось вдруг бросить все и отплыть на корабле вместе с Джованни туда, домой, на свое широкое замоскворецкое подворье, где растут березки-дуняши. Но порыв тот он в себе погасил и виду не подал, научился сдерживать себя, живя столько лет среди иноземцев.
– Смотри-ка, на тебя сама красавица Бьянка поглядывает...– Джованни тащил его уже к столу, к темноглазой красавице с черными волосами, рассыпавшимися по белоснежным плечам.
«Бьянка так Бьянка...» – подумал Никита, перехватив веселый взгляд красавицы.
А на другой день при дружеском расставании Никита передал Джованни заветное письмецо к брату, сам не ведая, дойдет ли оно до адресата.
При прощании итальянец замялся и спросил, может ли он захватить с собой копию рафаэлевской картины.
– Конечно! – Никита весело махнул рукой, – У меня еще много их будет!
На радостях Джованни тут же отсчитал ему двадцать дукатов. Деньги Никита взял: ведь ему предстояла долгая поездка в Рим.
Виктория при Гангуте
Весть о полном разгроме армии Армфельда под Лапполой вызвала в Швеции панику. Даже самым твердолобым каролинцам стало ясно, что русские стоят у шведских ворот. А в скором времени они постучались и в сами ворота. Снаряженный Голицыным и Брюсом отряд майора Аничкова перешел по крепкому льду залив Аланшгаф и совершил рейд на Аландские острова.
– Гляньте, какой трофей взял, господин майор! – браво доложил Кирилыч Аничкову. Весь трофей Кирилыча и его драгун составили два чудака, что взирали на небо через особую подзорную трубу. При расспросе оказалось, что это профессор из университета в Уисале и его ассистент, ведущие на Аландах астрономические наблюдения. Трофей, конечно, был не особо велик, но когда профессор разговорился, то вышло, что он знает о положении Швеции боле, нежели иной генерал или полковник, и его тотчас переправили в Петербург.
По словам профессора, Государственный совет и шведский Сенат были так напуганы приближением русских, что немедля предложили верховное правление младшей сестре короля Ульрике Элеоноре, поелику Карл XII «за слабостью головы правительствовать боле не может». Общее течение дел в Швеции, по словам профессора, идет к перемене правления, шведы измучены и бесконечной войной, и королевскими безумными авантюрами.
О том же сообщал в Петербург и русский посол в Копенгагене Василий Лукич Долгорукий.
И здесь Петр решил обратиться с универсалом к самому шведскому народу, через больную королевскую голову.
Объявив в сем универсале «всю правду и несклонность короля к миру», Петр призывал «всех жителей королевства Шведского понудить свое правительство к скорейшему честному миру».
Разными путями воззвание распространялось по Швеции. Однако по весне, когда вскрылись льды Ботнического залива, отделявшего Швецию от Финляндии, где стояло русское войско, сумасбродная идея продолжать войну до конца снова стала овладевать шведскими верхами. Ульрика Элеонора отказалась возглавить регентство, объявив Сенату, что в мир с царем «без королевской воли вступать не может». А из Турции дошли зловещие слова Карла XII: «...хотя бы вся Швеция пропала, а миру не бывать!»
Вся надежда у шведов ныне строилась на несломленном шведском флоте. В Карлскроне снова подняли боевые вымпелы тридцать линейных судов. Этого, по мнению шведских адмиралов, было достаточно, чтобы сдержать датчан и остановить русских. Флот был последней надеждой шведов.
Уже весной 1714 года Петру и его советникам стало ясно, что, пока сия великая надежда шведов не рухнет,– миру не быть!
И в Петербурге, и в Кроншлоте началась подготовка к решающему морскому походу.Еще зимой на верфях в Новгородском и Старорусском уездах было заложено пятьдесят новых скампавей.
20 мая, как только сошел лед у Березовых островов, флотилия Апраксина, составленная из лучших галер, шхерами двинулась к Гельсингфорсу. Десантную и гребную команду на судах составляли солдаты отборных полков: преображенцы, семеновцы, ингерманландцы и прибывшие с Украйны полки дивизии Вейде. В сикурс к ним в Гельсингфорсе на галеры были посажены победные полки Михайлы Голицына. Всего теперь генерал-адмирал имел девяносто девять галер и пятнадцать тысяч солдат.
Флотилия Апраксина на сей раз благополучно миновала позицию у Тверминне, и генерал-адмирал уже в глубине души надеялся, что без великой баталии дойдет до Або, когда в открытом море у мыса Гангут забелели паруса линейной шведской эскадры – то сам командующий шведским флотом адмирал Ватранг поджидал русских.
Шедшие по берегу драгуны Голицына первыми вступили на полуостров Ганге, который, почитай, на тридцать восемь верст вдавался в море и заканчивался острым мысом Ганге-Удд, по-русски – Гангут. Вылетевший из леса на взморье эскадрон Кирилыча едва не настиг шведских матросов, набиравших на берегу свежую воду. Побросав бочки с питьевой водой, шведы успели в последний миг вскочить в шлюпки и отвалить от берега. Прикрывая шлюпки, ударили пушки шведских шхерботов, которые стояли всего в двухстах метрах от берега. Кирилыч завернул эскадрон в лес. И здесь вышли вдруг на полянку два матроса с поднятыми кверху руками. Оказалось, что то перебежчики, датские торговые моряки, насильно забранные в шведский флот. Кирилыч поспешил доставить пленных в русский лагерь.Вечером Кирилыч со своим трофеем стоял уже навытяжку перед генерал-адмиралом.
– Опять этот старый драгун! – рассмеялся Федор Матвеевич и обратился к Голицыну: – Да что он у тебя, батюшка, вновь за всю армию воюет?!
– Сметлив и удачлив!– серьезно ответствовал Голицын.– Сей вахмистр и под Лапполой отличился, да и на Аландах профессора в полон взял. Почитаю, давно достоин быть офицером!
– Да выправлен вашему герою патент подпоручика,—продолжал улыбаться Федор Матвеевич. – Самим государем выправлен. Иль не дошла еще бумага из нашего штаба до вашего штаба? А коль не дошла, тем лучше. За Лапполу и плененного профессора представляю тебя к чину поручика, а за сих датчан государь, глядишь, ему и капитана даст! Негоже тебе, старый драгун, в легковесных подпоручиках обретаться!
– Так точно, негоже!– радостно рявкнул Кирилыч и покосился на подскакавшего Афоню. Тот слышал весь разговор и, казалось, потемнел от зависти.
Датчане дали важные сведения: у мыса Гангут на пушечной дистанции от берега стоит сам командующий шведским флотом адмирал Ватранг с шестнадцатью линейными кораблями, восемью галерами, двумя бомбардирскими судами и шхерботами. Вторым флагманом у него вице-адмирал Лиллье. Малым флотом командует шаутбенахт Эреншельд. А на Аландах, по слухам, стоят галеры контр-адмирала Таубе.
– Силен швед! – вздохнул Федор Матвеевич, обозрев с лесистого холма растянутую до горизонта линию шведской эскадры. Теплый июньский ветерок лениво колыхал вымпелы на громадах многопушечных шведских кораблей. Тысяча сорок орудий грозно глядели с их высоких бортов.
– Шведа здесь нам не обойти!– хмуро заявил капитан-командор Змаевич. После внезапной и огорчительной кончины графа Боциса многоопытный серб стал у гене-рал-адмирала главным морским советником.– Ныне Ватранг, заняв столь сильную позицию, от Гангута до острова Руссар-з, не только перекрыл нам путь на Або, но может снарядить отряды и против Гельсингфорса, и в Твер-минне, и в Ревель.
– Но в Ревеле под командой Петра Алексеевича стоит наша линейная эскадра в шестнадцать вымпелов,– возразил было Голицын, но Змаевич только усмехнулся неведению сухопутного генерала. Сказал горько:– В Ревеле у шаутбенахта Петра Михайлова не флот, а простое скопище судов с необученной командой. К тому же пять кораблей, закупленных в Голландии и Англии, потребно еще вооружить. Словом, без датской подмоги не сбить нам Ватранга. Швед занял крепчайшую позицию на Балтике и держит здесь, у Гангута, в своих руках все нити кампании!Федор Матвеевич согласно кивал головой, слушая своего советника. Он еще лучше Змаевича ведал, что русский линейный флот к генеральной баталии не готов.
В тот же вечер Апраксин составил письмо Петру, в котором просил своего царственного шаутбенахта, чтобы тот «изволил милостиво нас посетить, неприятельский флот осмотреть и резолюцию учинить». Письмо адмирала на быстроходной скампавее в ту же ночь было отправлено из Тверминне в Ревель.На ревельском рейде Петру в эту кампанию удалось собрать на первый взгляд мощную эскадру. Благополучно прибыли пять закупленных за границей линейных судов. На них успешно ставили сейчас пушки и другое оружие. Из далекого Архангельска, совершив отважный переход, прибыли два корабля, построенные на архангелогородской верфи. И наконец, из Кронштадта под водительством самого шаутбенахта Петра Михайлова явилась крон-шлотская эскадра в девять линейных вымпелов, сопровождаемая восемью фрегатами, многими шнявами и бригантинами.
Но Змаевич был прав, когда говорил, что это пока был не флот, а сборище судов. Хотя эскадра и имела тысячу шестьдесят орудий и восемь тысяч судовой команды, однако бомбардиры и при малой волне не умели стрелять прицельно, а матросы, набранные из пеших солдат, только под капитанскую ругань и боцманскую зуботычину лезли на высокие, раскачивающиеся на ветру мачты, с ужасом глядя вниз на пенные валы, – многие из этих новобранцев и плавать-то не умели.К тому же среди команды началась морская язва, и пришлось большую часть экипажей отпустить на берег, а многие корабли поставить на карантин, где всех людей через день раздевали и осматривали, а корабли чистили и окуривали. Шведа сейчас никак не ждали. Да в начале кампании и неведомо было, где же стоит главная шведская морская сила. Шведские суда видели у Дагерорта и у Рогервика и даже у Березовых островов. Словом, шведы прятались, как бы на маскараде, и Петр писал Апраксину, что, лишь когда линейный русский флот выйдет в море, «принуждены они будут маскарад свой снять и себя явно показать, в какой они силе и что хотят сделать». Однако 15 июня 1714 года шведы маскарад свой сами вдруг сняли, и шесть шведских линейных судов внезапно замаячили на рейде перед ревельской гаванью. То был отряд под командой вице-адмирала Лиллье, посланный Ватрангом на разведку. Петр тотчас отдал приказ:






