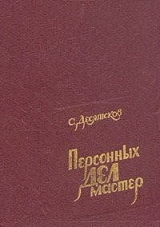
Текст книги "Персонных дел мастер"
Автор книги: Станислав Десятсков
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 37 (всего у книги 45 страниц)
– Выпьем за Никиту! – пьяно предложил сердитый Кирилыч.– Он тебе, Ромка, хоть ты теперь и полковник, все одно старший брат!
На Никиту Роман выпил охотно, а потом полез с просьбой и захмелевший Евдоким:
– Возьми моего меньшого в службу, господин полковник. У тебя в полку все одно лекаря нет!
Не пущу! – закричала вдруг тетка Глафира, загораживая юбками своего Алексашку. Тот вспыхнул, вскочил, убежал в горницу.
– Ну, тут вы сами разберитесь, идти вьюноше аль не идти в полк! – Роман поднялся из-за стола.– Однако скажу: чин полкового лекаря – офицерский чин! Да и не все такому молодцу за материнскими юбками скрываться. Так что думайте! – И Роман направился к дверям, грузно опираясь на плечо вдовицы.
«Хорошо, когда такой гренадер рядом, надежно...» – пьяно подумал он и здесь сообразил, что крепко-таки опьянел. Впрочем, у дверей Роман выпрямился, любезно взял под локоток Дуню-хозяюшку и твердым шагом двинулся через улицу в ее терем.
Он помнил еще, как взошел на крыльцо, а дале словно провалился в темную яму. Правда, сквозь тяжелый сон слышал какие-то спорящие голоса (то рвался к Дуне пьяный Кирилыч, и верный Васька давал ему отпор), а потом чьи-то ласковые руки раздели его и уложили в постель.
Вынырнул он из темноты столь же внезапно оттого, что кто-то скользнул к нему под одеяло и холодные женские ноги переплелись с его ногами, Дуня сама попросила: «Погрей!» И дале была давно забытая в гошпиталях и походах женская ласка.
Забылся он снова только перед рассветом, а проснулся оттого, что комната была залита светом и солнечный луч весело дрожал на дорогом персидском ковре, которым была завешена бревенчатая стена, обшитая тесом. И таким же светлым и радостным, как этот солнечный луч, был Дуняшин голос, которым она звала его к завтраку.
За завтраком пили на петербургский манер черный густой кофе, и Дуня спрашивала смело, не таясь и с некоторой обидой:
– Что сам-то не пришел, я ведь ждала?
– А я Кирилыча испужался, ревнив старый черт! – рассмеялся Роман.
– Да ну его, дурня! Я же ему в дочки гожусь, а он туда же – жених! С меня того хватит, что я за своим Гришкой натерпелась. Два года после венца одни муки да побои!
– А от чего умер-то купчина?
– Утоп! Поехал с обозом по оттепели к рыбакам за товаром да в озере и утоп! Царствие ему небесное! – равнодушно ответила вдовица-красавица.
Бриться Роман пожелал в саду, куда Васька принес походное зеркальце и прочие принадлежности. Дуня стояла на крыльце, смотрела, яко зачарованная, на важные мужские занятия.
– Что смотришь-то? – Роман подмигнул ей в зеркальце.– Лучше полей-ка из ковшика, надобно пену смыть!
Дуня подошла, плеснула ему в руки колодезной воды, а потом, когда он нагнулся, в шутку плеснула и на шею, и на белоснежную голландскую рубаху. Роман охнул, так обожгла ледяная вода из глубокого сруба-колодца.
– Да я тебя сейчас шпагой заколю! – Он погнался за Дуней по саду, но попробуй догони ее: длинные ноги так и мелькают под легким сарафаном по траве-мураве, рыжие волосы развеваются по плечам, словно грива. Нагнал ее только в дальнем углу сада, у высокого стога, бросил ни свежее сено и стал целовать в сладкие губы, в лебединые плечи, в жаркую грудь.
– Что ты, увидят, милый мой, душонок... – шептала она, а сама знала, что в этом дальнем углу никто их не увидит. Затем лежали на душистом сене, смотрели в бездонное сияющее синее небо, а ближняя яблоня свешивала спои отягощенные ветви над их головами. И впервой отошла в даль времени, словно уплыла от него далеко-далеко Марийка.
А Дуня точно уловила в нем эту вернувшуюся радость к жизни, вскочила легко и подала руку, дабы поднять с кем ли:
– А ведь вас в полку, чаю, заждались, господин полковник!
Роману стало легко и весело, что вот рядом человек, который угадывает его мысли.
У крыльца его и впрямь поджидали верный Васька с оседланными лошадьми и хмурый Кирилыч, под левым глазом коего наливался здоровенный синяк. Васька поглядывал на сей знак с видимым удовольствием.
– Ты зачем вечор у моей хозяйки буянил? – с нарочитой суровостью спросил Роман. Кирилыч покаянно развел руками.
– И сам не знаю как, должно бес попутал, господин полковник. Я ведь, право слово, в полк к вам пришел проситься, а сей аспид,– он грозно взглянул на невозмутимого Ваську,– возьми и не пусти! Ну да я все одно и поход пойду, подале от женской отравы!– Кирилыч покосился на стоявшую на высоком крыльце Дуняшу.
Ладно, приходи в полк, старый черт!– рассмеялся Роман.– Да только приложи сначала пятак к своей рано! И, орлом взлетев на коня, сорвал треуголку и приветственно махнул Дуне: – Жди к вечеру, любезная!
Дуня в ответ поклонилась низко, до пояса, ответила постароуставному:
Дай вам господь помощь в ратном деле, господин полковник! И возвращайтесь поране!– И рассмеялась вдруг, лукаво добавив: – А я велю славную вам баньку натопить! – И долго смотрела вслед своему молодцу.
И полку Романа давно поджидали. Еще три дня назад прискакал курьер и доставил царский решкрипт о назначении Корнева полковником новгородских драгун.
– Вот что значит служить под началом всесильного Голиафа! У Меншикова сей молодчик сразу через два чина прыгнул! – раздраженно шипел бывший стольник, брюхастый Беклемишев, спроведав о царском указе. Сам он после первой Нарвы долго отсиживался в своем знатном поместье, отговаривался от службы многими ранениями и болезнями и только под угрозой попасть в нетчики возвернулся в строй.
– -Почитаю, батюшка, сей полковник – голоштанник, без роду, без племени, одним благоволением светлейшего и держится? – Беклемишев обращался к Петру Удальцову, полагая, что и тот недоволен назначением Корнева. Но Удальцов был боевой офицер и ведал, что Роман Корнев многократно отличен был и под Лесной, и под Полтавой, и в Прутском походе, а теперь вот, по слухам, и в Голштинии отличился. Завидовать такой славе, конечно, было можно, на надобно было ее и уважать. И потому Петр Удальцов встретил Романа как старого боевого товарища. Впрочем, он и впрямь с видимым облегчением сдавал Роману свеженабранный полк, где дел было невпроворот.
После первого же смотра новоиспеченный полковник токмо за голову схватился. Люди в полку были, правда, здоровые, крепкие, набранные, как когда-то-и в полку Нелидова, в основном из ямщицких валдайских селений. Все отличные конники, сызмальства привыкшие быть при лошадях.
Зато офицеры и унтеры были собраны с бору по сосенке. Окроме Удальцова да прибывших из госпиталя поручиков Новосильцева и Грачева, боевых офицеров в полку, почитай, вовсе не было. На смирных лошадках красовались или возвращенные строгим царским указом в строй старые баре вроде Беклемишева, или недавно поступившие на русскую службу немцы-остзейцы, присланные Военной коллегией из Петербурга и из всего русского языка выучившие только самые крепкие выражения. Впрочем, и рядовые драгуны строя не ведали, иные били из фузей не в яблочко, а в чистое небо. Ну а боле всего была нехватка в опытных вахмистрах, способных заместо офицера и учение провести, и эскадрон в порядке содержать. Вот и пришлось господину полковнику самолично каждый день гонять сырых рекрутов до изнеможения на беспрестанных учениях, дабы привести под шведские пульки не толпу деревенских парней, а мало-мальски подготовленных драгун. Да и прочим офицерам пришлось попотеть. Полковник Корнев спуска никому не давал, так что даже Беклемишев брюхо-то подтянул. В полку ворчали чуть ли не в открытую: «Чертов полковник!» И Роман, услышав как-то за спиной эту кличку, вспомнил вдруг, как десять лет назад вот так же честили они в строю полковника Нелидова.
– И куда мы с такими молодцами пойдем? – сердито ворчал Петька Удальцов, плетью показывая на отчаянно размахивающих руками Беклемишева и сухопарого глупого Вальтерса, который в родном фатерланде был конюхом, а в непросвещенной России стал офицером,– У меня в эскадроне по сей день доброго вахмистра нет! – Удальцов, конечно, был недоволен, поскольку ему, эскадронному, приходилось быть и за дядьку, и за вахмистра, и только что сопли рекрутам не утирать.
– Да вот, пожалуй, и вахмистр тебе нашелся, а с ним и прапорщик знатный! – Роман весело показал на двух конных, скачущих из города. В одном из них он сразу опознал Кирилыча, а в другом, не веря своим глазам, определил Афоню, снова опоясанного офицерским шарфом.
– И право, Кирилыч! Как это он решился? Я его месяц уламывал и не уломал! – воскликнул Удальцов.
– А уломала его жизнь да, пожалуй, еще афронт со стороны некой вдовицы...– насмешливо заметил Роман.
Подскакавший первым Афоня лихо сдернул треуголку, протянул пакет, сказал важно:
– Из Военной коллегии, из Петербурга!
Роман, однако, сразу не раскрыл пакет, сердечно обнял драгуна, сказал просто:
– Поздравляю, возвернул, значит, себе офицерский чип?!
– Да за то же дело под Фридрихштадтом, за которое мы полковника получили, и я себе офицерский чин возвернул...– показал в улыбке свои сахарные зубы Афоня.
– Эка невидаль, прапорщик! Курица не птица, прапорщик не офицер! – сердито ворчал подъехавший Кирилыч.
Однако Роман посмотрел на него строго, спросил холодно:
– Ну что, надумал, вахмистр, в наш полк вступать аль и дале будешь при лазарете? – Дело в том, что весь месяц, пока Роман учил солдат, Кирилыч в полку не показывался – крепко обиделся на своего крестника за Дуню.
Может, лежал бы он и дальше в госпитале, грел бока, не повстречай сегодня своего соперника по воинской славе Афоню, поспешавшего в полк. От него он и узнал о скором походе и наконец решился:
– Возвращаюсь я, соколы мои ясные, на цареву службу. И, думаю, вернусь из похода с великой славой!
– Не дури, Кирилыч...– смягчился Роман.– Принимай-ка лучше эскадрон у Петра Васильевича! – И, разорвав конверт, пробежал приказ глазами, сказал Удальцову: – А ведь и впрямь скорый поход! Через три дня выступаем в Финляндию! – И, взглянув на вставших перед ним во фрунт Кирилыча и Афоню, добавил: – И хорошо, что вы со мной вместе, старые камрады!
У Романа весь этот месяц шла как бы двойная жизнь. Днем он беспрестанно учил солдат и офицеров воинским экзерцициям, и не было для него ничего, кроме строя, а поздним вечером возвращался в полюбившийся ему дом, и не было для него ничего, кроме Дуни и ее жаркой ласки.
Поджидала его перво-наперво крепко протопленная банька, куда хорошо было бежать по первому морозцу. Мылись по старинному обычаю вдвоем. Роман поддавал ароматного кваску на каменку, и Дуня плыла в облаках пара, яко новая богиня Венус работы славного фламандца Рубенса (видел Роман цветные эстампы с картин этого художника у своего братца в Москве). Только у Рубенса девы были что перезрелые арбузы, а у Дуни кожа гладкая, бедра пышные, но стройные и груди стоят еще совсем по-девичьи, неприступными бастионами. Когда выходила она в столовую в пышном кружевном пеньюаре, купленном в Петербурге за немалые деньги, груди те выпирали сквозь брабантские кружева, что чугунные ядра, а соски краснели сквозь тюль стыдливо, как ягоды рябины в тумане.
– Спелая, словно яблочко! – весело взирал на свою возлюбленную Роман, а однажды мелькнуло: «А ведь она крепкого паренька мне родит!»
И летели ночи любви.
Но поутру снова была служба, и за ней Роман как-то забывал о принятом решении: предложить Дуне руку и сердце и повести под венец. Только ближе к Покрову, перед самым отходом,Роман дал роздых своим драгунам. В Новгороде шумела осенняя ярмарка, и Роман, вспомнив свои младые годы и заветы старого рейтара Ренцеля, приказал офицерам строго наказать драгунам блюсти в отпуске солдатскую честь и передать, что вечером он сам будет инспектировать полк.
Но случилось так, что пришлось ему в тот день инспектировать не полк, а богатства усопшего купчины Мелентьева, единственной наследницей коего стала Дуня. Знатное было богачество: и рыбные лавки, и лари, и свой причал, и рыбацкие соймы, и соляные варницы, и многие склады с ледниками для ильменской рыбы. Со всего, почитай, Ильменя, со Меты и Волхова, Ловати и Полы сгребали приказчики Мелентьева в эти ледники отборных судаков и жирных лещей, диковиных угрей и быстрых, яко молнии, щук. Новгородцы были искусными рыбарями со дня основания города, и ломились от запасов склады покойного купчины. Целые обозы со свежей и мороженой рыбой шли и в Петербург, и в Москву.
– И начальнику твоему, светлейшему князю Меншикову, рыбка наша идет и на царский стол попадет! – весело смеялась вдовица. Рыбкой она не брезговала: своей белоснежной ручкой взяла за хвост огромную щуку, вычерпула из ледника, залюбовалась: – Глянь, какая красавица!
«А ну как и она сама такая же вот щучка? Попади ей на зубок – хрустнет, и нет тебя, сидишь у нее под каблуком!» – подумал вдруг Роман, глядя, как по-хозяйски обозревает Дуня свое купецкое богатство. И вспомнилась вдруг Марийка – то степное и дерзкое счастье. И Роман вдруг поскучнел, сказал резко: А рыбка-то с душком, пованивает! – и вышел из амбара на свежий воздух. Дуня поняла, что где-то ошиблась, выскочила за ним следом, догнала, повисла на руке. "Вот так и будет висеть всю жизнь!» – ясно представилось Роману. И, вырвав руку, сказал жестко:
Куда нам супротив вашего богатства, Евдокия Петровна! Мы по сравнению с вами голь перекатная, сегодня здесь, завтра там, куда пошлет царь и отечество! – и быстро зашагал, бросив: – Мне перед походом родственников еще навестить надобно!
У тетки Глафиры он нашел плач и великие слезы: тетка собирала в поход своего меньшого, Алексашку, который таки записался в полк Романа учеником лекаря!
У злыдень! – кричала тетка своему лысому Евдокиму. Глаза бы мои тебя не видели: сам ведь любимое чадо ил пойму отправляешь!
– Ничего, добровольчество-то Алексашке зачтется...– успокаивал Роман тетку.– И, опять же, лекарь-немец в полк так и не прибыл, и, зная наши обычаи, думаю, и не явится,– кому охота под шведскими бомбами раненым руки-ноги резать да пульки извлекать! Так что, думаю, быть вашему Александру после первой же баталии в чине лекаря. А чин тот офицерский!
Но упоминание о шведских бомбах и отрезанных руках-ногах вовсе не успокоило, а, наоборот, подогрело слезы тетки Глаши, и она залилась в три ручья, обняв белокурую голову смущенного Алексашки:
– Не пущу тебя никуда, не пущу, чадушко мое любимое!
– Маманя, ну не надо, маманя! – бормотал Алексашка, а у самого голос дрожал, ведь прощался с родным домом,и, как знать, может, и навсегда.
Словом, не было сегодня покоя у родственников, и, отказавшись от Евдокимова угощения, Роман цаплей перешел улицу. Хотел было сразу пройти на Дунину половину, но вспомнил об утренней ссоре и остановил себя. Крикнул Ваську: приказал ему собираться. Впрочем, долго ли собираться бедному офицеру? Уже через час весь его нехитрый скарб был уложен Васькой в два вьюка, которые легко можно было приторочить к запасной лошади, полагавшейся Роману по чину. Сделав дело, Васька, отпущенный на ярмарку, умчался сломя голову – у него перед походом тоже было свидание.
Роман лежал тихо и, похоже, вздремнул. Проснулся оттого, что тишину терема наполнил красивый, грудной голос.
Дотолева зелен сад зелен стоял,—
задушевно выводил Дунин голос,—
А нонче зелен сад присох-приблек,
Присох-приблек, к земле прилег...
И, заглянув в светелку, он увидел совсем другую Дуню: не богиню Венус и не властную утреннюю купчиху, а милую и беззащитную молоденькую женщину, что сидела у окна, зябко кутаясь в пуховый платок, и с тоской смотрела, как облетает под осенним холодным ветром последняя листва. Он подошел сзади неслышно и прикрыл глаза руками. И потому как она не отвела его руки, а плечи ее задрожали, понял, что плачет. Он поднял ее, поцеловал в мокрые глаза, которые от того поцелуя словно просияли, и сделал то единственное, что и надобно было сделать: вынул заветное, еще материнское колечко и надел его Дуне на палец.
– Вот, от одной Дуняши другой! – молвил он в смущении. Слезы совсем высохли у Дуни, и глаза стали изумрудные. Тем же вечером они обручились.
А на другой день полк шел в поход по Славной улице. И у одного дома по знаку молодого полковника громко затрубили полковые горнисты. И на высокое крыльцо выскочила красавица Дуняша и помахала кружевным платочком и полковнику, и его полку, желая удачи. Полковник подкрутил ус – другой такой же платочек лежал у него в кармане.
Северные виктории
«Нас всех будет 280 парусов, а людей 17 тысяч, кроме конницы и пехоты, которые пойдут по траве...» – писал Петр в канун кампании 1713 года в Финляндии.
«Отлучение» Финляндии от Швеции могло состояться, только ежели флот и армия будут «подпирать» друг друга, и Петр понимал это, назначив главнокомандующим на сом театре военных действий не Шереметева или Меншикова, а Федора Матвеевича Апраксина, имевшего двойной чин генерал-адмирала. В ноябре 1712 года Петр строго наказывал своему генерал-адмиралу, что надобно «в будущую кампанию как возможно сильные действа показать и идти не для разорения края, но чтобы овладеть Финляндией». Последняя же нужна была Петру не для конечного удержания, «но двух ради причин главнейших: первое было бы что при мире уступить, другое, что оная провинция есть титька Швеции: не только что мясо и прочее, но и дрова оттоль. И ежели бог допустит летом до Абова, то шведская шея мягче гнуться станет». Была и третья причина похода: заняв тогдашнюю столицу Финляндии Або и Аландские острова, можно было «досаждать шведам на их коренной территории» и тем принудить их к миру.
Опять же внешние обстоятельства накануне кампании 1713 года складывались самым благоприятным образом: на юге Османская империя после нелепой битвы под Бендерами с Карлом XII готовила высылку шведского короля и согласна была подписать «вечный мир» с Россией, на севере был разбит Стенбок, и союзники Петра воспрянули духом. Оттого царь в марте 1713 года писал ил Германии: «...зело радуюсь, что изрядные ведомости получили о перемене Турецкой к шведам; а мы, загнав Стенбока в Тонинг и оставя армию для бомбардирования оного города, едем в Петербург, где праздно лежать не будем».
Прибыв в свой северный парадиз, Петр сразу начал готовить к походу армию и флот.
С армией у царя хлопот было меньше, поскольку во главе сухопутных сил в Финляндии был поставлен генерал-поручик Михайло Голицын, который и сам на печи валяться не любил. Но вот с адмиралами – и коренным русаком Федором Матвеевичем Апраксиным и наемным иноземцем вице-адмиралом Крюйсом – Петру в ту кампанию пришлось немало помаяться.
Флот по праву считался в те времена самой сложной технической составной частью вооруженных сил, и у адмиралов, особливо у командующего флотилией линейных кораблей старого морского волка Крюйса, всегда находились причины супротив скорого похода: то ветер дул противный, то шторм грядет, то на новопостроенных судах течь открылась. А за всеми отговорками стояло одно: грозная шведская эскадра, что стояла, по слухам, у Тверминне и запирала выход из Финского залива. И Крюйс панически боялся этой эскадры, по-флотски рассчитав, что его сырые корабли с зелеными матросами, набранными из пеших рекрутов, первой же баталии со шведскими викингами, сродненными с морем, попросту не выдержат и утонут в водах Балтики и русский линейный флот, и воинская слава, и честь вице-адмирала Крюйса.
Первым, кого удалось Петру вытолкнуть из Кроншлота в море, была потому не эскадра Крюйса, а галерный флот генерал_адмирала Апраксина. Федор Матвеевич еще по прошлым кампаниям ведал, что маленькие юркие весельные галеры-скампавеи всегда могут укрыться в бесчисленных мелководных финских шхерах, куда шведы опасаются вводить свои тяжелые линейные голиафы. И потому он повел свою флотилию скоро, делая по пятьдесят – шестьдесят верст в сутки, так что уже через неделю оказался перед Гельсингфорсом. Вслед за Апраксиным Петр вытолкнул из Кроншлота и Крюйса, написав ему гневное и зело обидное письмо: «Бояться пульки – не идти в солдаты. Кому деньги дороже чести, тот оставь службу. Деньги брать и не служить стыдно!»
Получив такое послание, Крюйс понял, что никакие отговорки боле не помогут, и вывел наконец свою эскадру из Кроншлота. Но вместо того чтобы идти открытым морем в Ревель, где соединиться с эскадрой Сиверса, осторожный голландец стал жаться к берегу. Но там, где легко проходили легкие галеры, тяжелые линейные корабли беспомощно садились на мель. К тому же, погнавшись у Кальбодегрунда за дозорным шведским бригом, Крюйс ввел свою эскадру в самые опасные узкие шхеры, и один за другим три многопушечных корабля – половина его эскадры – сели на мель. Два корабля, правда, удалось стянуть с мели шлюпками, хотя и с изрядными повреждениями, но флагманский корабль «Выборг» переломился пополам, после чего был сожжен его же экипажем.
Воинский суд над незадачливым флотоводцем был скорый – Крюйса приговорили к смертной казни. Но Петр смилостивился, вспомнив, как строили с Крюйсом суда еще в Воронеже, и заменил казнь ссылкой.
Когда Федор Матвеевич узнал о судьбе Крюйса, он боле не медлил ни минуты. Вместо того чтобы с миром закончить кампанию, генерал-адмирал смело пошел вперед. Увидев в шхерах десятки русских галер и опасаясь дать бой в тесной гавани, шведский адмирал Лиллье отступил без боя, и 15 июля 1713 года Гельсингфорс был в русских руках.
Федор Матвеевич, по призванию своему истинный корабел и строитель, тут же стал укреплять фортецию и порт – готовить передовую базу для флота. Строительство было поручено им знатному инженеру Василию Корчмину. Тысячи солдат и матросов строили крепость, сооружали батареи на островах.
«Работа превеликая,– писал Петру адмирал,– рубить псе из брусьев, и землю надобно возить не из ближних мест, а на тех местах, где надлежит делать крепость, земли нет». Уже из этого простодушного донесения Петр стал понимать, что генерал-адмирал, отвоевав часть Финляндии, полагал кампанию 1713 года на этом законченной.
– Господа адмиралы, мать вашу так! – Петр, вопреки всем басням о нем, ругался редко, но от души. На другой же день шаутбенахт Петр Михайлов на быстроходной скампавее самолично отплыл в Гельсингфорс.
По прибытии царя на флагманской галере генерал-адмирала 11 августа был учинен военный совет. Адмиральская каюта Апраксина по английскому и голландскому обычаю была обита мореным дубом, на большом столе, занимавшем треть каюты, лежали карты Финляндии и Швеции, лоции Балтийского моря, стояли разные навигационные пособия. Но на широкой лавке вдоль стены был свернут пуховичок, прикрытый подушечками и теплым одеялом. Господин генерал-адмирал по старомосковскому обычаю любил здесь вздремнуть часок после обеда. На всей эскадре объявлялся тогда тихий час.
Петр взглянул на пуховики, фыркнул по-кошачьи брезгливо:
– С Морфеем частенько знаешься, господин адмирал!
Федор Матвеевич мысленно проклял вестового матроса, не спрятавшего в чуланчик подушечки и одеяло, но ответил честно:
– Всегда сплю час после обеда, государь. При подагре моей помогает. И медикус советует!
– Гляди, адмирал, проспишь летние дни – зимой сам будешь вести кампанию!
По суровости царских слов Федор Матвеевич понял – нынешняя кампания в Финляндии в глазах царя не только не окончена, но только начинается.
И впрямь, на совете Петр оглядел своих флагманов и приказал твердо:
– Завтра же двинемся на Або и по суше и по морю. Ежели шведский линейный флот преградит нам путь у Тверминне или Гангута, будем брать Або с суши. Но столицу сего княжества к осени взять нам потребно.
Апраксин согласно наклонил голову и тут же приказал командору Змаевичу выйти на Або с передовым отрядом галер. Так возобновилась затихшая было кампания 1713 года.
16 августа вслед за Змаевичем вышла в море эскадра контр-адмирала Боциса, а 17 августа двинулся и главный флот во главе с Петром и Апраксиным. По суше на Або двинулись драгуны Голицына.
Однако морской поход был недолог: уже через день прибыло посыльное судно от Змаевича – лихой серб доносил, что на позицию у Тверминне вышли линейные шведские корабли. Это шведский адмирал Лиллье, наскучив ждать у Ревеля русской линейной эскадры, пересек Финский залив и преградил путь русским на Або.
На другой день на скороходной галере вместе с Апраксиным и Змаевичем Петр высматривал порядки шведской эскадры.
– Двенадцать линейных вымпелов, и на каждом линейном корабле, почитай, до ста пушек, так что они мои галеры в чистом море за минуту сметут до единой...– вздохнул за спиной царя Федор Матвеевич.
– И сам то ведаю,– сердито буркнул Петр.– Но есть ли иной какой способ галерам прорваться из Финского залива в Ботнический? – вопросил он Змаевича, как опытного капитана, выходившего и не из таких положений во кремя своих походов супротив турок.
– Сейчас я не вижу иного выхода, как повернуть в Гельсингфорс! – отрубил серб.– А на будущий год надобно подтянуть русский линейный флот и запросить датскую помощь. Только тогда и можно помериться силами со шведом на море.
– Быть посему! – хмуро согласился Петр,– Но мы с тобой, Федор Матвеевич, должны все-таки Або взять, хотя и с суши, но взять в этом году.
Галеры от Тверминне вернулись в Гельсингфорс, а корпус Михайлы Голицына меж тем от деревни Пиккала двинулся на Вейянс, а оттуда на Або. При корпусе находились царь и его генерал-адмирал.
Как и предсказывал Голицын, никаких больших баталий не случилось. Только у реки Карие шведский полковник Штерншанц сжег мост и по своей горячности попытался преградить дорогу на Або. Но князь Михайло выдвинул пушки на картечный выстрел, под их прикрытием драгуны быстро накидали бревна на полусожженный мост, по ним перебрались на другой берег и сбили шведов. Под барабанный бой, с развевающимися знаменами русские без боя вступили в тогдашнюю столицу Финляндии. Петр с торжеством сообщил в Петербург: «...войска без всякого сопротивления в сей столичный финского княжества город вошли и с помощью Божией сим княжеством овладели». В царском сообщении много было радости, но и много неточностей. Пока что вся центральная и северная Финляндия была еще занята шведами и армия Либекера от Тавастгуса грозно нависала над русскими коммуникациями. Сокрушить Либекера царь, возвращаясь из Гельсингфорса морем в Петербург, поручил генерал-адмиралу Апраксину и Михайле Голицыну.
Для предстоящей осенней кампании из Петербурга в Финляндию спешно было отправлено несколько новых драгунских полков, и среди них полк драгун-новгородцев. Роман присоединил своих драгун к корпусу Голицына, когда тот уже шел маршем на Тавастгус. В город сей, точнее, на пепелище, оставленное шведами, русские вошли без боя: Либекер опять отступил. Однако уже через двадцать верст новгородские драгуны, высланные как передовой отряд по дороге на Таммерфорс, обнаружили всю шведскую армию, занявшую промежуток меж озер Пелкане-веси и Маллас-веси.
– Как именуют ту деревню? – спросил Роман проводника-финна, нагайкой указывая на избы и скотные дворы, черневшие на другой стороне озера.
– Озеро зовем Пелкане-веси, потому и деревня Пелкане, а может, наоборот, оттого что деревня Пёлкане, оттого и озеро Пелкапе-веси,– задумчиво ответил голубоглазый пожилой финн, спокойно покуривая трубочку. Это была не его война, хотя и велась она на его земле. В любом случае умирать за шведского конунга Карла Эйно не захотел, и потому, когда шведы насильно загоняли финнов в свое ополчение, он спрятался. Но война все-таки нашла его – русские узнали через соседей, что купец Эйно Виролайнен до войны часто ездил в Новгород и немного знает русский язык. Вот его и выволокли из-за прилавка в Гельсингфорсе и определили проводником.
– Простите, господин полковник, – обратился вдруг финн в свой черед к Роману.– Я слышал, ваш полк собран в Новгороде?
– Верно! – ответил Роман, немало удивленный, что его молодой полк известен среди финнов.
– А правда ли,– финн опасливо покосился на ехавшего за Романом Кирилыча,– что весь ваш полк набран из колодников?
– Кто сказал тебе такую глупость? – вспыхнул молодой полковник.
– Да сам шведский комендант Гельсингфорса генерал Армфельд говорил при уходе нашим купцам, что русские приводят из Москвы в Новгород каторжников и колодников, переодевают их там в солдатское платье и посылают грабить Финляндию.– Эйно снова пугливо оглянулся на Кирилыча, который из любопытства вплотную подъехал к Роману и проводнику.
– Чушь и бред! Весь мой полк состоит из коренных новгородцев, меж коими нет ни одного колодника! – ответил Роман.
– А этот дядька с бритой головой – он разве не каторжник? – на ломаном русском языке полушепотом спросил финн, глазами показывая на Кирилыча. У старого вахмистра был, однако, отменный слух. Кирилыч побагровел от ярости и схватился за палаш:
– Так это я, по-твоему, каторжник, я – колодник?! Зарублю на месте чухонца!
– Само собой, Кирилыч, ты и впрямь похож сейчас на чистого каторжника! – расхохотался Роман.– Говорил я тебе, старый дуралей, не брей голову! Нет, туда же, за модой погнался: я, мол, с первого же полоненного шведского офицера парик сниму и буду красоваться перед молодками талантом и кавалером! Вот и докрасовался, каторжный! Ты его сперва достань, полоненного шведа, а потом и брей башку, и в парике красуйся!
– Да что его искать-то, шведа, – сердито буркнул Кирилыч, потуже натягивая треуголку на бритую голому.– Вон их за рекой – тысячи! Почитаю, завтра баталия непременно выйдет, и все одно быть шведскому парику на моей голове!
В сей миг показалась целая кавалькада генералов и офицеров во главе с Апраксиным. Генерал-адмирал сидел па лошади по-моряцки – без щегольства, но крепко сцепив ноги. Под Голицыным же, как под отменным наезд-пиком, арабский жеребец изгибал шею, красовался и ходил ходуном. Князь Михайло на горячем скакуне сидел как влитой, откинувшись немного назад и вытянув ноги: манеру сию он, как и многие русские отличные конники, перенял у лихих шведских драбантов.
Адмирал и генерал спорили: можно ли верить проводнику-финну, указывавшему брод на реке?
– Я за того финна головой ручаюсь, да и по приметам всем здесь броду быть! – горячился Голицын.
Но Федор Матвеевич был человек основательный и, как моряк, желал сперва сделать промеры. «Не зная броду, не суйся в воду», – твердил адмирал.
Кликнули на промеры добровольцев из числа стоявших у берега новгородских драгун. Кирилыч вызвался первым, и Роман поставил его во главе поисковой команды.
Между тем шведские караулы вдоль реки заметили спускавшихся на рысях к воде драгун, и над прибрежными кустами поднялись клубочки дыма. Несладко было лезть в ледяную воду под свист вражеских пуль, но охотники Кирилыча дошли вброд до самого неприятельского берега.








