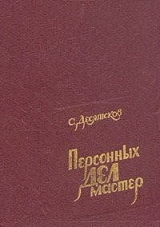
Текст книги "Персонных дел мастер"
Автор книги: Станислав Десятсков
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 41 (всего у книги 45 страниц)
«Вследствие этого я принужден был повернуть немедленно назад, чтобы не быть взятыми русскими в клещи, что могло произойти при дальнейшем моем движении и сближении с неприятелем»,– дипломатично сообщил Таубе в Стокгольм. Он не дождался даже прохода русских скампавей в фиорд, а сразу удалился к Аланду, так и не присоединившись к Ватрангу и не закрыв «дыру» возле берега. Не подумал он оказать помощь и своему давнему сопернику Эреншельду, попавшему в ловушку.
Шаутбенахт Эреншельд был совершенно иным адмиралом, чем Таубе. Завидев перед собой тридцать пять галер русского авангарда, он лишь ввиду явного превосходства русских снялся с якоря и стал уходить в шхеры. Однако у Эреншельда не было опытного лоцмана, знающего абовские шхеры, и он попал не в проходной, а в фальшивый фарватер, Рилакс-фиорд, где его и догнал Змаевич. Однако сразу атаковать в тот день шведов не смог и Змаевич, настолько его гребцы были измотаны гонкой. Потому серб выполнил только первую часть приказа Петра и Апраксина, «чтоб оным галерам и прамам путь заступить», и блокировал Эреншельда в Рилакс-фиорде. Вторую же часть приказа – «чинить над оным воинский промысел» —Змаевич отложил на следующий день. Какова же была радость Змаевича и солдат десанта бригадира Волкова, когда на другое утро брать в полон шведа явился весь русский флот, совершивший отважный прорыв у мыса Гангут! С капитанского мостика «Элефанта» Эреншельд видел, как ныне весь залив до самого горизонта был усеян русскими галерами.
– У русских девяносто восемь вымпелов! – дрогнувшим голосом доложил Эреншельду капитан «Элефанта».
– Что ж, будем биться! – просто ответствовал адмирал.
Теперь, когда у него не было иного выхода и стало ясно, что баталия неминуема, он распоряжался дельно и толково. «Элефант» был поставлен в центре позиции. Шесть тяжелых галер – «Эрн», «Трена», «Гринен», «Лансен», «Геден» и «Вальфиш» – были поставлены дугой, вправо и влево от «Элефанта», в первой линии. Во второй линии стояли шхерботы «Флора», «Мортан» и «Симпан». У Эреншельда оставались две надежды: на свои сто шестнадцать морских тяжелых орудий, которые смогли бы сразу создать русским при таком построении огненный мешок, и на тесноту фиорда, где русским не развернуть весь свой флот. Маячила где-то и третья надежда: на Нептуна, который надует все-таки паруса флота Ватранга. На Таубе Эреншельд не надеялся.Шведы уже давно заняли свою позицию, когда от царской галеры – в подзорную трубу Эреншельд разглядел долговязую фигуру Петра на капитанском мостике – отвалила шлюпка под белым флагом. На ней сидел царский генерал-адъютант Ягужинский.
– Вовремя подоспел, камрад! Увидишь! Мы сейчас и без датской помощи урежем шведскую морскую славу! – рассмеялся Петр, выслушав сообщение генерал-адъютанта, что датский флот в море в эту кампанию не выйдет. Ягужинский остался на царской галере и сам стал участником знаменитого прорыва у мыса Ганге.
– Передай Эреншельду, пусть сдается без напрасного кровопролития! Все одно путь назад ему отрезан! – напутствовал Петр своего любимца, отправляя его парламентером к шведскому адмиралу.
– Полагаю, сдастся сей швед без единого выстрела! Куда ему деться?! – весело сказал беспечный Бредаль, стоя среди флагманов.
– Не говори так, сударь,– строго прервал его похвальбу Апраксин.– По всем сведениям, шаутбенахт Эреншельд смелый и упрямый воин, краса и надежда шведского флота! – И здесь Апраксин оказался прав.
Выслушав предложение Ягужинского сдать эскадру без боя, за что царь и генерал-адмирал обещают принять Эреншельда и его команду с почетом и должным решпектом, шведский шаутбенахт ответствовал гордо: «Я всю жизнь служил с неизменной верностью своему королю и отечеству. И как до сих пор жил, так и умирать собираюсь! Царю же от меня и моей команды нечего ждать, окроме сильного отпора, и, ежели он решится нас заполонить, мы с ним поспорим шаг за шагом, до последнего дыхания!»
– Так и сказал – «шаг за шагом, до последнего дыхания»? – переспросил Петр вернувшегося Ягужинского.
– Так и сказал, государь! – вытянулся генерал-адъютант.
– Смелый ответ! Ну что ж, Федор Матвеевич,– обернулся Петр к Апраксину,– дай сигнал авангарду – быть атаке! И атаку ту проведу я сам!
– Государь?! – дружно вскинулись было и Апраксин, и Ягужинский.– Негоже тебе в таком огню быть!
Но Петр глянул на них столь грозно, что советники смолкли. А Петр громко разъяснил всем, кто стоял на капитанском мостике:
– Чем я хуже того драгуна, что себе капитанский чин добывает? Я тоже хочу свою морскую викторию одержать и получить чин вице-адмирала не за царское титло, а за прямую заслугу! – После чего генерал-адмирал отплыл к своей кордебаталии, а галера Петра выдвинулась вперед, к авангарду Вейде.
И вот в три часа дня с царской галеры грянула сигнальная пушка, закипела вода под сотнями весел и русский авангард двинулся в атаку.
В центре шло одиннадцать галер под командой молодого бригадира Лефорта; справа – в колонне уступом вперед, по три в ряд, – шли скампавеи под началом Вейде и Змаевича; слева, тоже в колонну, шведа атаковали шесть галер бригадира Волкова. Царская галера держалась сначала в центре. Но именно здесь русские суда угодили в огненный мешок, созданный сосредоточенным огнем шведских пушек. Петр видел, как дважды в атаку шли галеры Лефорта и дважды заворачивали назад, отбитые тяжелыми пушками «Элефанта».
– Черт! И чего он в самый огненный мешок суется! – сердито топал Петр тяжелыми ботфортами. Как опытный бомбардир (а чин свой он заработал еще в первом Азовском походе под турецкими пушечными выстрелами) , Петр быстро разобрался, что шведы ведут концентрический огонь.– Вызови ко мне Вейде! – приказал он Ягужинскому, и, когда начальник авангарда прибыл на царскую галеру, у Петра был уже свой план.
– Атаковать надобно неприятеля с флангов и брать шведские галеры одну за другой! Помнишь, Эреншельд сказал, как он будет защищаться: шаг за шагом! Вот и мы будем атаковать шаг за шагом, по флангам, и тогда огненного мешка избежим!
Вейде откозырял и бросился выполнять царский приказ.
В третий раз русские в огненный мешок не полезли и атаку учинили по флангам, супротив шведских галер. Командиры десантных отрядов вели свои колонны в быстроходных шлюпах, с обнаженными шпагами, чтобы первыми идти на абордаж.
Снова ударили неприятельские пушки, и густой пороховой дым затянул Рилакс-фиорд. Словно огненные смерчи, прорывались сквозь пороховой дым выстрелы тяжелых орудий «Элефанта». Но били они на сей раз попусту.Изумленный Эреншельд с капитанского мостика «Элефанта» увидел, что русские разделились и с флангов дружно навалились на его крайние галеры. Помочь им огнем он не мог, опасаясь зацепить свои суда.Русские стрелки при подходе к неприятельским галерам открыли частый ружейный огонь, целя прежде всего в офицеров. Когда же галеры сталкивались борт о борт, по сигналу горниста русские солдаты бросались на абордаж и начиналась резня. Шведы ни разу сами не спустили флаг, и, когда русские уже овладевали судном и поднимали над ним андреевский флаг, остатки команды шведов перебирались на шлюпках и вплавь на другие шведские корабли и продолжали биться.
Русским пришлось пробиваться к шведскому флагману и впрямь шаг за шагом, беря на абордаж одну галеру за другой. Но вот русские флаги развевались уже на всех шести шведских галерах. И здесь Петр сам повел скампавеи на «Элефант». Тяжелые пушки фрегата ударили на сей раз не ядрами, а картечью. И каждый залп находил жертвы среди сотен русских солдат и матросов, тесно сгрудившихся на палубах и изготовившихся к последнему абордажу.
Бой был жестокий, яростный, но краткий. Раскаленное ядро русской галеры подожгло паруса фрегата, и корабль окутался густым дымом. Русские скампавеи в этой завесе натыкались друг на друга, ломали весла, но смело шли в этот пылающий ад: одна русская галера за другой тыкались своим носом в высокие борта шведского флагмана. Матросы и солдаты цеплялись за борта острыми кошками и по канатам лезли на палубу фрегата. Кирилыч одним из первых оказался на шведской палубе. Оглушенный пушечной и ружейной стрельбой, страшными криками, треском ломающихся весел, он сразу даже и не поверил, что стоит жив и невредим на палубе шведского флагмана. Но здесь здоровенный шведский матрос метнулся к нему с ножом, и выручил Кирилыча только добрый драгунский палаш – им он и уложил шведа. И в сей миг Кирилыч увидел, как несколько офицеров и матросов спускают на противоположной стороне палубы какого-то штатного раненого шведа в шлюпку.
«Не иначе как адмирал уходит!» – решил драгун и бросился брать адмирала. Но, видать, удача покинула Кирилыча – вылезший из люка шведский боцман с силой метнул кортик, который впился Кирилычу в плечо. Выпал драгунский палаш из крепкой руки и не сумел Кирилыч взять адмирала.
Шведские матросы меж тем заботливо усадили в шлюпку Эреншельда, который в бою получил шесть ранений, но, как настоящий викинг, не покинул капитанского мостика, пока русская картечь не раздробила ему бедро.
То, что не сумел сделать Кирилыч, сделал капитан-ингерманландец Бакеев, ведший на шлюпке свой отряд скампавей атаковать «Элефант» с тыльного борта. Завидев отвалившую от флагмана шведскую лодку, взявшую курс к берегу, Бакеев погнался за ней, перехватил и пленил славного шаутбенахта. Раненый шведский адмирал с тоской увидел, как с флагмана был спущен его адмиральский флаг и вместо него поднят андреевский.
Русские спешили потушить на флагмане пожар: ведь огонь мог добраться до порохового погреба и корабль тогда бы взлетел на воздух. Среди отважных пожарных металась длинная нескладная фигура,– это Петр, взойдя на фрегат, сам распоряжался тушением пожара. Лишь укротив огненного змея на «Элефанте», шаутбенахт Петр Михайлов прибыл на галеру генерал-адмирала. Федор Матвеевич был занят подсчетом трофеев. В полон русские взяли все десять шведских судов с остатками команд. Об упорстве и ярости баталии говорило то, что из общего числа шведской команды в 941 человек 361 швед был убит, 350 ранено.
– Из десяти шведов восемь убито или ранено – столь храбро дрался сей неприятель! – доложил Петру генерал-адмирал.
– Тем боле нам почета и славы! – просто сказал Петр, смывая морской водой пороховую копоть с лица. И, обращаясь к Апраксину, спросил глухо: – Сколько же наших в сей баталии полегло?
– Да убитых у нас, почитай, в три раза менее шведов! – радостно сообщил генерал-адмирал.
– Добрая весть! Вот что значит воевать добрым маневром, из столь великого огня с таким малым уроном вышли! – заметил Петр своим флагманам, собравшимся за адмиральским праздничным столом, и тут же распорядился немедля послать к раненому Эреншельду своего лейб-медика.
9 сентября 1714 года Петербург чествовал победителей мри Гангуте. По распоряжению генерал-губернатора Меншикова город был разукрашен флагами и триумфальными арками. Тысячи людей высыпали на набережные, чтобы видеть, как в Неву войдут победители и взятые в полон шведские суда.
Среди зрителей, столпившихся на Троицкой площади, был и драгунский офицер с подвязанной рукой. Он стоял возле коляски, в которой сидела дама в пышном роброне.
– Да полно, Кирилыч, может, тебе померещилось, что наш полковник прибудет в Петербург? – нетерпеливо спрашивала нарядная дама.
– Никак нет, Евдокия Петровна! Господин полковник сам наказал разыскать ваш новокупленный дом в Петербурге и сообщить, что явится он из Финляндии к самому триумфу, с пушками и знаменами, взятыми у Лапгюлы,– с необычайной вежливостью и холодным достоинством отвечал Кирилыч. По всему чувствовалось, что он непомерно горд. Еще бы, хотя он и носил руку на перевязи, но на нем было уже офицерское платье, а нынешний триумф был и его триумфом, о чем свидетельствовала наградная гангутская медаль, висящая на груди.
– Идут! – заволновалась толпа и бросилась от собора к набережной. На Неве показались мачты русских галер и пленных шведских судов. Когда первые три скампавеи сравнялись с Адмиралтейством, оттуда прогремели приветственные залпы, а вслед за тем грохнул салют Петропавловской фортеции – сто пятьдесят один пушечный выстрел.
За русскими скампавеями шли десять пленных судов со спущенными и волочащимися за кормой флагами. С шедшей вслед за «Элефантом» царской галеры грянул ответный салют, поддержанный остальными кораблями... Всю Неву затянул пороховой дым. Пройдя мимо Петропавловской фортеции, суда стали причаливать к пристани у Троицкой площади. В это время с крепости грохнул новый салют, возвещая вторую часть торжества. Под барабанный бой через площадь двинулись преображенцы. Следом за ними везли знамена и пушки, взятые у Лапполы.
– Вот он, свет мой ясный! – Дама вскочила на сиденье коляски и, размахивая сорванным с шеи платком, как знаменем, закричала: – Роман, милый, здравствуй!
Ехавший впереди пушек драгунский полковник услышал тот голос и сквозь торжественную музыку и барабанный бой обернулся и приветственно поднял треуголку.
– Увидел, Кирилыч, увидел меня, свет мой ясный! – Дама на радостях обняла и поцеловала Кирилыча в рыжие усы. Тот дернулся от боли – Евдокия Петровна, должно быть, задела раненую руку.
Меж тем по площади повели пленных шведов. Во главе шведских офицеров, прихрамывая, шел одетый в полную парадную форму шаутбенахт Эреншельд. Замыкал шествие второй батальон преображенцев во главе с Петром, одетым в морской мундир.
Войдя в здание Сената, Петр встал перед князем-кесарем Ромодановским. Федор Юрьевич благосклонно принял его рапорт и рекомендацию генерал-адмирала Апраксина о производстве шаутбенахта Петра Михайлова в вице-адмиралы за славную викторию при мысе Гангут. После чего князь-кесарь неспешно и важно поднялся с председательского кресла и громко произнес:
– Виват! Виват вице-адмиралу Петру Михайлову!
– Виват! – восторженно закричали сенаторы.
– Виват! – подхватили преображенцы и вся толпа на площади. Под восторженные возгласы сенаторов и офицеров князь-кесарь вручил Петру патент на чин вице-адмирала.
В ту же минуту на царской галере был поднят личный флаг новообъявленного вице-адмирала. И грохнул новый салют.
Вечером весь Петербург был иллюминирован, а на четвертый день на Неве был зажжен грандиозный фейерверк. Роман и Дуняша любовались сим фейерверком с балкона собственного дома, купленного Евдокией Петровной к своей скорой свадьбе.
И здесь-то денщик Васька доложил, что господина полковника спрашивает какой-то иноземец.
– Да зови его сюда! – весело приказал Роман, который не хотел уходить с балкона, не досмотрев чудес пиротехники.
И скоро перед Романом вырос наш старый знакомец, веселый и неунывающий Джованни Гваскони. Спотыкаясь на каждом втором русском слове, но все-таки вполне понятно итальянец сообщил, что прибыл на днях с кораблем, груженным апельсинами и лимонами, прямо из Ливорно и что доставил господину полковнику письмо от его брата Никиты, с коим вместе учился живописи во Флоренции.
И пока Роман читал письмо брата, болтливый итальянец сообщил Евдокии Петровне, что при переходе их корабль едва не затонул в Бискайском заливе, где выдержал жестокий шторм, что его очень ласково встретил князь Меншиков, который и сообщил адрес господина полковника, и что ему очень нравятся русские дамы.
При сем красавец Джованни прямо-таки пожирал Дуню черными глазами. Чтобы унять его пылкость, Евдокия Петровна осведомилась о вкусе апельсинов, и здесь Джованни Гваскони превратился в тонкого негоцианта и немедля попотчевал красавицу хозяйку этой диковиной.
– Как там мой браток поживает? – подступил тем временем к Джованни Роман,– Из письма ничего не поймешь, ясно только, что учеба ему еще долгая.
Джованни замялся, а затем выложил начистоту и про студенческую бедность, и про каверзы академика.
– Ну, с деньгами мы ему поможем, а вот с академиком? – задумалась Дуня.
– А с академиком – я прямо обращусь к государю,– сказал Роман.– Коль причислил оный академик Никиту к парижской школе, пусть братец в Париже и учится!
Через неделю Роман и Дуня сыграли свадьбу. Джованни сидел на той свадьбе рядом с Кирилычем. Новоявленный капитан упрямо ел цитроны с кожурой, так ему было горько на той свадьбе.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ
МАСТЕР В ЕВРОПЕ Римская Венера
В Рим Никита отправился с самым нежданным спутником. Не кто иной, как сам академик синьор Томмазо Реди, вызвался быть ему попутчиком.
– Мне надобно приобрести для коллекции великого герцога несколько добрых раритетов, и вы будете сопровождать меня в сей поездке. Совместим приятное с полезным. Я вам покажу Рим и открою величие древнего искусства, а вы поможете мне упаковать и отправить во Флоренцию некие тяжелые статусы.
Вот отчего в Рим Никита добирался не на почтовых, а в карете, предоставленной герцогом академику, и уже по пути маэстро начал нахваливать великий город.Никита немало читал о древнем Риме – и древних и современных авторов – и оттого ведал многое из того, о чем говорил сейчас академик, так что более всего его поразил не сам рассказ, а та горячность, с которой синьор Томмазо воспевал славу, силу и мощь «вечного города».
– Все мы – и флорентийцы, и венециане, и генуэзцы, и миланцы – прямые потомки тех древних римлян! – гордо заключил свой рассказ академик и сам, должно быть, смутился своей горячности и сказал уже сухо: – Впрочем, сами скоро увидите!
И впрямь, когда в темно-синей вечерней дымке показался замок Святого Ангела (грозная папская цитадель, возвышающаяся над всем городом), немалое волнение охватило и академика, и его ученика.
– По этим камням ступали легионы Цезаря, а на этих площадях в древности можно было встретить Вергилия и Сенеку, Овидия и Тацита. А недавно, всего два века назад, здесь творили Рафаэль и наш несравненный флорентиец Микеланджело Буонарроти, начавший воздвигать знаменитый собор Святого Петра – главную церковь всего католического мира! – патетически восклицал академик.
Но Никита пока что узрел другой Рим: карета пробиралась по узким, полуосвещенным улочкам предместья, где запахи чеснока крепко мешались с запахами дешевого кислого красного вина из тратторий.
Остановились наши путешественники в гостинице «Цветущая вишня», которую синьор Томмазо хорошо знал еще по тем годам, когда учился в здешней Академии. Вообще, как понял потом Никита, вся эта поездка была для академика как бы возвращением в свою молодость, когда он, веселый и беспечный художник, изучал здесь законы светотени и перспективы, учился подбирать краски и срисовывал бесчисленные антики, которыми город был усеян так густо, словно из-под земли в нынешний Рим, с его бесчисленными монахами и козами, вольно бродившими по широким площадям, пробивался другой, древний Рим, «вечный город», который не хотел умирать. И то сказать, в нынешнем Риме не набиралось и сорока тысяч жителей, он уступал по численности Венеции и Флоренции, кои уже видел Никита, а древний Рим при своем расцвете насчитывал почти два миллиона. Никите трудно было даже представить эту неслыханную массу людей, собранную в одном месте. И лишь на величественных развалинах Колизея можно было допустить нечто подобное.
Впрочем, на огромной площади собора Святого Петра, по рассказам академика, во время больших церковных праздников тоже собираются десятки тысяч паломников, но сейчас площадь была пустынна. Зато ничто не мешало любоваться ни самим собором Святого Петра, ни его величественной колоннадой.
– Вот оно, творение Микеланджело Буонарроти, нашего великого земляка! – В эту минуту синьор Томмазо, кажется, позабыл, что рядом с ним стоит варвар-московит,– он и Никиту готов был зачислить во флорентийцы.
– И колоннада сия тоже дело рук великого мастера? – не без лукавства спросил Никита, превосходно ведавший, что колоннада построена по прожекту Людовика Бернини. Академик меж тем не выносил этого мастера, основавшего в Италии стиль барокко, сменивший в XVII веке школу Высокого Возрождения. Синьор Томмазо Реди не желал признавать эту новую школу, с ее изменчивостью и непостоянством. Пусть эта школа давно шагнула за пределы Италии и утвердилась во Франции, Германии, Испании, Польше... Академик Реди упрямо жил в своем великом прошлом и, введя Никиту в галерею Ватикана, сразу же устремился к божественному Рафаэлю. Но Никита мельком заметил уже среди портретов (а они интересовали его более всего) дотоле незнакомого ему испанца Веласкеса и, конечно же, своего светоносного Тициана. Но академик прочно усадил его перед Рафаэлем и стал посвящать в тайны рафаэлевой линии.
– Впрочем, что это я вам все говорю и говорю! Завтра же берите мольберт – и за работу! Снять хорошую копию – значит ближе всего подойти к оригиналу!
Когда же Никита усомнился было, кто же его одного пустит в галерею, академик самодовольно махнул рукой:
– Я уже договорился с кардиналом Альгаротти и объяснил ему, что хочу выбить из одного способного московита дух Гиссланди и Ларжильера. Господин кардинал рассмеялся и разрешил вам делать копии.
Никита горячо поблагодарил учителя, хотя и подумал: а не ослышался ли он насчет своих способностей? Ведь то была первая похвала академика!
И жизнь их потекла по установленному распорядку. С утра Никита отправлялся в галерею прилежно копировать Рафаэля, а академик тем временем носился по раскопкам, которые начались тогда в Риме, и скупал различные антики для коллекции герцога. Встречались они обычно на обеде в траттории, которая помещалась здесь же, во дворе «Цветущей вишни».
Синьора Роза, в свои тридцать лет оставшись без мужа, легко управлялась не только с гостиницей, но и с тратторией, кормили у нее вкусно и недорого, что было немаловажно для Никиты, дукаты которого потихоньку стали таять с самого начала путешествия. После обеда академик заявлял, что наступает святой час сиесты (Томмазо Реди провел несколько лет в Испании и приучился там к послеобеденному отдыху), а Никита мчался срисовывать под осенним солнышком римский форум, термы Диоклетиана, колонну Траяна и другие античные древности. Но особливо ему нравился Колизей. Здесь ему иногда казалось, что он слышит, как под нынешним Римом колышется огромный пласт «вечного города».
Впрочем, на раскопках сей пласт словно прорывался наружу и открывались древние римские улицы, возникали прекрасные вещи древнего римского обихода. Особенно много попадалось великолепной античной скульптуры. Правда, наука археология тогда еще только зарождалась и раскопки на свой страх и риск вели любители, так что зачастую то, что не сумело сделать время, завершала кирка кладоискателя: у античных статуй, случалось, отбивали не только руки и носы, но иногда и головы. Между тем мода на античное искусство в Европе все возрастала, особенно во Франции, где со времен Пуссена наряду с барокко утвердился новый стиль – классицизм. Монархи, правители, богатые вельможи давали немалые деньги за римские антики и обставляли свои сады и парки античной скульптурой.
Как раз в тот год, когда Никита прибыл в Рим, по городу, да и по всей Италии, широко разнесся слух о прекрасной статуе богини Венеры, найденной на одном из римских раскопов. Ценители утверждали, что то подлинная богиня любви и красоты и по всем пропорциям не уступает знаменитой Венере Милосской. Статуя была в превосходной сохранности и вдруг исчезла.
Однажды академик вернулся в гостиницу в самом мрачном расположении духа и сердито сообщил Никите и прекрасной синьоре Розе (хозяйка сама обслуживала академика, как почетного гостя, явившегося в карете с герцогскими гербами), что скоро наступит конец света, коль в Риме, центре цивилизованного мира, стали среди бела дня пропадать такие шедевры.
– Я давал этим мошенникам на раскопках, но поручению великого герцога, тысячу золотых дукатов, но они твердят, что статус уже куплен каким-то офицером-иноземцем! И главное, эти кладоискатели не ведают даже, где живет сей новоявленный меценат! – громко возмущался академик, поглощая вторую миску спагетти с мясом и осушая, к ужасу Романа, третий графин вина (рано академик вообще не пил).– Но я доложил моему другу, кардиналу Альгаротти, который весьма кстати не только управляет галереей Ватикана, но и является комендантом Рима, об этой грустной пропаже, и на днях его святейшество издаст строгий указ, запрещающий вывоз из Рима всех антиков. Вот так-то, шельмецы! – И синьор академик строго погрозил пальцем графину, после чего Никита и синьора Роза бережно отвели его в комнату и уложили спать.
Когда на другой день Никита напомнил синьору Томмазо о вчерашнем разговоре, академик схватился за голову:
– Что я натворил, ведь я же сам скупил для герцога добрый десяток антиков, а этот новый указ запретит и их вывоз! Альгаротти говорил, что он самолично на всех заставах расставит добрые караулы! Святая дева Мария, помоги мне! Надобно немедля, до папского указа, убраться из Рима!
Помогла академику не столько дева Мария, сколько синьора Роза. Скоро нашла для статуй две добрые фуры и десяток ящиков и сама проследила за упаковкой антиков. Вечером Никита и герцогский гайдук тайно вынесли ящики из чулана и бережно уложили их в телеги. А поутру обоз академика спешно отбыл из Рима. Синьор Томмазо настолько не доверял извозчикам, что сам уселся в одну из фур, а в другую посадил герцогского гайдука. Никита проводил их до городских ворот.
– Можете задержаться здесь на два-три месяца! – расщедрился академик на прощание,– Я сам отпишу в Москву, что оставил вас в Риме снимать копии божественного Рафаэля.
«Что ж, от дукатов Гваскони кое-что осталось. И ежели жить впроголодь, то по римским ценам как раз хватит на два месяца!»—с горечью подумал Никита.
Но горевал он совершенно напрасно: впроголодь ему жить не пришлось.
Когда он вернулся в гостиницу, синьора Роза встретила его, словно древнеримского триумфатора, – Никиту ожидал такой обед, какой никогда не подавался синьору академику: здесь были и индюшка с орехами, и свежая рыба, поджаренная на оливковом масле, а свежие овощи и фрукты стояли в таком изобилии, словно за стол села сама богиня плодородия.
– У синьоры сегодня праздник?– спросил Никита прекрасную хозяйку, подсевшую к своему постояльцу за стол в новом нарядном платье.
– А разве у синьора художника сегодня не тот же праздник: ведь уехал ваш цербер, этот несносный коротышка академик, который только и знал, что присматривал за вами!
– Так вот в чем дело!– усмехнулся Никита и в упор посмотрел на вдовушку. Синьора Роза покраснела и поправила цветок, прикрывавший смелое декольте на пышной груди. Никите понравилось, что она умеет еще краснеть, и потом ему вдруг подумалось, что эти черные волосы, должно быть, красиво смотрятся на белоснежных плечах. Как у Маньяско... Теперь для него все женщины напоминали модели какого-нибудь художника. Но синьора Роза желала быть только его моделью, столь ей понравился статный белокурый московит.
Вечером хозяюшка сама зашла в комнату Никиты переменить белье и осталась там до рассвета. А на другое утро Никита получил светлую и чистую комнату, какая и не снилась академику. Правда, место для мольберта было оставлено в самом углу, у окна. Всю остальную площадь комнаты занимал роскошный альков, в изголовье которого красовалось большое зеркало. Синьора Роза желала любоваться своим Рафаэлем и в натуре, и в зеркале.
– Дни я уступаю богу искусств Аполлону, но вечера и ночи мои! – важно заявила синьора Роза своему возлюбленному. Как истая римлянка, синьора Роза хорошо разбиралась в античных богах и богинях.
Ничто, казалось, не могло помешать их счастью: Роза не только не препятствовала познавать «вечный город», но словно оживила для него Рим, наполнила его живым теплом. Когда он однажды попросил Розу позировать ему обнаженной, она и впрямь напомнила ему гордых римских матрон, которые не стесняются своих рабов. И он как-то незаметно отложил копии с Рафаэля: тут перед ним была сама жизнь, и линия бедра у Розы и впрямь была Рафаэлевой линией. Возлюбленные все больше и больше оставались друг с другом, и казалось, сам Рим хранит их счастье. Впрочем, любовь их была не христианской, а языческой, они наслаждались упругостью своих крепких тел и учили друг друга все новым способам наслаждения.
Но однажды тревоги «вечного города» настигли и их.В то погожее октябрьское утро Никита направился в Колизей писать эту величественную громаду, которая упрямо противилась времени и тем особо привлекала художника.
На дне чаши Колизея, в бывшем храме Юпитера, босоногие монахи служили заутреню, нежаркое октябрьское солнце блистало на бесчисленных скамьях ниши Колизея, и Никита, прикрыв глаза, казалось, слышал рев тысячной толпы, дающей смерть или жизнь гладиаторам, когда какой-то незнакомец, прикрытый, как и Никита, широкополой шляпой, прервал его мечтания.
– Синьор Никита?– Не было сомнений, незнакомец говорил по-русски! Никита даже головой замотал, столь непривычно звучала здесь, в Колизее, русская речь. Но оказалось, он не ошибся. Перед ним был русский офицер, бравый преображенец Петр Кологривов.– Я тебя, братец, давно заметил, когда еще ты бродил по раскопкам с каким-то маленьким старичком! – сказал офицер внушительно.
– То мой академик Томмазо Реди!
– Вот-вот, я услышал, как однажды сей академик назвал тебя «синьор Никита», затем проследил за вами до гостиницы и все о тебе разузнал! Дело в том, что ты мне нужен, синьор Никита! – Петр Кологривов был сама решимость. Оказалось, что бравый капитан, как и Никита, уже несколько лет обретается в Италии и скупает для царского парадиза на Неве знатные статусы, которые будут установлены потом в Летнем саду.
– Как художник, ты меня лучше всех поймешь.– Кологривов перешел отчего-то на шепот и тревожно оглянулся вокруг. Но никого поблизости не было, и он доверительно признался: – Месяца два назад мне улыбнулась фортуна, и я приобрел на одном раскопе бесценный статус Венеры!
– Так вот кто тот офицер-иноземец, коего по приказу коменданта Альгаротти ищут по всему Риму! – вырвалось у Никиты.
Но Кологривов поправил его:
– Не ищут, а, почитай, нашли. Не сегодня завтра я буду арестован,– один из кладоискателей опознал меня.
– А статус?– Никите передалось волнение преображенца.
– Венера должна прибыть в Россию! Я уже отписал государю, и скоро от него явится посланец. Но ежели меня арестуют, а меня точно арестуют, то все пропало! Оттого вся надежда на тебя, друг мой! Славный статус надобно как можно скорее вывезти из Рима!– Кологривов даже схватил Никиту за руку. Но тот и так был готов к действию.
– Венера должна прибыть в Россию! – Никита желал этого не менее отважного преображенца.
В тот же день похоронный катафалк прибыл на кладбище, уставленное каменными усыпальницами, и из одного из склепов два синьора в широкополых художнических шляпах перенесли тяжелый гроб в катафалк.








