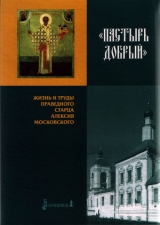
Текст книги "Пастырь Добрый"
Автор книги: Сергей Фомин
Жанры:
Религиоведение
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 57 (всего у книги 57 страниц)
Вот какой верный признак твоего истинного духовного отца, который может тебя вести: если ты от него выходишь облегченная, твоя душа как бы приподнята над землей, ты ощущаешь в себе новые силы, мир, радость, свет, любовь ко всем, с желанием работать над собой, служить Христу – знай, это твой истинный духовный отец».
Публикуется впервые по машинописи из архива Е. В. Апушкиной. Автор воспоминаний неизвестен.
Кончина и погребение
Незадолго до своей кончины о. Алексий передал своих духовных детей о. Сергию и тут же слег в постель.
Обычно в летнее время он уезжал на отдых в Верею, в свой домик. Предполагался и в текущем (1923) году его отъезд туда, но на этот раз он произошел как–то по–особенному.
Прежде всего Батюшка собрался неожиданно, как–то торопливо, да и прощание его было какое–то загадочное. Отслужив Божественную литургию, он всех причастил Св. Христовых Тайн и благословил каждого образком Св. Николая, говоря: «Благословляю вас нашим Хозяином, – так называл он Святителя, покровителя маросейского храма. – Я чувствую себя очень плохо, уезжаю, но скоро вернусь». Действительно, прошло всего лишь девять дней, и получили телеграмму о внезапной кончине Батюшки. Он умер 9 июня 1923 года.
По всему было видно, что Батюшка намеренно уезжал умирать в Верею, стремясь, между прочим, закончить там на свободе последнее свое завещание. Все бывшие при нем замечали, как он торопился писать его, отказываясь от прогулки на солнце, обычной в прежнее время. Когда его звали из комнаты на воздух, он говорил: «Нет, я здесь в тени посижу, там у меня мысли рассеиваются, не успею докончить». И тут же добавлял: «Я ведь затем и приехал, чтобы заняться этим, в Москве мне бы не дали».
Последние дни Батюшка вел себя так, как будто с ним что–то случилось, или он чего–то ожидал: говорил тихо, двигался медленно, как бы боясь нарушить внутренний мир свой, и казался каким–то просветленным. Последний вечер был весел и особенно ласков со всеми. Умер о. Алексий внезапно – от паралича сердца.
Как громом поразила всех неожиданная смерть дорогого Батюшки.
Тело почившего накануне погребения было перевезено из Вереи в Москву около 6 часов вечера. Гроб встретили: собравшееся в большом количестве духовенство, родные, сестры и братья маросейской общины и тысячная толпа народа, которую не могла вместить небольшая местная церковь Св. Николая. Чтобы дать возможность помолиться всем, служили две заупокойные всенощные: в храме – преосвященный Герман Волоколамский (см. на фото выше), и во дворе – Тихон, митрополит Уральский. Служба окончилась около 12 часов ночи. Все остальное время между богослужениями пели панихиды и происходило прощание с почившим. Утром в 10 часов началась Литургия, которую совершал епископ Феодор, настоятель Данилова монастыря (см. на фото выше), в сослужении 30 священников и 6 диаконов, а на отпевание, закончившееся в 4 часа, вышло около 80 человек духовенства. Тут же было прочитано посмертное завещание о. Алексия духовным чадам и сказано несколько надгробных речей. В 5 часов при пении пасхальных песнопений похоронная процессия двинулась на Лазарево кладбище, куда прибыл для встречи тела Батюшки Св. Патриарх Тихон, за несколько часов до этого освобожденный из заключения. Святейший отказался войти в кладбищенский храм, ставший в его отсутствие обновленческим, и облачался на паперти. Здесь, таким образом, произошло всенародное осуждение Главою Русской Православной Церкви нового раскола, причем осуждение немедленное, как только возможно было таковое сделать. Факт, достойный примечания!
Со всей Москвы собрался народ на это великое духовное торжество. С одной стороны, была большая скорбь о потере незаменимого пастыря, а с другой, всех охватила радость по случаю неожиданного освобождения Святейшего. «Прежде чем воскреснуть, нужно умереть». И о. Алексий как бы для того умер, чтобы Церкви дарована была эта радость. Он даже говорил некоторым: «Когда я умру – вам будет радость».
Публикуется по машинописи из архива Е. В. Апушкиной. Автор – Епископ Арсений (Жадановский).
Позже Владыка включил эти ранние воспоминания в состав своего очерка «Отец Алексий Мечев».
О. Сергий и духовные дети Батюшки
Любовное отношение о. Сергия к перешедшим к нему по наследству духовным детям Батюшки не исключало в некоторых случаях проявления по отношению к ним большой строгости. Вот что рассказывает об этом одна из сестер: Однажды после Литургии к о. Сергию подошла одна из сестер за благословением, но он ее не благословил, так как она в чем–то провинилась, и так, не благословив, несмотря на ее настойчивые просьбы, ушел домой. На дворе она поймала меня и излила мне свое возмущение на о. Сергия: «И это духовный отец! Я иду на суд, прошу молитв и благословения, а он отказывает». Когда я поднялась наверх в квартиру о. Сергия, он был в Батюшкиной комнате и горячо молился. Потом подошел к окну и несколько раз благословил сестру. Она этого не видела.
Отношение о. Сергия к своим духовным чадам после смерти Батюшки
В первое время после смерти Батюшки о. Сергий особенно заботился о духовных детях Батюшки и уделял им много времени и внимания. Но вместе с тем он не переставал заботиться и о своих духовных чадах, думая о них и помогая им даже в самое тяжелое для себя время.
Одна из духовных дочерей о. Сергия лечилась в Крыму, когда умер Батюшка о. Алексий. О Батюшкиной кончине ей сообщила одна из ближайших ее подруг. Одновременно пришло письмо и от о. Сергия: О. Сергий просил меня молиться и не приезжать в Москву, пока не отпустят врачи. В такой момент, когда сам он переживал такое горе, когда вся тяжесть и все дела легли на его плечи, о. Сергий нашел время сам мне написать, чтобы удержать меня в Крыму на лечении, т. к. знал, что я буду рваться к семье своей духовной, чтобы вместе нести наше горе.
Та же сестра вспоминает такой факт, свидетельствующий о трогательной заботе о. Сергия о своих духовных чадах: Я должна была ехать в Геленджик, чтобы отпеть похороненного там отца моего. Вдруг получаю телеграмму, чтобы выезжала в Геленджик и что о. Сергий сам приедет туда. Оказывается он узнал что в Геленджике в это время не было православного священника. «Я себе представил, – говорил он потом, – что вы будете переживать, когда не сможете совершить отпевание, и решил поехать туда сам». О. Сергий приехал из Кисловодска, где лечился в это время, в Геленджик и на Преображение 6 августа совершил отпевание, а потом уехал в Москву.
Публикуется по машинописи из архива Е. В. Апушкиной.
Стихи
«Знаешь могилку на кладбище чтимую…»
Знаешь могилку на кладбище чтимую,
Крест широкий на ней,
Батюшка в ней похоронен любимый,
Старец–отец Алексей.
Жизнь протекла его крестная тихая
В подвиге светлом любви;
В ней проявилась вся святость великая
Бога познавшей души.
В ней проявилась вся сила стремления
К радости вечной святых,
Светом блаженства, небес озарение,
К чистому чистый порыв.
Радостный шел он дорогою скорбною
Жизни, родной небесам,
С близкими Господу, с богоугодными,
Шел по святым их стопам.
Через борьбу, через подвиги трудные
Среди страстей и греха,
С трепетом нес он сокровище чудное
Образ святой Божества.
Бережно души, Богом врученные,
В вере хранил он живой;
Вел озаренными, вел окрыленными
Светлой духовной весной…
Без покаяния, без обнищания
Людям чужды небеса,
Не отражает неба сияния
Полная мрака душа.
Через смирение в вечность вхождение,
Преображение души в нищете,
В светлые ризы любви облачение,
Светлая жизнь во Христе.
В мире смирения, стройной гармонией
Сердца порывы звучат,
Все освященные чистой любовию
Души людские горят.
Перед великою тайною вечности
Радостно жизнь принимать,
За божество душ человеческих
Воином честным стоять.
В свете той радости, богослужение
Строил отец Алексей,
Небо земное в жарких молениях
Он открывал для людей.
Небо то – Церковь, в ней Бог – Вседержитель,
Дева во славе святой,
Ангелы – верные неба служители,
Праведных мир и покой.
Небо то – Церковь – Дом Божий Священный.
Жизнь в ней тиха и ясна;
Жизнь непорочных, жизнь совершенных
Сродников славных Христа.
Там, преклоняясь, душа воспевает
Песни хваленья Творцу,
Милость Господня там разбивает
Безчеловечности тьму.
Трудность великую, ношу тяжелую
Батюшка брал на себя;
В душах слепых, в их уродстве греховном
Бога святыню храня.
Он умолял всех придти к покаянию,
Храм свой душевный хранить,
В гордом безумии, в мертвом отчаянии
Милость Христа не забыть.
Он умолял полюбить первозданную
Чистую правду души,
Ставшую многим чужою, попранною,
В гордости, в злобе, во лжи…
Всё согревающим, солнцем сияющим
Жизненный путь он прошел;
В мире любви, со Христом пребывающий
В тихую вечность ушел…
Знаешь могилку на кладбище чтимую,
Крест широкий на ней,
Батюшка в ней похоронен любимый,
Старец – отец Алексей.
Памяти отца Алексея I.
Господь тебя призвал. Его святая воля!
А наш удел – влачить безрадостные дни:
Утешитель ушел, печальна наша доля,
Сироты без отца остались мы одни!
Утешитель ушел – и сердце опустело,
Погасло солнышко – и темнота вокруг…
И без тебя вся жизнь внезапно омертвела,
Как в засуху, дождем не орошенный луг…
К кому теперь идти в день скорби за советом?
Кто успокоит нас, усталых и больных?
Кто нежно одарит и лаской, и приветом,
И укротит тоску среди невзгод лихих?
К тебе, отцу, мы шли унылой вереницей,
Неся недуг души и темную печаль,
Как осенью туман, нависший над столицей, —
От слова твоего она скрывалась вдаль!
Погасло солнышко, не стало Алексея Воистину отца и пастыря для нас,
Который, нас любя и сердца не жалея,
Отдавши нам его, безвременно погас!
II.
Весенний вечер спустился на землю,
На землю сумрачным крылом,
Вокруг тебя народ молился,
А ты уснул последним сном.
Был полон храм твоим народом,
И двор вмещал его с трудом,
Собрались все, кто год за годом
Твоей любовью был ведом.
Собрались преданные братья
И сестры храма твоего,
Которым ты открыл объятья
И ласку сердца своего.
И свечи трепетно горели,
И грустно, в тишине немой
О вечной памяти мы пели
С покорно–скорбною мольбой.
Но не одна печаль лежала
На лицах всех твоих друзей.
В глазах уверенность сияла,
Что жив отец наш Алексей!
Не навсегда ты нас покинул,
Уйдя лишь на короткий миг,
Ты нас в молитвах не отринул,
К твоим призывам не глухих.
И мне казалось, что печальный,
Но верный любящий народ,
Не гимн покоя погребальный,
«Христос воскресе!» запоет.
Один лишь я одежды брачной,
Идя к тебе, надеть не мог,
«Зачем, зачем, – роптал я мрачно,
Тебя так рано принял Бог».
Я не успел с тобой проститься,
Еще, еще в последний раз
Твоей беседой насладиться,
Улыбкой доброй ясных глаз!..
Нависла полночь над столицей,
Зажглися звезды в небесах,
Народ печальной вереницей
Все целовал любимый прах.
И я со жгучими слезами
Приник ко гробу, наконец,
Где под густыми пеленами
Почил духовный наш отец.
24.12.1923 (ст. ст.)
III.
Давным–давно был век Нерона,
В глуби столетий он угас,
Но жив остался изверг трона
В воспоминаньях и сейчас!
Мы помним адское гоненье
Его на первых христиан,
За смерть которым и мученье
Венец нетленный Богом дан.
Мы видим страшную арену,
И диких рвущихся зверей,
И за одной другую смену
Мужчин, и женщин, и детей.
Мы видим кровь, мы слышим стоны,
И рев зверей, и вопль толпы,
Весь Колизей дрожит огромный,
Дрожат и стены и столпы…
Мы видим ночь на стогнах Рима,
В садах же царских пир идет,
Туда толпой необозримой
Спешит скучающий народ.
Как днем светло в садах роскошных:
Вот христиане… Длинный ряд!..
Как факелы, из рук безбожных
Смолой облитые, горят!..
Давно те годы миновали,
Далеко в прошлое ушли,
Когда лишь тело убивали,
Убить же душу не могли!
Иной на нас из тьмы кромешной
Теперь ползет, крадется зверь,
К душе озлобленной и грешной
Он без ключа откроет дверь.
И поселится в ней лукаво,
Изгнав распятого Христа!
И будет править он со славой
Своим народом без креста,
Забывшим светлое ученье,
Страдальца Кроткого завет!..
Зачем на веру нам гоненье?
Ее погубит «культпросвет»!
Святые книги уничтожит,
В музей иконы унесет,
Святых останки там же сложит,
И дух, не тело, в нас убьет!
И многих пастырей терпенье
Во власть получит сатана:
Иному ссылка, заточенье,
И смерть иному суждена…
Ты много лет, наш старец дивный,
Душа с душой с народом жил,
Он шел на голос твой призывный
И горячо тебя любил.
Но были чьей–то темной силой
Пред недалекою могилой,
Когда дни были сочтены,
Твои уста заграждены…
В ночь на 1, 5 и 16.1.1924 г. (ст. ст.)
IV.
Ты умер, но твой дух пребудет
Навеки с паствою твоей
И вечно памятен ей будет
Наш добрый пастырь Алексий!
Холодный ветер пусть повеял,
Пускай гнетут нас ночь и тьма,
Ты семя доброе посеял
И не страшна ему зима!
И если злое царство зверя
За грех народа Бог продлит,
В твои молитвы свято веря,
Он искушенья избежит.
Твою могилку дорогую
Не позабудет никогда,
Снесет тебе всю грусть земную,
Как и в минувшие года.
***
Цинготные, изъеденные вшами,
Сухарь обглоданный в руке,
Встаете вы суровыми рядами
И в святцах русских и в моей тоске.
Вас хоронили запросто, без гроба,
В убогих рясах, в том, в чем шли.
Вас хоронили наши страх и злоба
И черный ветер северной земли.
В бараках душных, по дорогам Коми,
На пристанях, под снегом и дождем,
Как люди, плакали о детях и о доме,
И падали, как люди, под крестом.
Без имени, без чуда, в смертной дрожи,
Оставлены в последний час,
Но судит ваша смерть, как пламень Божий,
И осуждает нас.
***
Есть где–то далеко река на заре золотая,
Там грузят барку подневольные милые руки.
Над озером синим несутся гусиные стаи,
Любовь возрастает в скорбях и в разлуке.
Храм наш крепко заперт, заперт крепко,
Светел, тих и прост.
Пред иконами чернеют ленты крепа,
Как в Великий пост.
Благовещенскую чашу
Ты поднял.
Нищету и косность нашу
Причащал.
И опухший, маленький, горбатый,
Он пошел в Нарым.
Стань же, храм наш, райскою палатой
Перед ним.
***
Был другой, спокоен, строг и светел
Весь, как луч,
Тайно помяни нас на рассвете
Средь Уральских круч.
И в бараке задымленном, душном
Он неколебим.
Райской лестницей воздушной
Засияй пред ним.
***
Вот слепец, но в душу смотрят очи,
Ничего, что слаб,
И тебя во мрак острожной ночи
Гнал этап.
И склонивший под Христово иго
Молодость свою,
И тебя, простец, над вечной книгой
Узнаю.
***
Но того, кто всю подъемлет муку
На плечи свои,
Ангельскою песней убаюкай
И благослови.
Веянием покоя неземного
Освежи его уста,
Вместе стать нам даруй снова
У Креста.
***
Что нам осталось? Храм наш взят,
С могилы крест высокий снят
И листья первые весны
Морозом сожжены.
Но знаем мы: издалека
Благословившая рука
На жизнь, на скорбь, на смертный час
Соединяет нас.
***
Только солнце знает радость,
Только птицы славят Бога,
Только ветви крестным взмахом
Осеняют нам дорогу.
Ни приветствовать любимых,
Ни советоваться с братом,
Вера скрыта, церкви срыты,
Тельный крест в одежде спрятан.
Но душой освобожденной
Отрываясь от земного,
Мы, встречаясь, чертим рыбу
Символ имени Христова.
***
Я люблю тебя, мой тихий вечер,
Ночь после вечерни так тиха,
Словно нет и не было греха.
Словно вместе я со всеми вами,
На кого не смею посмотреть,
Словно на любимом нашем храме
Продолжает колокол гудеть.
Словно я к ногам отца припала,
И прозрачна стала темнота,
Словно от руки его усталой
Надо мною знаменье креста.
Публикуются впервые по машинописному сборнику из архива Е. В. Апушкиной, каковой и печатается полностью, включая стихотворения, судя по содержанию, написанные уже много лет спустя после смерти о. Алексия Мечева.
Достоверно устанавливается авторство лишь одного из стихотворений («Цынготные, изъеденные вшами»). «Новомученикам и Исповедникам Российским, от безбожников избиенным», посвятила стихотворение духовная дочь старца Нектария, оптинка в миру Н. А. Павлович. Никто не смел его записывать – как молитву, заучивали наизусть. «Все, кому это могло повредить, уже умерли», – сказала мне И. В. Никонова, сама прошедшая через сталинские лагеря, и, решившись, продиктовала эти ни разу не публиковавшиеся, безценные строки Любви и Вины» (Ильинская А. Пинега. Документальная повесть о новомучениках // Литературная учеба. 1991. Кн.5. С.80. Само стихотворение, озаглавленное «Они», опубликовано в журнале с некоторыми разночтениями).
Надежда Александровна Павлович (1895 —3.3.1980) – родилась в местечке Лаудон Лифляндской губ. (нынешняя Латвия). Окончила Александровскую женскую гимназию во Пскове и историко–филологический факультет Высших женских курсов имени Полторацкой в Москве. Ее поэтические занятия сблизили ее с В. Брюсовым, А. Белым, В. Ивановым, С. Есениным, Б. Пастернаком и А. Блоком. Работала в президиуме Всероссийского союза поэтов (1919—1920). В 1922 г. она впервые попадает в Оптину пустынь и становится духовной дочерью старца Нектария, благословившего ее заниматься литературным творчеством, всегда заботиться об Оптиной пустыни и делать все возможное для ее сохранения. Символично было посещение ею находившегося в заключении о. Сергия Мечева. (Павлович работала тогда в Красном Кресте, помогая родственникам и друзьям передавать вести и посылки заключенным). В то время такое посещение зоны автоматически влекло за собой арест. Но Господь хранил ее за молитвы ее духовного отца. Следует отметить, что именно при ее содействии были спасены и перевезены в Москву монастырская библиотека и ее рукописный отдел (1928), а обитель получила статус памятника культуры и взята под государственную охрану (4.12.1974), началась ее реставрация. Особого разговора заслуживают публиковавшиеся ею под разными псевдонимами религиозно–философские произведения в «Богословских трудах», «Вестнике Западно–Европейского Экзархата» и других православных периодических изданиях. Похоронена в Москве на Даниловском кладбище.
Библиография
• Бердяев Н. А. Самопознание. Опыт философской автобиографии. Париж. 1948. С.221.
• Отец Алексей Мечев. Воспоминания. Письма. Проповеди. Редакция, примечания и предисловие Н. А. Струве. YMCA–PRESS. Paris. 1970; 2–е изд. Paris. 1989. 389 с.
• Тропани Н. В. Воспоминания о храме на Солянке // Московский комсомолец. 1990. 14 сентября.
• Дроздов С. ЦК ВЛКСМ думает о душе // Комсомольская правда. 1990. 10 октября.
• Червяков А. Старинный московский приход // Московский художник. 1990. 2 ноября.
• Червяков А. У Николы в Кленниках // Литературная Россия. 1990. 14 декабря. С.22.
• Игумен Андроник (Трубачев). Русский пастырь на приходе // Москва. 1990. № 12. С.160—161.
• Священник Павел Флоренский. Отец Алексей Мечев // Москва. 1990. № 12. С.162—165.
• Священник Павел Флоренский. Рассуждения на случай кончины отца Алексея Мечева // Москва. 1990. № 12. С.165—178. [Впоследствии обе эти статьи переизданы: Священник Павел Флоренский. Сочинения в четырех томах. Т.2. М. «Мысль». 1996. С.591—627.]
• Епископ Арсений (Жадановский). О Батюшке старце о. Алексее Мечеве // Москва. 1990. № 12. С.178—184. [Впоследствии эти воспоминания были опубликованы под наст, своим названием «Отец Алексей Мечев» в кн.: Епископ Арсений (Жадановский). Воспоминания. М. Православный Свято–Тихоновский Богословский институт. 1995. С.14—31].
• Московский приходской сборник. Вып.1. Храм Николая Чудотворца в Кленниках. Изд. «Московского журнала». М. 1991. С.207.
• Червяков А. Московский архив // Московский журнал. 1991. № 5. С.52—54.
• Добровольский А. Памяти дорогого батюшки о. Алексия // Московский журнал. 1991. № 5. С.54—58.
• Священник Сергий Дурылин. В те дни // Московский журнал. 1991. № 8. С.20—27.
• Бычков С. Мечевская община // Московский комсомолец. 1991. 27 ноября.
• Монахиня Иулиания (Соколова). Жизнеописание московского старца отца Алексея Мечева. Храм свт. Митрофана Воронежского [М. 1992]. 175 с. Изд. 2–е, испр. и доп. М. «Русский хронограф». 1999. 268 с.
• Дар московскому приходу. [О передаче М. А. и Н. А. Струве двух икон письма Т. В. Ельчаниновой (1897—1981) в храм Святителя Николая Чудотворца в Кленниках] // Московский журнал. 1992. № 6.
• Дурасов Г. П. Церковь святителя Николая в Кленниках и ее настоятели. Первая треть XX века. (По воспоминаниям современников) // Православие и русская культура. Кн. I. М. Координационно–методический центр Прикладной этнографии Института этнологии и антропологии РАН. 1993. С.200—274.
• Московский Батюшка. Воспоминания об о. Алексее Мечеве. Сост. Г. Дурасов. Издание Московского Свято–Данилова монастыря. 1994. 111 с.
• Пестов Н. Е. Современная практика Православного благочестия. Опыт построения христианского миросозерцания. Кн. I. «Сатисъ». СПб. 1994. С.121, 200; Кн. II. СПб. 1995. С.122, 296, 298, 317, 329—330, 336—337, 389—390, 401; Кн. III. СПб. 1995. С.88—89, 113, 114—115, 160, 275, 284, 295, 349—350, 396—401; Кн. IV. СПб. 1996. С.21, 25, 27, 38—39, 56—57.
• Добровольский Л. Рассказы о старце Алексее Мечеве, о чудесах, им совершенных, и о других чудесах. М. «Мега–Сервис». 1995.
• [Священник Константин Ровинский.] Беседы старого священника со своими духовными чадами о некоторых событиях и случаях, коим он сам был очевидцем, которые он сам испытал и о которых слышал от заслуживающих доверия лиц, близких ему по духу. М. «Паломник». 1995. С.196—212. Изд. 2–е, испр. и доп. М. «Паломник». 2002.
• «Женская Оптина». Материалы к летописи Борисо–Глебского женского Аносина монастыря. Сост. С. и Т. Фомины. М. «Паломник». 1997.
• «Пастырь добрый». Жизнь и труды московского старца, протоиерея Алексея Мечева. Сост. С. В. Фомин. М. «Паломник». 1997. 782 с. Изд. 2–е, испр. и доп. М. «Серда–Пресс». 2000. 767 с.
• Соль земли. Сост. С. В. Фомин. М. «Паломник». 1998.
• Старец протоиерей Алексий Мечев. Жизнеописания и свидетельства к церковному прославлению. Случаи прозорливости, примеры прижизненных и посмертных чудес, знамений, молитвенной помощи старца о. Алексия Мечева. М. Храм свт. Николая в Кленниках. 2000. 80 с.
• Маросейка. Жизнеописание отца Сергия Мечева. Письма. Проповеди. Воспоминания. Sam&Sam. 2001. 455 с.
• Священномученик Сергий Мечев. Тайны Богослужения. Духовные беседы. Письма из ссылки. М. Храм свт. Николая в Кленниках. 2001. 359 с.
• «Свете Тихий». Жизнеописание и труды епископа Серпуховского Арсения (Жадановского). Т.3. М. «Паломник». 2003.







