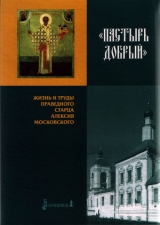
Текст книги "Пастырь Добрый"
Автор книги: Сергей Фомин
Жанры:
Религиоведение
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 50 (всего у книги 57 страниц)
Все так же, если не сильнее, читал о. Алексей. Чувствовалось, что сегодня он молится за свою душу, сам кается, молится особенно сильно.
О. Алексей ведь начинал свой последний Великий пост на земле и последний раз приносил Господу покаяние за себя и свою паству.
У меня еще больше было слез, еще больше разрывалась душа от покаяния, еще сильнее просила Бога простить меня.
На другой день, перед тем, как идти исповедываться к о. Константину, прихожу к батюшке.
Он как–то странно посмотрел на меня, точно изучая меня, а у самого глаза темные, большие–большие.
– Батюшка, – с отчаяньем сказала я, – я все еще боюсь, грехов много. Как проведу я пост? Пасхи не будет.
– Ну, теперь уж кажется нечего бояться… после вчерашнего, – как–то странно проговорил он. – Слезы–то еще остались? – пошутил он. Голос его дрогнул.
– Батюшка, что толку в слезах моих. Батюшка, а я вот еще не сделала, что о. Константин велел.
– Ну, ничего, авось забыл. Простит. Он добрый, – улыбаясь, сказал он.
Нет, нет, подумала я, не такой мой «отец», чтобы простить. На исповеди у о. Константина он как всегда на все мои грехи отвечал:
– Бог простит.
Когда же я сказала, что не исполнила его приказания и просила простить его (этот грех), он промолчал. Я упала ему в ноги. Он только сказал: что не сделано, остается не сделанным. Но грехи разрешил и на утро я причащалась. А после, как всегда, пошла к батюшке показываться.
– А наше с вами дело, батюшка, не вышло.
Он удивленно вскинул на меня глаза.
– Насчет епископа Т.
– Неужели не простил! – удивленно воскликнул он. – Однако же! – Потом, радостно потирая руки, добавил:
– Ну и о. Константин. Мне вас очень жалко, но сделать ничего не могу… Буду молиться за вас, чтобы Господь помог вам.
Опять настало время исповедываться у о. Константина. Опять валялась в ногах у него. Но опять услыхала от него те же слова. Я испугалась, что таким образом и Пасхи не будет у меня. Решила во что бы то ни стало исполнить наложенное.
Пошла на дом к архиерею, он меня знал немножко – не приняли. Узнала, где он будет на Страстной вести общую исповедь.
Отправилась. Церковь домовая, все свои, все из «обобранных». Всю службу я простояла на коленях, каясь Богу в своем грехе, а потом, как все, подошла к архиерею, поклонилась ему в ноги и, стоя на коленях, сказала:
– Простите меня, ради Христа, грешную, Владыка, за то, что я осуд…
Он не дал докончить, накрыл омофором и громко сказал:
– Разрешаю все грехи твои, Александра.
Я заставила себя поцеловать край одежды его в знак почтения, и когда все кончилось и он уходил, окруженный своими, я снова подошла к нему, поклонилась ему в ноги и попросила его св. молитв за мою грешную душу.
Из церкви вышла я точно из бани, но на душе было легко. Полетела к о. Константину. Все рассказала ему. Он остался очень доволен и так тепло и ласково сказал:
– Бог простит, – и дал гостинец.
Веселая прихожу к батюшке. Он до мельчайших подробностей велел все рассказать ему. Остался очень доволен, особенно тем, что я, каясь, всю службу простояла на коленях.
– Это очень хорошо. Очень. Всегда так делай. Всегда. – И взгляд его темных–темных глаз, казалось, хотел запечатлеть это в душе моей.
И с тех пор в дни поста, когда о. Константин требовал особенного покаяния или когда «отцы» мои за что–нибудь ставили меня на покаяние, считалось, что нужно каяться так.
И иногда казалось, что не выдержишь, но вспомнишь темные глаза о. Алексея и эти его слова, и чувствуешь, что иначе нельзя и стараешься не ослабнуть. И молитва делалась сильнее.
Как–то батюшка сказал:
– Надо сказать, что, хотя и плохо везешь, но все же много можно накладывать – свезешь.
И потом всегда это говорил, когда особенно трудна была учеба и сурова для меня духовная жизнь.
Уже после батюшкиной кончины я поняла, почему ему так хотелось, чтобы я была на Вечерне Прощенного Воскресения, как несколько раз высказывал он мне. В это воскресение батюшка говорил проповедь, в которой прощался с нами навсегда. Видя в этот Великий пост мое покаяние и труды внешние и внутренние, батюшка часто принимал меня особенно ласково. Бывало, так бережно–тихо исправляет, утешает, ободряет. Особенно тяжело как–то было. Казалось, духовная жизнь Вани не двигалась совсем. Со слезами излила свое горе батюшке. Он так участливо старался утешить меня. Отечески нежно ласкал меня и, наконец, сказал:
– Оставь все здесь у меня это.
– Не могу, батюшка. – А сама подумала: как я оставлю тебе такое мое бремя, когда и без моего–то у тебя довольно разного горя.
– Тебе говорю, оставь, – ласково повелительно сказал он и ударил рукой по столу. – Вылей здесь все и оставь.
– Нет, как хотите, батюшка, чтобы я вас да еще своею ношею обременяла. Нет, не могу.
– Оставишь, – уверенно сказал он, и не успела я дойти до порога, как почувствовала, что, против моей воли, точно что–то свалилось с плеч и легко и радостно стало на душе моей.
Как я ни привыкла ко всему со старцем моим, но то, что случилось со мной, поразило меня. Я всем существом противилась и все же молитвами о. Алексея Господь снял тяжелое бремя с души моей.
Прихожу как–то к батюшке на исповедь и говорю: – Я, батюшка, боюсь, что не сумею разобраться в душе своей. Наверное там есть такой грех, которого я не вижу и которого не понимаю. Посмотрите вы.
Он защитил глаза свои, как от солнца, и стал смотреть мне в глаза. Казалось, его взгляд проходил всю меня, все тайники души моей, все малейшие ее уголки – все было открыто для него. Глаза его были темные, большие и взгляд необыкновенно острый.
Я стояла перед ним на коленях, боясь пошевельнуться, боясь дохнуть, и тем помешать ему. Он смотрел и прямо, и сбоку, точно подходил с разных сторон к душе моей.
– Нет, после долгого осмотра сказал он, – ничего. Иди к о. Константину. – Потом вдруг: – Нет… постой–ка.
И опять, точно что ему показалось, взглядом насквозь пронзил меня, как будто он что–то упустил. Я испугалась, а вдруг найдет что ужасное.
– Нет, ничего, – успокоенный сказал он. – Нет, ничего. Иди с миром. – И большим благословением отпустил меня.
Всегда казалось, да и было на самом деле, что он видел все, что делалось в человеческой душе. И он иногда так вот исповедывал. Бывало придешь к нему на исповедь, станешь на колени и скажешь: «Ну, батюшка, смотрите. И, если можно, простите и разрешите». И он так вот посмотрит всю твою душу насквозь и бывало только скажет:
– Нет, ничего. Иди к о. Константину. – Вот и вся исповедь. А как легко становилось на душе. И шла к своему «отцу» с чувством, что Господь уже простил тебя.
А как спокойно было. Сама не умела разбираться в своей душе, а здесь была уверенность, что другой все у тебя разберет и ничего не оставит в самых тайных уголках ее.
Бывало, он часто заметит в тебе, чего сама за собой не замечаешь, сейчас вытащит наружу, так что тебе станет ясно, что в тебе сидело. И так он постепенно приучил меня разбираться в самой себе, распознавать, что в тебе было плохого и тем очищать душу твою.
Да, дух старца о. Алексея умел раскрывать души людские.
Такая проверка старцем тайников души твоей давала очень многое. Она приучала «ходить» внимательно. Бывало несколько раз проверишь свои помыслы, свои поступки. Стараешься внимательно разбираться во всем, обдумывать все, чтобы не пропустить у себя чего–либо недолжного.
Мое настроение постом продолжало быть все тем же. Страх перед Страстной и отчаяние в своей плохой жизни и за свои грехи.
Страх перед Богом был так велик, что, подходя к Причастию, вся тряслась, так что о. Константин всеми способами старался отучить меня от этого. Но это был не тот страх, который человек должен иметь перед Господом.
И вот в одну из исповедей, когда было уж очень скверно на душе, а батюшке говорить этого не смела, он меня стал утешать.
– Вам не нужно бояться, что же делать другим тогда. Покаяние нужно всегда иметь и чувство своего непотребства, но такой страх нужно оставить. Он не для вас, голубушка моя. Как вы относитесь к людям! Как вы жалеете их! Сколько их сюда приводите! Сколько раз вам приходилось приходить из–за этого так! Сколько раз – я знаю. А сколько – не знаю. Ване своему вы все отдаете – душу ему отдаете. А случай с Михаилом? У меня и то было только раз в жизни такое.
И он рассказал, как его позвали соборовать умирающего. Как он узнал, что больной в ссоре со своими близкими и как ему удалось помирить его с ними.
– Да ведь то у меня… Тогда Господь явил особенную милость Свою к вам. Ведь кто другой, а я знаю, что вам это стоило. Чего же, голубушка, бояться вам? Не нужно. Оставьте. Кайтесь, но твердо верьте, что Господь все простит и даст вам Свое Воскресение.
Он крепко обнял меня, поцеловал и положил руку мне на голову. Так он долго молился.
– Так нечего вам бояться гнева Божьего. С вас Господь не взыщет. И праздник будет.
С удивлением слушала утешения дорогого старца моего. Ведь он мне приписывал, что сам делал, что сам чувствовал. Я ведь только приводила людей к нему, я ведь только просила его о их нуждах. А ведь молился–то он за них, утешал–то он их. И он давал им все.
Батюшка, конечно, жалея меня, не знал, что и сказать мне в утешение. Я была в таком состоянии отчаянья, что эти его слова не могли возбудить во мне самомнения. Я им не верила. Ничто тогда не могло утешить меня.
– Батюшка, родной, что вы говорите. Ведь это все неправда, – воскликнула я. – Жалея меня, вы все это говорите. Батюшка, родной, спасибо вам, – со слезами сказала я, тронутая до глубины души любовью и состраданием ко мне, скверной, моего безценного батюшки.
– Оставь все это у меня, иди с миром, – благословил он меня ласково. А в следующий раз, бывало, он опять строго требовал ответа во всем,
точно всего этого и не было.
Батюшка редко хвалил меня и просфоры давал редко. Но когда уж жалел, то жалел и ласкал, как мать свое дитя, и все сиротство души пропадало мигом.
Он, хваля, придавал силы идти дальше. Но после таких случаев был особенно взыскателен и серьезен.
– Хвалить–то, – бывало, скажет, – вас незачем. Жизнь ваша лучше многих других, легкая она у вас. Сама–то живешь плохо, а думаешь, что кругом нехорошо.
На четвертой неделе, в воскресенье служил батюшка. Совершенно неожиданно для меня явилась та молитва, которую давно–давно я испытала на акафисте Феодоровской. Так я промолилась всю обедню. Никого и ничего не видала. На душе было так покойно и уверенно. Я молилась кресту. Иногда только видела темные–темные глаза батюшки, его глубокий взгляд, ободряющий и как бы прямо смотрящий на меня. Подумаешь: как хорошо, батюшка, и снова молитва захватывает тебя.
После молебна батюшка, держа крест высоко над головой, благословил им народ. И я видела, как он горящим взором посмотрел на меня. Крестом большим и тяжелым осенил меня старец мой и я, павши ниц, всей душой ответила ему: «Готова на все».
После обедни прихожу к батюшке. У него сидят двое. Уж и ласково–то он встретил меня: не знал как назвать. Я остановилась на пороге, а он отошел к тем двум и начал им объяснять что–то, показывая на меня. Я себя чувствовала, как при докторском осмотре: стояла перед ними, а он объяснял им что–то насчет моей души. Мне сделалось стыдно, что чужие видели мою душу, и я взмолилась:
– Батюшка, родной, отпустите.
– Сейчас, сейчас, – отвечал он и продолжал свое.
– Батюшка, дома ждут, отпустите, – пустилась я на последнее средство.
– Ну, идите, – он подошел ко мне, улыбаясь, и благословил меня.
– Батюшка, сделайте так, чтобы оба они на меня не сердились. Я ведь очень долго пропадала из дома.
Батюшка вынул просфору и сказал серьезно:
– Нет, они сегодня не могут сердиться на вас. Передайте это Ване, чтобы он у нас успокоился, а тот поймет, в чем дело. Он узнает.
Так и вышло: все кончилось для меня благополучно. При следующей беседе батюшка был такой же веселый и довольный. Он долго и много говорил о значении креста и как его нужно нести. Говорил все известное, но так просто, хорошо. С такой любовью и надеждой возбуждал нести свой жизненный крест. Так хорошо говорил о его легкости, если нести его в послушании и смирении. И все вместе: его беседа, обедня и его благословение в церкви крестом оставило в душе моей глубокий след.
Всю жизнь каждый праздник креста ознаменовывается для меня особым духовным переживанием. И осталось в моем сердце, что батюшка придает кресту особенное значение для меня. Бывало батюшка так хорошо говорил о великом значении креста Спасителя, о тяжести воспринятых Им на Себя грехов всего мира, о страданиях Его, невинного, из–за любви к людям.
Батюшка учил, что каждый раз, как нам наш крест покажется тяжелым, мысленно взирать на крест Спасителя. И подумать, что мы являемся по сравнению с Ним. А крест–то несем самый ведь легкий. Мы не должны искать другого креста, кроме своего, который нам дан Господом и который всегда нам кажется тяжелее других, а на самом деле является самым легким.
И снова он открыл книгу и опять для меня пришлось место о смирении и молитве.
– Видите, как на вас все то же падает: смирение и молитва, – сказал он. – Другого пути, значит, нет… еще любовь.
Первый раз показал мне все, что нужно иметь: смирение, кротость, молитву и любовь. Потом каждый раз читал мне то, что было наиболее важным в данный момент для меня. Сначала особенно напирал на молитву, потом на смирение и, наконец, дал мне последнюю задачу – любовь.
Прихожу в церковь в батюшкины именины. Служит «сам». Хотелось именно в церкви почтить его. Молилась хорошо, как в то воскресенье.
Днем принесла ему гостинец и заметила что–то неладное у него в квартире. В это время батюшку вызвали на второй допрос и долго все не знали, чем это кончится.
Но я, отдавши свой гостинец, пошла домой с полной уверенностью, что батюшка нам нужен, и потому Господь не допустит для него ничего плохого. Почему–то тогда всегда так думалось.
Утром прихожу проведать батюшку.
– Где же была, Александра? – весело встречает он меня. – Тут было без вас меня арестовать хотели. – И стал он мне рассказывать все, что с ним было. Очень хорошо и мудро отвечал он им. – А первое, что спросили меня, – улыбаясь, сказал он, – кто мои друзья? А я им говорю: друзей у меня много, трудно перечесть. А они опять: а именно? Вот на первом месте и назвал вас. Это уже второй раз я назвал вас своим другом. Вас, наверное, теперь арестуют. Нельзя быть моим другом… – задумчиво и грустно проговорил он. – Они моей одышки испугались, боялись, что я умру у них, потому так скоро и отпустили.
Легко он говорил все это, но по его виду, по прерывистому и тяжелому дыханию было видно, что тяжело достался ему этот второй и последний его допрос.
Трудно было отвечать за Маросейку. «Это последний. Больше не будет», – как–то особенно проговорил он.
Бывало часто батюшка, шутя, как бы поддразнивая меня, говаривал:
– Вот придет праздник, а меня не будет. Могут со всем скарбом выслать далеко.
– Нет, батюшка, это невозможно. Где Он (Бог) тогда?
– Разве можно так говорить, – строго, бывало, остановит он. Потом посмотрит вдаль, глаза наполнятся слезами. – Нет, не вышлют меня, никто меня не тронет. Я сам уйду.
И непонятны мне были тогда эти слова, и смущенно молчала я, не смея спросить.
В Лазареву субботу прихожу к батюшке просить благословения на особенный пост на Страстную. У своего «отца» спрашивать боялась.
Батюшка шутил, не соглашался, грозился сказать про «то» ужасное о. Константину и Ване.
– И что с ними было бы, если б узнали! И что было бы! – ужасался он.
Я засмеялась и опять стала приставать к нему разрешить пост. Он отвернулся, долго думал, опустив голову, и, наконец, сказал:
– А муж что?
– Он, батюшка, привык. Я и в прошлом году так делала. Поворчит, а потом ничего.
– А о. Константин?
– Никогда не знал об этом. Я просто благословлялась на Страстную, а как ее проводить, было моим делом.
– Разбойница этакая!
– Простите, батюшка, это было раньше, теперь я умнее. Ну же, батюшка, а батюшка? Разрешите, дорогой. Я к этому привыкла и ничего особенного со мной не будет.
– А выдержишь?
– Ну, а то как же!
– Помни! – и батюшка стал строгим, – если не выдержишь, будет плохо (от Бога).
– Нет, батюшка, разве мыслимо? – А самой сделалось страшно. Очевидно он видел в этом что–то особенное и очень трудное.
– Ну, во имя Отца и Сына и Святого Духа, – благословил он меня.
– Господи, помоги ей, – сказал он горячо.
На другой день после обедни прихожу к нему. Он усадил меня с собою чай пить и не знал, чем угостить. Я никогда с ним чай не пила и чувствовала себя неловко, боясь сделать что–нибудь не так. Он следил за мной все время и заставлял больше есть и пить. Я поняла, что это было его благословение мне на Страстную, которое должно было поддержать меня, что и было на деле.
Когда я напилась, он сказал:
– Ну вот, держись. – Потом опять всю благословил, пристально посмотрел мне в глаза и отпустил.
Страстную постилась, молилась, как только могла, все не умея, но от чистого сердца. Страх перед Плащаницей делался все больше и больше. Как я подойду к Спасителю, Которого я оскорбила.
С батюшкой не говорила, заходила только за благословением для поддержки.
Взгляд его, полный жалости и любви, придавал силу на дальнейшее. Прихожу в пятницу перед исповедью у о. Константина и по обычаю кланяюсь в ноги.
– Ну, кажется, теперь поклоны кончились, а вы все свое. Уж довольно, думается, – сказал он, как–то особенно глядя на меня.
– О. Константин говорит, батюшка, что они только начинаются, – виновато проговорила я. – Батюшка, мне страшно. Я не только не могу приложиться к самой Плащанице, к краю–то ее не могу. Ведь Он там живой лежит!
Батюшка смотрел мне в душу своими темными большими глазами.
– Батюшка, – продолжала я, – у меня живого места ни внутри, ни снаружи. А покаяния нет, и все так же страшно.
– Я знаю, я знаю все, – как–то особенно проговорил он, – вы можете (имеете право) с спокойной совестью приложиться. Скажите так: Господи, дай мне силы любить Тебя, дай мне силы служить Тебе! И с этими словами приложитесь к ногам Спасителя. Слышите? К ногам, и непременно сделайте, как я говорю вам. Скажите эти слова и поцелуйте ноги Его, Его Самого, – вдохновенно произнес он.
Я страшно поразилась. Батюшка сказал мне те слова, которыми я молилась ежедневно и которых никто никогда не слыхал. Это второй раз в жизни он мне говорил мою молитву, которую знал только Бог и я.
Сделала, как он велел, и почувствовала сразу облегчение.
Еще в среду он спрашивал меня, где я буду стоять Страстные службы.
– Как о. Константин велит, – ответила я. – А мне бы очень хотелось стоять двенадцать Евангелий у вас, а он велел к нему приходить.
– Как вы говорите? – оборвал меня батюшка. – Разве так можно? На чтение двенадцати Евангелий! – медленно проговорил он.
– Простите, батюшка.
– Повторите. – Я повторила.
– Вот так. Так и говорите всегда. А то, что это такое, точно говорите, что на такую–то пьесу пойду.
Нужно было всегда с особенным благоговением говорить обо всем, что касалось Спасителя.
Пасху встретила хорошо, но ничего особенного не творилось в душе моей. Прихожу к батюшкой христосоваться. Сидит один, читает. Тихо в квартире.
– Христос воскресе, батюшка! – сказал я, тихо входя в комнату. Он поднял голову, посмотрел мне прямо в душу и, точно обращаясь к кому–то, сказал: – Вот в ней действительно Христос воскрес!
Я опешила. Настроение–то у меня было самое обыкновенное.
Он встал и тихонько похристосовался со мной. Весь его вид был такой какой–то особенный, точно он сам не присутствовал здесь, что мне сделалось страшно и я поцеловала его, как икону. Молча обменялись яйцами. Он сел и снова углубился в чтение, а я, не смея тревожить его, на цыпочках вышла из комнаты.
Ни одну пасхальную обедню не служил батюшка. И как же мне было жалко и досадно на себя, что я по своей глупости пропустила батюшкину Пасху в прошлом году.
Пришла за артосом в церковь. Когда стала подходить к кресту, одну маленькую девочку задавили совсем. Я взяла ее на руки. Девочка оказалась прелесть какая. Говорила, что знает Отче наш. Что дома ее не пускают в церковь, что украдкой она ходит с бабушкой. Бабушке очень хотелось увидать батюшку, но я ее не знала, а время было опасное и я ей это не устроила.
Прихожу к батюшке, а он радостно встречает меня:
– А вот она и сама идет. – И что–то сказал такое, по чему я поняла, что он знает про то, что было в церкви.
Я не поняла, почему батюшка так радуется, но мне стало страшно, что он и это даже знает. Но тотчас же успокоила себя тем, что, наверное, ему об этом сказали.
Как–то смущенная прихожу к нему. Молитва, которая появилась у меня на акафисте Феодоровской, стала обычной и делалась все сильней. Меня смущал тот блеск, в котором мне стали казаться иконы.
Я подумала, что батюшка не служит, не видит меня и может меня упустить. Говорю ему про мое смущенье.
– А о. Константину боюсь говорить. Он страсть как не любит всего этого и может строго наказать меня.
– Ничего, – спокойно сказал он. – Не думайте об этом. Каждый раз, как в себе заметите это, говорите: – Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешную. И ничего не бойтесь.
Я стала так делать. Молитва и блеск усилились, но я была покойна, т. к. делала, как велел мне мой старец.
Удивительно разумен был его совет. Иисусова молитва, как батюшка учил, предохраняла от всякого зла и здесь она должна была предохранить меня от прелести, которой о. Алексей так боялся для меня.
Последнее время батюшка каждый раз говорил мне:
– Приходите чаще, как можно чаще… а то скоро… – и он, бывало, не докончив, как–то особенно посмотрит на тебя.
Я думала, что дело идет о его аресте, но особенно этому не верила. И вот раз он говорит:
– Вы все про себя не говорите. Говорите про себя. Что же про себя–то не рассказываете. Я вас совсем не знаю, не знаю совсем. Я хочу вас знать.
Я поняла, что он желает, чтобы я о себе рассказала ему все, что со мной было и есть в духовной жизни, и поэтому просила его исповедывать меня. Он подумал и назначил день и час так, как будто хотел на свободе побольше поговорить со мною. Это был канун моих именин. О. Константин позволил, и я первый раз в жизни должна была причащаться в этот день. Прихожу к батюшке. Поговорили о том, что нужно было, и мы замолчали. Наконец, напоминаю ему об исповеди.
– Что же, давайте, – как будто забыв, что сам же ее назначил, сказал он. – Завтра ваши именины?
– Да.
– Молитесь царице Александре. Нужно всегда молиться тому святому, чье имя носишь. Она поможет вам.
Он надел епитрахиль, поручи, встал перед аналоем и начал читать молитвы перед исповедью. Так он раньше никогда не делал. Пока он читал, я не могла молиться. Что я буду говорить тебе и как, дорогой старец мой, – думала я. – И зачем нужно знать тебе то, что ты сам давно знаешь. Батюшка по временам наблюдал за мной. Вдруг с необыкновенной ясностью услыхала я слова: «Да не скрыеши что от мене». Я вздрогнула. Батюшка стоял спиной ко мне и молился.
Что–то повернулось в душе моей. Я упала на колени рядом с ним и исповедь моя полилась потоком. Откуда мне все приходило на память? Все вспоминалось: все мысли, все чувства, все помыслы мои – все, что творилось в душе моей за эти годы жизни на пути Христовом.
Батюшка помогал, напоминал, поправлял, что было сказано не так. Иногда он наводил на то чувство и мысль, на которую ты и внимания–то в то время не обратила.
Впоследствии, вспоминая эту исповедь, я удивлялась, как он знал мою душу лучше меня самой. Знал все, что я думала, чувствовала.
Я кончила. Все было сказано. Душа моя все рассказала великому старцу и спокойно стояла перед ним, ожидая его суда. Совесть моя была чиста. О. Алексей, старец мой родной, знал всю жизнь души моей. Вдруг я вспомнила про сон во время болезни. Последнее время я его почему–то часто вспоминала. Испугалась все же, что батюшка сочтет его пустяком и рассердится. Начала с того, что сказала, что о. Константин не принял его. Очень внимательно слушал он меня. Весь так наклонился надо мной и переспрашивал мельчайшие подробности.
– Ну вот, теперь хорошо, – сказал он, когда я кончила.
Я поняла, что он ждал этого. Ему это было так же нужно, как и исповедь жизни души моей.
– Вот какая ты, Александра, – задумчиво проговорил он.
– А много их было, которые давали обеты? – с любовью спросил он.
– Много, батюшка! – с жаром ответила я.
– Ну, молись, – как–то особенно сурово произнес он.
И я почувствовала, что стою перед лицом Божиим и свидетель мой перед Ним – великий старец о. Алексей.
Он всю меня накрыл епитрахилью и прочел разрешительную молитву вслух, но не всю, остальное докончил про себя. Имени моего не назвал.
Потом он положил обе руки мне на голову и долго, долго так молился. И вдруг он особенным, звенящим голосом, произнес слова:
– И властию, данной мне от Бога, я, недостойный иерей Его, прощаю и разрешаю все грехи твои… мать Александра, во имя Отца и Сына и Святого Духа… Аминь.
При слове «аминь» о. Алексей благословил меня всю, лежащую перед ним на земле. Кончилась моя последняя исповедь у великого моего старца и он дал мне имя, как обещал.
Я встала и снова упала ему в ноги, горячо благодаря его за все его великие милости ко мне, никуда негодной. Он поднял меня, прижал к себе крепко–крепко и сказал с радостью:
– Ну, теперь очистилась совсем, совсем очистилась, – и поцеловал меня.
В эту последнюю мою исповедь старец о. Алексей разрешил мне все, что я когда–либо сделала, подумала, почувствовала. Для этого потребовалось, чтобы я сама исповедывала ему все, хотя давно все это было известно ему. Он назвал меня, как обещал, но дал мне имя вперед.
Он сказал мне то, чем, наверное, он хотел бы видеть меня в далеком будущем.
И ровно через год после этой исповеди, когда батюшки уже не стало, о. Сергий вдруг спросил меня:
– Ведь это твои именины?
– Да, – ответила я.
– Ведь ты мать Александра?
Я вздрогнула. Через сына своего старец мой напомнил мне то, о чем я забыла и думать.
После исповеди поговорили еще немного и батюшка отпустил меня. От него я шла исповедываться к о. Константину.
– Скажи о. Константину так, – сказал он: – О. Алексей принял мой сон. И больше ничего ему не говори.
Я так и сделала. О. Константин задумался, точно молился, потом прочел разрешительную молитву и долго держал обе руки над моей головой, очевидно, молясь. Потом благословил меня всю, как батюшка, и сказал как–то особенно:
– Идите с миром, Господь с вами.
После Причастия прихожу к батюшке.
– Какая нарядная сегодня, – встречает он меня. – Вот теперь вся чистая. Вся очистилась, – добавил он с удовольствием, всматриваясь в меня.
Я удивилась, так как в душе ничего особенного не было. В разговоре он опять назвал меня матерью. Я подумала, что это он, наверное, ошибся. И тогда–то мелькнула у меня мысль, он просто так назвал меня.
Немного погодя батюшка дает мне просфору.
– Сегодня ведь твои именины? – спросил он. – Поздравляю, сестра Александра. – Потом, долгим взглядом темных больших глаз, как бы осматривая вновь меня, добавил уверенно: – Нет… мать.
Этим старец мой родимый хотел показать мне, что не просто так или по ошибке он назвал меня, что именно этот чин он дает мне.
Я почувствовала все великое значение этого слова и всю ответственность, которая легла на меня.
В ужасе упала я к ногам его:
– Пощади, о. Алексей, – взмолилась я. Он поднял меня, поцеловал и сказал:
– Во имя Отца и Сына и Святого Духа, иди.
В последнее время я часто приставала к о. Константину, прося его сделать так, чтобы молитва моя всегда удавалась. Церковная меня еще не удовлетворяла, а домашняя все еще не ладилась.
– С этим не ко мне обращаться нужно, – сказал он, – а к батюшке о. Алексею.
– Я не смею, прогонит. Помните урок о симфониях.
– Нет, ничего, можно, от моего имени просите.
Вот на последней этой моей исповеди я осмелилась и сказала батюшке:
– О. Константин велел просить вас сделать так, чтобы молитва моя всегда бы мне удавалась. Не я, батюшка, это прошу, а о. Константин.
Батюшка как–то сбоку с ног до головы осмотрел меня.
– Попробуем, увидим, что от этого будет!
Он сказал это как–то особенно и неуверенно, точно он сомневался, смогу ли я. Я почувствовала, что он будет «пробовать» что–то на небе и советоваться там с кем–то.
Чего бы раньше я ни попросила у батюшки, он, бывало, немного подумает, духом почувствует как нужно, и почти что всегда скажет:
– Хорошо.
И Господь всегда слушал его. А здесь как–то странно он сказал:
– Попробуем.
Я не смела спросить объяснения. Рассказала о. Константину. Он всегда чувствовал близкую кончину батюшки.
– Это он говорил нам о том, что действительно будет молиться о вас на небе. Чего же вам еще нужно? – сказал он. А мне стало страшно, сама не знаю чего.
Почти ежедневно ходила я к батюшке. Редкий день пропускала. Он перестал спрашивать о нашей жизни с Ваней, о жизни наших душ, а сам все время наставлял меня: как жить самой и как жить с ним.
Только об этом, об этом одном он и говорил. Точно спешил мне передать все, что было нужно. Спешил написать в душе моей все те правила жизни во Христе, которым мне нужно было следовать, все то, что нужно было мне знать для души Вани моего, несомненно идущей к Богу. Это было как бы повторением того, чему батюшка учил меня за все время моей жизни у него.
Раз он, пристально все время глядя на меня, начал мне говорить, что мы не дети, которых нужно вести. Было время, да, когда нас нужно было вести за руку, иначе мы бы упали, а теперь нет. Теперь мы взрослые, сами знаем, куда идем и что делаем, и сами дадим отчет во всем.
– Сами теперь идите. Должны знать, не можете не знать, – точно кому–то другому говорил батюшка.
И я поняла после его кончины, что тогда он говорил эти слова, имея в виду не меня одну, а всех нас, своих духовных чад.
А тогда–то мне было страшно, как это я пойду одна. Я не знала, что будет для меня о. Константин после кончины батюшки. Мне стало грустно, потому что я вспомнила, как он, в начале моего обучения у него, раза два говорил мне:







