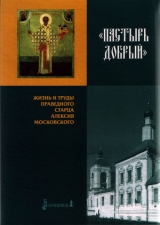
Текст книги "Пастырь Добрый"
Автор книги: Сергей Фомин
Жанры:
Религиоведение
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 57 страниц)
О. Сергий любил «красоту церковную» во всех ее проявлениях. Любил и понимал древнюю иконопись и старался и нас просветить в этом отношении: объяснял сам, посылал нас на выставки и на лекции о древней иконе, которые в то время читались Грабарем, Анисимовым [94]94
Игорь Эммануилович Грабарь (25.3.1871 – 16.5.1960) – живописец и искусствовед, один из организаторов и руководителей охраны памятников искусства и старины, один из основоположников музееведения и реставрационного дела. Вместе с Александром Ивановичем Анисимовым (1877—1932) реставрировали чудотворную Владимирскую икону Божией Матери. Инициатор создания Центральных реставрационных мастерских (1918—1930 – директор).
[Закрыть] и др., даже практически организовал обучение иконописи сначала М. Н. [95]95
Мария Николаевна Соколова (8.11.1899 – 3/16.2.1981) – родилась в семье священника Николая Александровича Соколова, настоятеля московского храма в честь Успения Пресв. Богородицы на Гончарной улице. Почувствовав необходимость духовного руководства, молилась, прося Свт. Николая указать ей ее путь. О. Алексий Мечев, к которому она пришла в 1913 г., встретил ее словами: «Давно я ждал эти глаза». На основе дневника, в который она вносила слова Батюшки со времени первой исповеди до его кончины, ею составлено изданное недавно «Жизнеописание старца о. Алексия Мечева». После окончания V Московской женской гимназии (1917) она поступила учителем рисования сначала в советскую школу, а потом в частную студию Ф. И. Рерберга и А. П. Хотулева в Москве; позже устроилась художником–графиком в издательство «Энергия». В храме на Маросейке ей была поручена ризница; в ее обязанности также входило следить за порядком во время исповеди у батюшки. Ее знакомая Е. А. Булгакова вспоминала: Вечером трамвайное движение прекращалось. Идти можно только пешком. Ни души на улице, шаги эхом отдаются на противоположной стороне, во дворах одиноко стоящих домов. Распространялись рассказы о каких–то бандитах, прозванных «прыгунчиками». Они вечерами нападали на одиноких прохожих. Но две девушки (одна из них – будущая монахиня Иулиания, другая – Павла [Федоровна Хватова]) ходили в храм утром и вечером каждый день. Батюшка благословил им дружить и поочередно ночевать друг у друга. Жили они обе неблизко, но с батюшкиным благословением ничего не страшно. Страшно было только, пока о том не знал батюшка, а если он благословил в дорогу, то все будет хорошо. Крепкая вера в его молитву делала девушек безстрашными, а частая исповедь и причащение давали бодрость и покой. Бывало, по окончании праздничной всенощной, когда храм был переполнен, батюшка начинал сам, встав на колени, петь полным бодрости голосом: «Под Твою милость прибегаем…» – и вся церковь вторила ему как один человек, проникаясь надеждой, что Пресвятая Богородица не презрит моления находящихся в скорбях и пошлет Свою милость. Все расходились из храма в полной уверенности, что наступающая ночь, чреватая всякими последствиями, пройдет спокойно. После кончины батюшки Соколова духовно окормлялась у его сына о. Сергия Мечева, проявлявшего живой интерес к древней иконе и потому благословившего ее пойти учиться иконописи у В. О. Кирикова, «всегда с трогательной теплотой» отзывавшегося о Марии Николаевне, «считая ее своей самой верной и преданной ученицей». Изучая древние фрески, в эти годы она побывала в Новгороде, Пскове, Ферапонтовом монастыре, сделала там многочисленные зарисовки. Незадолго до закрытия храма на Маросейке Соколова выполнила 13 высокохудожественных акварелей с детальной проработкой интерьера всего храма, находящихся ныне в одном частном собрании. Тогда же она получила на хранение чтимую на Маросейке Феодоровскую икону Божией Матери, возвращенную туда в 1990 г. одновременно с передачей церкви верующим. Соколова неоднократно бывала у о. Сергия в ссылке. Там он, по свидетельству Е. А. Булгаковой, «благословил нуждающимся в духовной поддержке обращаться к ней с полной откровенностью и доверять ей так же, как и ему. Ей было всего 32 года, и она несла это, и польза от общения была большая, душа оживала». И далее: В Маросейской общине были группы, в которых под ее руководством изучали Библию. Это было очень интересно. Писали доклады на прочитанное. Проработать успели небольшую часть, но она осталась на всю жизнь живой. Ежедневно после богослужения бывало скромное угощение, во время которого Мария Николаевна читала что–нибудь ценное, интересное. Летом 1932 года она писала Житие Иоанна Кущника. Зайдешь – она прочтет написанную новую часть работы. Это можно назвать свободным пересказом, но это было глубокое духовное сочинение. Поразительно было, как она так глубоко могла понимать переживания святого. Перед войной Соколова поселилась в пос. Семхоз неподалеку от Сергиева Посада; писала иконы. В 1946 г. она, как художник–иконописец, получила приглашение во вновь открытую Троице–Сергиеву Лавру, где трудилась до самой своей кончины. В 1970 г. приняла тайный монашеский постриг с именем св. мц. Иулиании, день памяти которой (30 августа) совпадает с прп. Алипием Иконописцем. Погребена на кладбище в пос. Семхоз. См. о ней: Монахиня Иулиания (Мария Николаевна Соколова). Некролог // Журнал Московской Патриархии. 1981. №7. С.18; Монахиня Иулиания (М. Н. Соколова). Труд иконописца. Свято–Троицкая Сергиева Лавра. 1995.
[Закрыть], а потом и некоторых других.
Любил о. Сергий и красивые старинные облачения, хотя в будни больше всего служил в легких холщевых [96]96
Впрочем, на о. Сергии облачение зачастую сидело набок, за богослужением он уже не думал о нем. Так же бывало и у Батюшки.
[Закрыть].
Не признавал о. Сергий так называемого «нотного» пения за богослужением, говорил, что оно затягивает и обезличивает богослужение, мешает молиться, развлекает «оперными», страстными мотивами, изобретенными зачастую неверующими композиторами. На Маросейке было пение простое: на гласы и на старинные напевы (Херувимская песнь, Симоновская, Скитская, Софрониевская и т. п.); затем в последние годы стало вводиться пение стихир на подобны Оптинского распева [97]97
Связь Маросейки с Оптиной – особая тема, заслуживающая отдельного обстоятельного разговора. См. прим.
[Закрыть].
Интерьер храма Свт. Николая в Кленниках
О. Сергий всячески заботился о благолепии храма. Старинные иконы были при нем промыты и реставрированы, защищены стеклами. Была написана икона четырех преподобных: Пимена Великого, Арсения Великого, Макария Великогои Антония Великого [98]98
Прпп. Пимен Великий (IV в.), память 27 августа; Арсений Великий (†449), память 8 мая; Макарий Великий (†391), память 19 января; Антоний Великий (†358), память 17 января.
[Закрыть]. Только на Светлой неделе все стекла снимались, а храм убирался гирляндами искусственных цветов, очень хорошо сделанных руками сестер. В таком виде храм снимали [99]99
Некоторые из этих снимков мы приводим в настоящем издании.
[Закрыть]. Вид его был очень праздничный.
В последние годы о. Сергий взялся за реставрацию нижнего этажа храма. Оттуда были выселены жильцы, была восстановлена опытными мастерами древняя архитектура здания, откопаны ушедшие в землю нижние ряды каменной кладки, восстановлены старинные окна, наличники. О. Сергий собрал много старинных икон и в части первого (полуподвального) этажа устроил как бы храм–музей, восстанавливавший обстановку древне–русского храма [100]100
К изучению храма, как это видно из некоторых документов, приступили вскоре после революции. Так, в 1919 г. на заседании «Старой Москвы» Н. П. Виноградовым был прочитан доклад «О церкви Николы в Блинниках», а в 1925 г. П. И. Юкиным – «О расписной палате при церкви Николы в Блинниках» (Историко–краеведческие материалы фонда Общества изучения Московской губернии (области). К методике изучения истории советского исторического краеведения / Сост. и авт. ст. С. Б. Филимонов. Изд. 2–е, перераб. и доп. М. 1980. С. 85, 114). В 1926—1927 гг. по инициативе о. Сергия Мечева под руководством Д. П. Сухова в храме были проведены реставрационные работы, во время которых удалось выявить элементы древней архитектуры и остатки настенной живописи (Храм Николая Чудотворца в Кленниках. Издание «Московского журнала». М. 1991. С.4). В результате был восстановлен «первоначальный внешний декор, утраченный при реконструкции в XVIII и XIX вв.» (Памятники архитектуры Москвы. Белый город. М. 1989. С.284). Итоги этих исследований отразились в неопубликованной работе знатока старой Москвы М. И. Александровского «Исторический указатель московских церквей» (М. 1917; с дополнениями до 1942 г.): «Внутри церковь сохранила некоторые древние иконы и книги. В 1927 г. при реставрации восстановлены наличники окон на южной стороне, а с севера – нижней церкви. Внизу устроена церковь Алексея Человека Божия с древними образами. Примыкающая с запада палата сохранила роспись около 1701 г. светского характера: орнамент и изображения деревьев» (Паламарчук П. Г. Сорок сороков. Т.2. М. 1994. С.93).
[Закрыть]. Там был старинный иконостас с деревянными царскими вратами, престол и проч. Когда–то и был в этом первом этаже храм во имя прп. Симеона Дивногорца [101]101
Деревянная «обетная» церковь Прп. Симеона столпника на Дивной горе (†596) была построена 24 мая 1468 г. (день памяти Святого) Государем Иоанном III в благодарность за то, что сильный пожар не перекинулся на Кремль. «В архивных документах эта церковь упоминается впервые в 1625 году» (Церковные ведомости. 1901. № 27). В 1657 г. вплотную к этому храму была построена каменная церковь Свт. Николая (этим и объясняется перелом стены северного придела). В 1690 г. появился верхний этаж с приделом Казанской иконы Божией Матери. Церковь стала называться «Богородицы Казанския и Николая Чудотворца на Покровке в Блинниках» (с XVIII в. – в Кленниках). «Первоначально церковь представляла собой двусветный, вытянутый по оси север–юг четверик с двухчастным алтарем. Небольшая одноэтажная трапезная соединяла четверик с колокольней; с севера к четверику примыкал одноэтажный Никольский придел. В 1701 г., после большого пожара, верхняя часть четверика была разобрана, а нижняя превращена в подклет, расширенный к западу и надстроенный высоким двусветным объемом с апсидой и притвором; тогда же с юга возвели новый Казанский придел. Церковь была освящена, а вскоре был надстроен второй этаж над приделом. В 1749 г. была возведена существующая колокольня и частично переделаны фасады церкви» (Памятники архитектуры Москвы. Белый город. М. 1989. С.283). См. «Прошение Николаевской церкви, что в Блинниках, священника Ивана Иванова об исправлении в этой церкви иконостаса и всей церковной ветхости». 18.5.1770 – 1.6.1770 (Центральный Государственный исторический архив г. Москвы. Ф.203. Oп.1. Е. х.877. Сретенский сорок); «Опись церковного имущества церкви Николая Чудотворца, что в Кленниках. 1814 г.» Там же. Ф.203. Оп.744. Е. х.2680). Храм обновлялся и позднее: в 1853, 1868 и 1894 гг. В начале XX в. при храме имелась церковно–приходская школа. В 1892—1923 гг. настоятелем храма был о. Алексий Мечев, после смерти которого общину возглавил его сын – о. Сергий. По свидетельству очевидцев, храм был закрыт в канун Благовещения 1931 г. (Регельсон Л. Трагедия Русской Церкви. Париж. 1977. С.484). По другим сведениям, это случилось в 1932 г. (Тропани Н. В. Воспоминания о храме на Солянке // Московский комсомолец. 14.9.1990). Др. утверждают, что это произошло в 1934 г. (Монахиня Иулиания (М. Н. Соколова). Труд иконописца. С.16).
[Закрыть]. Он существовал еще чуть ли не во времена Грозного [102]102
«Здание храма Николы–Кленники, – писала м. Иулиания, – имело два этажа: в верхнем помещался храм, нижний представлял собою в то время жилое помещение. Не сохранилось никаких сведений о существовании внизу храма этажа, может быть, он только предполагался. При капитальной реставрации нижнего помещения в 1926—1927 гг. было восстановлено древнее оформление нижних окон снаружи; внутри, в восточных стенах, обнаружены небольшие ниши, какие всегда устраивались в древних храмах для различных богослужебных нужд алтаря» (Жизнеописание… С.45). Реставрация осталась незавершенной, храм и колокольню обезглавили, внутри все перестроили, отдав под учреждения ЦК комсомола. Здание стояло под государственной охраной. Храм вместе с домом для причта, выстроенным тщанием известного русского издателя И. Д. Сытина, был возвращен верующим 18.7.1990, освящен 17.12.1990. (Дроздов С. ЦК ВЛКСМ думает о душе // Комсомольская правда. 10.10.1990; Червяков А. Старинный московский приход / « Московский художник. 2.11.1990; он же. У Николы в Кленниках // Литературная Россия. 14.12.1990. С.22; Московский журнал. 1991. № 5. С.52—58; Московский литератор. 7.12.1990; Московские ведомости. 1990. № 3. С.4).
[Закрыть]. (Кажется он упоминается в житии Василия Блаженного [103]103
Св. прав. Василий Блаженный, Христа ради юродивый, Московский чудотворец (ок.1464 – 2.8.1552) – причислен к лику святых в 1558 году.
[Закрыть] – Никола–Кленники, а название Кленники происходит от кленовой рощи, которая была вокруг него [104]104
Именно такие сведения были приведены в Синодальном справочнике. По др. данным, «Кленники» трансформировались из «Блинников» (в XVII в. церковь так и называли – «Никола в Блинниках»). Здесь, у ворот Китай–города, жили мастера, славившиеся приготовлением блинов, которые они тут же и продавали. И, наконец, вероятно, наиболее достоверное объяснение: храм получил свое название от явленной иконы Святителя Николая в подмосковной деревне Кленники (Холмогоровы В. и Г. Исторические материалы о церквах и селах XVI–XVIII столетий. Вып.5. М. 1887. С.188).
[Закрыть]). Устраивая храм–музей, о. Сергий, может быть, думал спасти этим верхний храм от закрытия, но это не помогло и все впоследствии было разрушено. Но в другом отношении этот нижний храм пригодился о. Сергию. Он освятил его малым освящением и совершал там с кем–нибудь из певчих по очереди тихие вечерние богослужения. Там он мог иногда избавиться от приема людей, сосредоточиться, отдохнуть душой в молитве.
Там же бывали у нас спевки и совершались общие исповеди сестер перед ранней обедней в большие праздники.
Богослужение не было растянутым, но по возможности полным. «Не по–монастырски служим, а так, как полагается по богослужебным книгам», – говорил о. Сергий. Пение с канонархом помогало лучше понимать стихиры и глубже их чувствовать. Но вообще о маросейском богослужении можно было бы написать много, и все равно не передашь того, что оно давало. Достаточно сказать, что в праздники маленький храм был битком набит народом, было жарко, не хватало воздуху, но люди не уходили, а стояли и молились до самого конца, потому что радость молитвы все преодолевала. Каждый чувствовал, что здесь не просто пели и читали или вычитывали положенное, но что здесь жили богослужением, воспитывались на нем. Конечно, в основе лежала молитва Батюшки отца Алексея, но и горячая любовь и проникновенное понимание красоты церковной о. Сергием довершали чудное здание. Не хватает слов для благодарности Богу и отцам нашим, которые так много нам дали. И сейчас при одном воспоминании душа горит.
О. Сергий любил богослужение, понимал его красоту, его вечное значение – и старался и нас приобщить к этой своей любви и пониманию. Когда он служил, то уже, входя в храм, в самом низу лестницы (храм был на втором этаже) можно было почувствовать, что служит он: так торжественно и проникновенно было и праздничное и будничное богослужение; чтение было особенно внятным, пение – более стройным. (О. Сергий и сам хорошо пел). Все подтягивались, и вместе с тем души молящихся влеклись к Богу через молитву служащего, становились благоговейными через его благоговение. Одной из любимых мыслей о. Сергия была мысль о приобщении через богослужение к вечной жизни; о том, что служба праздника не есть воспоминание, но как бы окно в вечность, что оно есть самое празднуемое событие, в котором могут участвовать, в меру своего духовного возраста, верующие всех времен.
В связи с таким пониманием богослужения стояло и отношение о. Сергия к церковному календарю. Он считал не случайной и не условной связь между празднуемыми событиями [и] теми сроками, которые были установлены для них Православною Церковью [105]105
Речь идет о церковном Юлианском календаре. Собственно Юлианский календарь просуществовал недолго: от реформы своего основателя Юлия Цезаря (46 г. до P. X.) до Первого Вселенского Собора в Никее, созванного Константином Великим в 325 г. Собор выработал (в числе важнейших догматических установлений) единые правила вычисления Пасхи и единую для всех христиан эру от Сотворения мира, что способствовало исполнению 7–го апостольского правила: «Аще же кто епископ, или пресвитер, или диакон святый день Пасхи прежде весеннего равноденствия с иудеями праздновати будет, да будет извержен из священного чина». Это же подтверждено и 1–м правилом Антиохийского Собора: «Все дерзающие нарушати определение святого и великого Собора, в Никее бывшего в присутствии благочестивейшего и боголюбезнейшего царя Константина о святом празднике спасительныя Пасхи, да будут отлучены от общения и отвержены от Церкви, аще продолжат любопрительно восставати противу доброго установления. И сие речено о мирянах». «Аще же кто из предстоятелей Церкви: епископ, или пресвитер, или диакон, после сего определения дерзнет к развращению людей, и к возмущению Церквей, особитися, и со иудеями совершати Пасху, такого святый Собор отныне уже осуждает быть чуждым Церкви яко соделавшегося не токмо виною греха для самого себя, но виною расстройства и развращения многих. И не токмо таковых Собор отрешает от священнослужения, но и всех дерзающих быти в общении с ними, по их извержении из священства. Изверженныя же лишаются и внешния чести, каковые были они причастны по святому правилу и Божиему священству». Тем не менее, только за период с 1851 по 1950 гг. принявшие Григорианский календарь праздновали Пасху 15 раз прежде иудеев и неоднократно вместе с ними: 1.4.1823, 17.4.1927, 18.4.1954, 19.4.1981. Тем не менее, переход на новый стиль считал в принципе приемлемым, например, Патриарх Тихон. В своем заявлении в ЦИК 17.9.1924 он писал: «Юлианское летоисчисление не возведено Церковью в неприкосновенный догмат веры, но, связанное с церковным обрядом, допускающим изменения, само может подлежать изменению. […] Реформа календаря выдвинута потребностями жизни во всех Православных Церквах, и можно думать, что в недалеком будущем она будет принята Церквами без всяких внешних побуждений. […] Когда новый стиль будет принят согласным голосом всей Кафолической Церкви, тогда можно надеяться, что нам удастся повлиять на верующих и убедить их в допустимости с церковной точки зрения реформы календаря и в ее желательности по практическим и государственным соображениям…» Однако так полагали далеко не все иерархи. Вот что писал по этому же поводу (патриархийный – И. И.) архиепископ Серафим (Соболев, 1881—1950): «Церковь установила в «Типиконе» определенные границы времени, в пределах коих празднуются неподвижные праздники, падающие на время Святой Четыредесятницы. […] Церковь предвидела совпадения того или иного из великих неподвижных праздников с праздниками подвижными, а также с теми или другими днями Великого поста. На все эти случаи совпадений она установила свой точный богослужебный порядок. Но уничтожая данные границы, новостильники естественно уничтожают и это установление Православной Церкви. […] Могут сказать, что нарушение «Типикона» не является тяжким грехом, ибо здесь нет отступления от догматов. Но ведь и слова Христа: «Аще и Церковь преслушает, буде тебе якоже язычник и мытарь» (Мф.18:17), не говорят нам о нарушении тех или других догматических истин нашей веры. Тем не менее, по свидетельству этих божественных слов, кто из нас не окажет послушания Церкви, тот отсекается от нее и становится в ряд тяжких грешников, ибо в данном случае налагается высшая мера наказания – отлучение от Церкви. […] С точки зрения Православной веры такое пренебрежительное отношение к «Типикону» чад Св. Церкви недопустимо, как недопустимо наше отступление от догматов и канонических правил. И это понятно. Как наше пренебрежение догматическими и каноническими определениями ведет к отступлению от Православия, так к тому же отступлению ведет и указанное пренебрежение «Типиконом». Ведь «Типикон» есть для нас священный закон, руководствующий нас в православном богоугождении богослужениями, праздниками и постами. «Типикон» есть святая книга, связанная с именем дивного сосуда благодати прп. Саввы Освященного, и принята Православною Церковью как одна из основоположительных книг. «Типикон» есть не что иное, как голос Матери нашей Церкви. И к этому голосу мы должны относиться не с пренебрежением, а с безусловным и неуклонным послушанием, если мы хотим быть верными и преданными Св. Церкви и всем ее православным нормам». А вот мнение епископа Зарубежной Церкви Григория (Граббе): Св. Василий Великий в 87–м и 91–м правилах объясняет, что хранение предания и древнего обычая имеет такое же значение, как и хранение писанного догмата. По 91–му правилу: «Из сохраненных в Церкви догматов и проповеданий, некоторые мы имеем от письменного наставления, а некоторые прияли от Апостольского предания, по преемству в тайне, и те и другие имеют едину и ту же силу для благочестия. И сему не воспрекословит никто, хотя мало сведущий в установлениях церковных. Ибо аще предпримем отвергати неписанные обычаи, аки не великую имеющие силу, то непременно повредим Евангелию в главных предметах, или паче сократим проповедь в единое имя без самыя вещи». Знаменитый канонист еп. Никодим Милаш в толковании 87–го правила св. Василия Великого пишет: «Относительно обычая Василий Великий говорит, что первое и самое важное в подобного рода вопросах – иметь в виду обычай, ибо обычай имеет силу закона. Обычай всегда в Церкви имел одинаковое значение с законом, если только имел Церковью оправданное основание и если освящен древностью употребления». Юлианский календарь с Пасхалией был принят Первым Никейским Собором и освящен употреблением в Церкви более тысячелетия. Поэтому отказ от него или нарушение его является уже нарушением догмата о Церкви. Понятно, что православная совесть с этим не мирится и люди, хранящие ее, отходят от совершающих такой грех епископов». Епископ Григорий (Граббе). Церковь и ее учение в жизни. Собрание сочинений. Т.3. Джорданвилль. 1992. С.181. Святитель Филарет, митрополит Московский, писал: «Я отрицаю это разделение на существенные догматы и второстепенные мнения, я полагаю, что оно противно мнению всех Отцов […]; и то и другое столь тесно соединено и практически неразделимо друг от друга, что допустить его (разделение – С. Ф.) совершенно несогласно с единством веры и Церкви» (Русский архив. 1894. Кн.3. С.92). «Кто после найденной истины, – говорится в Деяниях VII Вселенского Собора, – доискивается еще чего–то, тот ищет лжи».
[Закрыть]. Богослужение связано не только с вечностью, но и с жизнью мира [106]106
«Юлианский календарь, – пишет современный православный исследователь календарной проблемы, – более полутора тысяч лет определявший ритм жизни народов Европы, закреплен отчасти и в генетических структурах человечества. Согласно многочисленным научным экспериментам последних лет, проведенным на биологических объектах разного уровня, живая материя и вместе с ней человек оказываются предельно чуткими к малейшим колебаниям геомагнитного поля; причем показатели земного магнетизма имеют очень четкую периодичность, связанную с равноденствием и солнцестоянием. «Человек вместе со всем живым вибрирует в такт колебаниям физических полей космической природы. Вибрации эти в связи с постоянными колебаниями точки равноденствия в Григорианском календаре не имеют правильной периодичности, а это связано с неведомым, но несомненно существующим «терапевтическим эффектом» (Г. Могилевцев). Григорианский календарь, согласно которому живет современное человечество, задает неправильный и акосмический ритм. Поэтому вполне понятно, что он, не соответствуя тем биочасам и биокалендарю, которые на протяжении очень длительного времени вырабатывались у человека, возможно, их расстраивает. Заслуживает внимания и тот факт, что, согласно мысли В. И. Вернадского, ноосфера Земли слагалась – и, видимо, в дальнейшем будет слагаться в ритме Юлианского календаря. Поэтому «человечеству важно не растратить этого, во многом уникального единства». Римский престол, отойдя от Вселенской Церкви, отдалился и от вселенской истины: папство, навязывая свое мировоззрение, основанное на геоцентризме, не отличало метафизической стороны этого вопроса. Земля, будучи местом Боговоплощения, и в самом деле является центром мироздания, но центром не астрономическим, а духовным. Время – тоже творение Божие. Господь совершает освящение твари, которая причащается Его небесной жизни. Поэтому можно говорить о церковном Юлианском календаре как об иконе этого освященного времени. […] Церковь Христова соединяет временное и вечное. Это осуществляется прежде всего в Таинстве Евхаристии. Пребывая во времени, Церковь реальным присутствием Христа преображает время, как преображает она и мир. Что же касается разногласий и разноречивых мнений по поводу Юлианского календаря, то нам видится, что аргументом по преимуществу является ежегодное схождение благодатного огня на Гроб Господень – чудо, которое происходит при многотысячном стечении паломников в Великую Субботу по Юлианскому календарю. В этом нам видится мистическое освящение этой 2000–летней иконы времени» (Л. Перепелкина. Экуменизм – путь, ведущий к погибели. Джорданвилль. 1992. С.88—89; см. др. ее работы: Юлианский календарь – 1000–летняя икона времени на Руси // Православный путь. 1988 г. Джорданвилль. 1989. С.113—144; L. Perepiolkina. La categorie du temps dans la tradition orthodoxe // Espace et le Temps. Librairie Philosophique J. Vrin. Paris. 1991).
[Закрыть]; вся тварь участвует в нем, но приносится оно тварью через высшую ее точку, через венец творения – через человека, через Церковное богослужение. Во всяком случае только вся Православная Церковь в целом, а не одна какая–либо поместная могла решить вопрос о календаре. Вся Церковь в целом должна одновременно и согласно участвовать в вечных событиях нашего спасения. (Да и с технической стороны вопрос этот более сложен, чем кажется с первого раза, так как на протяжении двух тысяч лет памяти более ранних святых меньше отставали от григорианского календаря, чем более поздние и т. д., а кроме того и «новый» стиль в конце концов не идеально точен с точки зрения астрономии) [107]107
С астрономической точки зрения суть Никейской реформы календаря заключалась в том, что в юлианскую систему времяисчисления, строго ориентированную по солнцу, было введено «лунное течение» (движение луны со сменой ее фаз). Чисто внешне Григорианский календарь (введенный настойчивыми усилиями римского папы Григория XIII в 1582 г.) астрономически был точнее Юлианского. Но Вселенский Собор в Никее был озабочен, главным образом, не астрономической точностью календаря (хотя, по возможности, старался соблюсти и ее), сколько единством молитвенной жизни всех поместных Церквей. (О. Сергий Мечев подчеркивал еще один аспект единства: Церкви земной и Церкви Небесной). Однако и астрономическая точность Григорианского календаря оказалась весьма сомнительной. Причем сразу же после его введения. В 1583 г. ученый Жозеф Скаллигер опубликовал «Новый труд по улучшению счета времени», в котором писал о том, что только Юлианская календарно–хронологическая система может обезпечить непрерывный счет дней в мировой хронологии. Именно по освященному более чем тысячелетним употреблением в Церкви календарю до сих пор ведутся все хронологические и астрономические расчеты, относящиеся как к прошлому, так и к будущему. Недаром создатели Григорианского календаря (среди них иезуит–математик Христофор Клавий) отстранили от участия в реформе всех сколько–нибудь выдающихся астрономов и хронологов, выражавших сомнение в реформе. Образованная Русским астрономическим обществом для обсуждения реформы календаря Ученая комиссия заявила 18.2.1899 о том, что «нет оснований к введению в России (а тем более в Церкви) заведомо неправильного Григорианского календаря». Подробнее см.: А. Н. Зелинский. Конструктивные принципы древнерусского календаря // Контекст. АН СССР. М. 1978 (переиздана: Братством прп. Иова Почаевского. Монреаль. 1984; Подворьем Русского на Афоне Св. – Пантелеимонова монастыря в Москве. 1996); его же. Освященное время // Вестник Русского Западно–Европейского Экзархата. № 113. Париж. 1983. С.209—250; его же. Литургическое время Христианской культуры // Православное чтение. Издание Московской Патриархии. 1990. № 6. С.1—5; Г. Могилевцев. Григорианская реформа календаря // Отчизна. М. 1991. № 8. С.33—36; К. В. П. Остановилось солнце, или подаренный день // Жизнь вечная. М. 1995. № 7(10). С.16; В. Губанов. Церковный календарь точнее иных // Жизнь вечная. М. 1995. № 9 (12). С.8.
[Закрыть].
О. Сергий рассказывал, как он, смущенный вестью, что Русская Церковь изолированно перейдет на гражданский календарь [108]108
Отношение Православной Церкви к Григорианскому календарному расколу 1582 г. с самого его возникновения было вполне определенным. 1582 г. Вселенский Патриарх Иеремия II вместе со своим Синодом осудил новое римское времяисчисление, как не согласное с преданием Православной Церкви. 1583 г. Константинопольский Церковный Собор, созванный Вселенским Патриархом, при участии Патриархов: Александрийского Сильвестра и Иерусалимского Софрония VI, – в своем постановлении, разосланном всем Восточным Церквам, заявил: Кто не следует обычаям Церкви и тому, как приказали семь Святых Вселенских Соборов о Святой Пасхе и месяцеслове и добре законоположили нам следовать, а желает следовать григорианской пасхалии и месяцеслову, тот с безбожными астрономами противодействует всем определениям Святых Соборов и хочет их изменить и ослабить – да будет анафема, отлучен от Церкви Христовой и собрания верных. Вы же, православные и благочестивые христиане, пребывайте в том, в чем научились, в чем родились и воспитались, и когда вызовет необходимость – и самую кровь вашу пролейте, чтобы сохранить отеческую веру и исповедание. 1756 г. В Окружном послании Вселенский Патриарх Кирилл V наложил на всех христиан, принявших новый стиль, страшные проклятия на временную земную и вечную жизнь. 1848 г. В Окружном послании от имени Единой Кафолической и Апостольской Церкви Вселенский Патриарх Анфим VI совместно с др. Восточными Патриархами: Александрийским Иерофеем, Антиохийским Мефодием и Иерусалимским Кириллом, и их Синодами высказали следующее исповедание веры: У нас ни патриархи, ни соборы никогда не могли ввести что–нибудь новое, потому что хранитель благочестия у нас есть самое Тело Церкви, то есть народ, который всегда желает сохранить веру свою неизменною и согласною с верою отцов его […] Да держим исповедание, какое приняли от таковых мужей – святых Отец, да отвращаемся всякого новшества как диавольского внушения, на что, если бы кто дерзнул или словом, или делом, или помышлением, таковый отрекся уже от веры Христовой, уже добровольно подвергся вечной анафеме за хулу на Духа Святого, якобы несовершенно глаголившего в Свящ. Писании и во Вселенских Соборах. Итак, все новшествующие: еретики ли то, или раскольники, добровольно облекошеся в клятву, яко в ризу, хотя бы то были папы, хотя бы патриархи, хотя бы миряне, аще бы ангел с небесе – анафема ему. 1899 г. Назначенный Св. Синодом Русской Православной Церкви делегатом в образованную Русским астрономическим обществом Комиссию по вопросу о согласовании старого стиля Православного календаря с новым профессор Петербургской духовной академии В. В. Болотов (1854—1900) в своей двухчасовой исторической речи сказал: Сам я отмену юлианского стиля в России нахожу отнюдь нежелательною. Я по–прежнему остаюсь решительным почитателем календаря Юлианского. Его чрезвычайная простота составляет его научное преимущество перед всякими другими календарными исправлениями. Думаю, что культурная миссия России по этому вопросу состоит в том, чтобы еще несколько столетий удержать Юлианский календарь и через то облегчить для западных народов возвращение от ненужной никому григорианской реформы к неиспорченному старому стилю. Именно это научно неопровержимо всесторонне обоснованное выступление подвигло Ученую комиссию высказаться в пользу старого стиля. Решительными сторонниками Церковного календаря были выдающийся русский ученый мирового масштаба Д. И. Менделеев и известный астроном Е. А. Предтеченский. Последний говорил, например, о составителях Великого индиктиона следующим образом: Этот коллективный труд, по всей вероятности, многих неизвестных авторов, выполнен так, что до сих пор остается непревзойденным. Позднейшая римская пасхалия, принятая теперь западной церковью, является по сравнению с Александрийской до такой степени тяжеловесною и неуклюжею, что напоминает лубочную картинку рядом с художественным изображением того же предмета. При всем том эта страшно сложная и неуклюжая машина не достигает еще и предположенной цели. 1902—1904 гг. Автокефальные Православные Церкви: Константинопольская, Иерусалимская, Греческая, Русская, Сербская, Румынская и Черногорская, – высказались против Григорианской календарной реформы. В Послании Св. Синода Русской Православной Церкви к Вселенской Патриархии 25.2.1903, в частности, говорилось: Такая перемена, колеблющая исконный и много раз освященный церковный порядок, несомненно, сопровождалась бы некоторыми потрясениями в церковной жизни, а между тем в настоящем случае такие потрясения не находят для себя достаточного оправдания ни в исключительной правоте предполагаемой реформы, ни в назревшей церковной потребности. Вселенский Патриарх Иоаким III, суммируя мнения Православных Церквей, высказался так: Существенный признак Православия, составляющий самое основание всего его канонического и правительственного построения, – это не нарушать вековечных определений, положенных нашими Отцами. Только это одно может отразить новейшие стремления и силы, исходящие, говоря словами апостола, от мудрости земной, душевной и бесовской. Ибо как тому, что в течение стольких веков существовало по чину и благообразно, не должно сохранить силу и не быть священным и на остальное время. 1918 г. Всероссийский Церковный Собор 1917—1918 гг. высказался за сохранение старого стиля: Ввиду важности вопроса о реформе календаря и невозможности, с церковно–канонической точки зрения, скорого самостоятельного решения его Русской Церковью без предварительного сношения по сему вопросу с представителями всех автокефальных Церквей, оставить в Русской Православной Церкви Юлианский календарь во всей полноте как на наступающий 1919 год, так и на следующие за ним годы, впредь до решения вопроса всею Православной Церковью… Это последнее тщательное рассмотрение календарной реформы, относящееся к июлю 1918 г., отображено в «Деяниях Совещания Глав и представителей автокефальных Православных Церквей в связи с празднованием 500–летия автокефалии Русской Православной Церкви 8—18 июля 1948 г.» (Т.2. М. 1949. С. 290—320, 432—434). 1920 г. В «Окружном Послании» Вселенский Патриарх Мелетий IV Метаксасис выдвинул программу дальнейшей деятельности Православных Церквей, первым пунктом которой было принятие единого календаря «для одновременного празднования всеми Церквами великих христианских праздников». 1923 г. Вскоре после Пасхи в Константинополе Вселенским Патриархом Мелетием IV было созвано Совещание представителей Православных Церквей для предварительного обсуждения некоторых церковных вопросов, в том числе и перехода на новый стиль. Постановление об изменении богослужебного календаря и Пасхалии, разосланное автокефальным Церквам, встретило возражения большинства из них. На Совещании отсутствовали уполномоченные от Александрийского, Антиохийского, Иерусалимского и Русского Патриархатов. Александрийский Патриарх Фотий в послании на имя Антиохийского Патриарха Григория от 23.6.1923 объявил постановление Константинопольского совещания не имеющим канонического авторитета, а введение нового стиля без санкции Вселенского Собора невозможным. Решительно отказался ввести новый стиль в своем Патриархате Иерусалимский Патриарх Дамиан. Православный народ Константинополя был особенно сильно возмущен, что определять день Пасхи предполагалось с помощью… астрономических вычислений. Вселенский Патриарх Мелетий был вынужден уйти на покой. Обновленческое Высшее Церковное управление и созванный им в апреле схизматический собор постановили перейти на новый стиль. Однако столкнулись с неожиданными трудностями. По свидетельству Святителя Тихона: Когда летом 1923 г. обновленческое духовенство приступило к введению нового стиля в церковное употребление, против него единодушно восстал почти весь народ. Везде повторилась одна и та же картина: в праздники по новому стилю не приходил в церковь народ, в праздники по старому стилю, несмотря на требования народа, не решалось отправлять богослужение духовенство. Иногда народ заставлял насильно священников совершать богослужение по старому стилю. Не прошло и месяца, как священники, перешедшие на новый стиль, под давлением своей паствы вынуждены были возвратиться на старый, а несколько позднее сам обновленческий синод разъяснил подведомственному ему духовенству, чтобы постановление о новом стиле проводилось в жизнь лишь там, где это по местным условиям представляется возможным. В октябре в силу целого ряда обстоятельств священноначалие Русской Православной Церкви сделало попытку перейти на новый стиль, но под давлением народа эта попытка провалилась (подробнее см. прим.50). 1924 г. Не дожидаясь решения других Православных Церквей, Греческая Православная Церковь перешла на новый стиль 1 марта. В Грамоте, разосланной всем Восточным Церквам, новый Вселенский Патриарх Григорий VII от своего имени и Синода объявил о переходе на новый стиль, оставив временно до созыва Вселенского Собора празднование Пасхи и зависящих от нее праздников на старой Александрийской Пасхалии. Одновременно с Грамотой Вселенского Патриарха о введении нового стиля с 10 марта Русская Православная Церковь стала испытывать давление со стороны советского правительства (см. прим.50). Такая синхронность, учитывая характер «турецкой» революции и национальный состав «младотурок», была, как представляется, далеко не случайной. Патриарх Тихон довел до сведения Вселенского Патриарха, что ввести новый стиль в Русской Церкви оказалось делом невозможным ввиду решительного сопротивления народа. Румынская Православная Церковь перешла на новый стиль 1 (14) октября. Архиерейские Соборы Русской Православной Церкви Заграницей 1923, 1924, 1926 и 1931 гг. постановили отвергнуть новый стиль ввиду того, что Восточными Патриархами в 1583 и 1756 гг. на новый стиль наложены клятвы, тяготеющие на нем доселе, ибо никаким Собором они не сняты и не разрешены. 1927 г. Когда все препятствия к созыву дважды назначенного и откладывавшегося Вселенского Собора, казалось, были устранены,
в Иерусалиме и его окрестностях 11 июля произошло сильное землетрясение, заставившее Иерусалимского Патриарха отказаться от участия в подготовке Собора, по этой причине вновь отложенного на неопределенный срок. 1929 г. В этом году перешедшие на новый стиль православные впервые вкусили горьких плодов от своего собственного календарного детища. Православная Пасха в 1929 году была очень поздняя – 22 апреля по старому стилю. Начало Петрова поста по новому стилю пришлось на 30 июня, то есть на второй день самого праздника. […] Перешедшие на новый стиль Константинопольская и Элладская Патриархии от комментариев воздержались. Румыны же, дабы восстановить Петров пост, дерзнули, нарушив канон Никейского Собора о Пасхе, назначить этот величайший христианский праздник почти на месяц раньше подлинной его даты – на 31 марта. То есть румыны в 1929 году «праздновали пасху», совершенно обособясь от Православного мира». (Могилевцев Г. К «Заявлению» Святителя Тихона // Образ. Журнал писателей Православной России. М. 1995. № 4. С.67). 1948 г. На Московском совещании Глав и представителей Православных Церквей, посвященном 500–летию Автокефалии Русской Православной Церкви, календарный вопрос вновь был поднят. Большинство выступавших твердо стояло за сохранение Юлианского церковного календаря. Однако ради «всеправославного мира» Совещание признало правомочным для Православных Церквей отмечать неподвижные праздники по тому стилю, который принят в данной Православной Церкви. 1968 г. Болгарская Православная Церковь отказалась от старого стиля, перейдя на новый с 20 декабря. 1992 г. В Послании Предстоятелей Святых Православных Церквей, участвовавших во Всеправославном совещании в Фанаре 15.3.1992 г., говорилось о неких «группах раскольников», угрожающих «каноническому единству» Православия. После Совещания Вселенский Патриарх Варфоломей I разъяснил, что под этой формулировкой имелись в виду «старостильники в основном в Греции». И прибавил: «Мы были единодушны в их осуждении». В Совещании приняли участие представители всех 14 Поместных Православных Церквей. Причем Иерусалимская Православная Церковь отказалась подписать этот документ (Могилевцев Г. К «Заявлению» Святителя Тихона. С.60). В настоящее время Юлианского церковного календаря твердо держатся Русская Православная Церковь, Русская Православная Церковь Заграницей, Иерусалимская Православная Церковь, Грузинская Православная Церковь, Сербская Православная Церковь, монастыри Св. Горы Афон. В Церквах, перешедших на новый стиль, возникли календарные расколы. Особенно пострадала от календарной реформы Финская Православная Церковь, единственная в Православном мире дерзнувшая в полном объеме принять Григорианский календарь, порвавшая таким образом с Православной Пасхалией (см. прим.46). Самочинства там доходят до того, что к Св. Причастию там фактически допущены инославные, женщины в любом состоянии; фактически упразднена исповедь; в угоду лютеранам изменены богослужебные тексты, а венчаться разрешается в неположенные дни. Православные Церкви, перешедшие на Григорианский месяцеслов (тем самым разорвав богослужебное единство), но сохранившие Юлианскую Пасхалию, в недалеком будущем все–таки вынуждены будут принять какое–либо определенное решение: «По расчетам Д. П. Огицкого (Богословские труды, 1968. № 4. С.110—111), это приведет к тому, что у новоюлианцев (новостильников – С. Ф.) уже в 2515 году первый день Святой Троицы придется на следующий день после праздника святых апостолов Петра и Павла. Далее – более: к 6771 году, если новоюлианцы по–прежнему будут «сидеть на двух стульях», праздник Святой Троицы придется на второй день Успенского поста, а к 20700 году Троицын день придется на день заговенья на Рождественский пост. То есть в отдаленном будущем в новоюлианском месяцеслове праздники, посты и будни смешаются, чинопоследование времен, лет и праздников будет постоянно нарушаться, в результате чего в богослужении воцарится полнейшая анархия» (Могилевцев Г. К «Заявлению» Святителя Тихона С.82). Как сказано в Писании об антихристе: «…И помыслит пременити времена и закон» (Дан.7:25), то есть «возмечтает отменить у них праздничные времена и закон».
[Закрыть] прибежал к Святейшему Патриарху Тихону, высказал ему свое смущение, прося прощения, что душа его не принимает перехода, и прося не считать его бунтовщиком. – «Да какой же ты бунтовщик, – ответил ему Святейший, – я тебя знаю».
Переход так и не совершился [109]109
Первая документально засвидетельствованная попытка введения Григорианского календаря в Русской Православной Церкви – Послание Патриарха Тихона Вселенскому Патриарху 21.1.1919, в котором он обращался «с запросом относительно календаря, выражая готовность перейти на новый стиль, если такова будет воля большинства поместных Православных Церквей. При этом он видел необходимость перехода на Григорианский календарь в тех странах, где православные являются меньшинством» (Поспеловский Д. В. Русская Православная Церковь в XX веке. М. «Республика». 1995. С.93). К 1923 г. относится записка председателя антирелигиозной комиссии ЦК РКП (б) Ем. Ярославского (Губельмана) «В Политбюро ЦК тов. Сталину» (11.6.1923), в которой он предлагает сообщить арестованному Патриарху, «что по отношению к нему может быть изменена мера пресечения, если он: […] е) выразит согласие с некоторыми реформами в церковной области (например, новый стиль). В случае согласия, освободить его и перевести в Валаамское подворье, не запрещая ему церковной деятельности» (Источник. Документы русской истории. М. 1995. №3. С.128). В «Краткой мотивировке предложения» Ярославский уточняет: «Из разговоров с [Патриархом] Тихоном выяснилось, что при некотором нажиме и некоторых обещаниях он пойдет на эти предложения […] Согласие его хотя бы с какой–нибудь реформой (он согласен на признание нов. григор. календаря) делает его «еретиком» – новатором в глазах истинно православных» (Там же). Политбюро ЦК РКП (б) на своем заседании 14.6.1923 постановило «принять предложение т. Ярославского». О своей позиции Патриарх Тихон дает знать в интервью, данном им сотруднику Российского телеграфного агентства 15.6.1923 сразу по выходе из заключения: Патриарх «Тихон говорит, что из всех постановлений [обновленческого] Поместного [лже] Собора он согласен только с переходом на новый стиль» (Известия. 29.7.1923). Судя по документам, «среди окружающих [Патриарха] Тихона приверженцев» у большевиков были свои люди. В «Кратком информационном отчете антирелигиозной комиссии ЦК РКП (б)», составленном около 15 сентября 1923 г. Ярославским, об этих «приверженцах» говорится: «Они стремятся повлиять на [Патриарха] Тихона в том смысле, чтобы [Патриарх] Тихон сам ввел ряд новшеств и изгнал от себя всякого рода подозрительных в политическом отношении, с точки зрения советской власти, лиц, они считают необходимым, несмотря на упорное сопротивление, которое встречает в крестьянских низах эту реформу, провести введение нового стиля с 1 октября (19)23 года, распустить и переизбрать все приходские советы, мотивируя эту меру тем, что они являются скрытыми черносотенными организациями […], также ввести второбрачие духовенства. Эту меру тихоновцы намерены провести от имени самого [Патриарха] Тихона» (Ученые записки Российского Православного университета ап. Иоанна Богослова. Вып.1. М. 1995. С.164). Как бы то ни было, 18 сентября 1923 г. Патриарх обратился «к православному народу о реформе календаря в Русской Православной Церкви» (Журнал Московской Патриархии. 1952. № 11), а 24 сентября было принято Постановление Святейшего Патриарха Тихона и «Малого Собора епископов» о переходе на «новый» (григорианский) календарный стиль в богослужебной практике: По почину Вселенского Патриарха и в согласии с другими Православными Автокефальными Церквами, пропустить во времяисчислении 13 дней так, чтобы после 1 октября старого стиля следовало 14. Вопрос о времени празднования Пасхи решить в согласии с Православными Церквами по постановлениям бывшего в Константинополе в сем году Православного Собора. Призвать особым посланием всех архипастырей, пастырей и верующих мирян без смущения принять исправление церковного времяисчисления, так как это исправление нисколько не затрагивает ни догматов, ни священных канонов Православной Церкви, необходимо по требованиям астрономической науки и потребно для согласования церковной жизни с установленным уже во всех христианских странах времяисчислением… Акты Святейшего Тихона, Патриарха Московского и всея России, позднейшие документы и переписка о каноническом преемстве Высшей Церковной власти. 1917—1943. М. Православный Свято–Тихоновский богословский институт. С.299. Об обстоятельствах обсуждения на «Малом Соборе епископов» читаем в «Словаре» (Т. IV. Erlangen. 1986. S.325) митрополита Мануила (Лемешевского): 11/24 сентября 1923 г. в Донском монастыре состоялось расширенное заседание Священного Патриаршего Синода в присутствии 23 святителей. По докладу Высокопреосв. Илариона, архиеп. Верейского, о необходимости перейти с Покрова на новый церковный стиль, Святейший высказался за принятие предложения, также митрополит Тихон Уральский, митрополит Серафим (Александров) Тверской, архиеп. Петр Крутицкий (Полянский) и еще архиеп. Иларион и 13 святителей (имена которых в тот момент зафиксировать не удалось). Воздержался от голосования один и четыре архиерея высказались против введения нового стиля, а именно: б. митрополит Минский и Белорусский Мелхиседек [Паевский], архиепископ Борис [Соколов] Рязанский и Зарайский и епископ Мануил [Лемешевский] Лужский, управляющий Петроградской митрополией, и еще один малоизвестный святитель (имя которого так и не запомнилось). Таким образом, «Патриарший Синод в сентябре 1923 г. постановил принять новый стиль… но ввести его так, чтобы предстоящий Рождественский пост… обнимал полностью законный срок – 40 дней и поэтому фактически начался 15 ноября н. ст. Послание, в котором подробно объяснялись причины перехода на новый стиль, с упором на то, что все зарубежное Православие его приняло и Церковь должна быть едина с остальными Православными Церквами, было зачитано в конце Литургии в московском Покровском монастыре в день Покрова по ст. ст., т. е. 1(14) октября, по поручению Патриарха [професором–протопресвитером] о. [Василием] Виноградовым, у которого был очень слабый голос. Следовательно, основная масса верующих ничего не услышала. Очевидно, как пишет Виноградов, Патриарх это сделал из предосторожности, боясь бурной реакции верующих. Затем текст был передан Тучкову для напечатания, с тем чтобы он был в руках Патриархии не позже 1—3 ноября н. ст.; иначе он не успел бы дойти до прихожан на периферии до начала поста по новому стилю. Патриархия считала, что верующие никак не примут Рождества без полных сроков поста. Тучков же, по мнению Виноградова, пытался переходом на новый стиль вызвать еще одно расстройство в Патриаршей Церкви, создать максимальную оппозицию Патриарху. «А так как все основания к такой оппозиции очень убедительно устранялись содержанием патриаршего послания, то Тучков решил лишить Патриаршее управление возможности разослать вместе с указами о введении нового стиля и объясняющее весь вопрос послание». Послание не было напечатано и в газетах. Вместо этого в них появилась статья о том, что «всеправославный конгресс» в Константинополе, который ввел новый стиль, был обновленческим. Иными словами, было сделано все, чтобы представить верующим Патриарха как обновленца и отшатнуть их от него. Делегация от Патриархии запросила Тучкова. Он сделал вид, что ничего не знает и–де не смог добиться напечатания Патриаршего послания вовремя. Теперь Тучков показывал полную незаинтересованность, так как – по мнению Виноградова – он был уверен, что назад Патриархии уже пути нет, новый стиль введен, и у Патриархии будут большие неприятности со своим народом. Но дело в том, что Синод указа о новом стиле по епархиям не разослал, желая это сделать совместно с посланием. В результате указ был разослан только по церквам города Москвы. Когда к 5 ноября отпечатанного послания все еще не было, по московским церквам был разослан указ, что, поскольку послание не напечатано к посту, переход на новый стиль откладывается на неопределенное время, и приходы с удовольствием вернулись к старому стилю. Обозленный Тучков, считая главным виновником епископа Илариона [(Троицкого)] и протоиерея Виноградова, сослал первого в концлагерь, «а Виноградову запретил появляться в Патриаршем управлении… на два месяца» (Поспеловский Д. В. Русская Православная Церковь в XX веке. С.93—94). По свидетельству самого Святителя Тихона, «как только распространился слух о введении нового стиля со 2(15) октября, в среде верующих возникло сильное возбуждение. […] К нам потянулись вереницы депутаций от верующих, чтобы осведомиться, действительно ли предполагается реформа календаря, и чтобы просить нас от лица народа воздержаться от нее, так как введение нового стиля всюду возбуждает тревогу, опасения, недовольство и сопротивление. […] В глазах многих принятие нового стиля сделалось равнозначащим отпадению от Православной Церкви» (Там же. С. 335, 336). Один из видных мирян во время выступления обновленческого «митрополита» заявил: Патриарха «Тихона мы любим и уважаем за то, что он ничего не изменил в Церкви и оставил Церковь в прежнем ее виде, но если [Патриарх] Тихон будет вводить в Церковь новшевства, то мы, несмотря на уважение и любовь к нему, все от него отвернемся» (Ученые записки… С.165). Эти обстоятельства вызвали Патриаршее Распоряжение 26.10.1923: «Повсеместное и обязательное введение нового стиля в церковное употребление временно отложить» (Акты… С.300). «…Из епархий, – свидетельствует Святитель Тихон, – мы получили изъявления великой радости по поводу нашего распоряжения […], а вся Москва облегченно вздохнула и немедленно возвратилась к старому стилю». Однако «после этого канцелярия наша была опечатана агентами Правительства, из нее были взяты неразошедшиеся экземпляры нашего, тогда уже отмененного послания о введении нового стиля и оказались расклеенными по улицам столицы без нашего ведома и согласия» (Там же. С.335). Однако давление на Патриарха по поводу введения нового стиля не ослабевало. Доказательством чему является изданный Святителем Тихоном в декабре 1923 г. Указ о разрешении праздновать Рождество Христово по григорианскому календарю «в тех местах, где по местным условиям гражданской и церковной жизни это окажется желательным и целесообразным». «Но, – как отмечает Патриарх, – этим разрешением нигде не пожелали воспользоваться, в чем снова проявилось единодушное желание народа сохранить старый обычай» (Там же. С.336). Следствием этого явилась Просьба, направленная Патриархом наркому юстиции Д. И. Курскому с разъяснением позиции Церкви о календарной реформе и Послание Вселенскому Патриарху Григорию VII, написанные в начале 1924 г. В 1924 г. при председателе ВЦИК образовался Секретариат по делам культов во главе с П. Г. Смидовичем, который осенью возобновил переговоры о переходе Церкви на новый стиль, пригласив представителей Патриархии и обновленцев. В ответ на новый нажим Святитель Тихон направил 17.9.1924 в ЦИК СССР обширное Заявление, в котором писал: Ныне вопрос о введении нового стиля в церковное употребление снова возбуждается Правительством, и с его стороны заявлено настоятельное желание, чтобы нами были приняты решительные меры к согласованию церковного календаря с гражданским. Принимая во внимание свои прежние опыты, мы считаем себя вынужденными заявить, что решительно не находим возможным их повторять. Новое наше распоряжение о реформе календаря, пока не достигнуто общее согласие по этому вопросу всех Православных Церквей, и в глазах верующих, и по существу дела было бы лишено канонического основания и оправдало бы противодействие народа. По нашему глубокому убеждению, такое распоряжение, настойчиво проводимое нами и, может быть, поддержанное мерами государственного воздействия, послужило бы причиной больших волнений и несогласия в Церкви. Там же. С.337. В результате от перехода на новый стиль отказалась не только Русская Православная Церковь, но и обновленцы.
[Закрыть] и, может быть, в этом была «капля меду» и о. Сергия.
Кое–кто говорил, что если перейти на новый стиль, то у нас будут праздники Рождества и Крещения, которые тогда считали по новому стилю неприсутственными днями. «Уверяю вас, скоро они не будут праздноваться ни по какому стилю!» – ответил о. Сергий. Так и вышло. Скоро введена была пятидневка, затем шестидневка, затем непрерывка или скользящая неделя.
О. Сергий делился со своей «покаяльной семьей» и своими взглядами на церковные события, потому что это было для него также вопросом совести, жизни его души. Он старался, чтобы мы его поняли, он никого не принуждал следовать ему. «Если вы не разделяете моего пути, идите, своим, но я не могу идти по–другому». О. Сергий никогда не «отделялся», не осуждал «инакомыслящих», но душа его не принимала того, что казалось ему противоречащим его взглядам на существо Церкви, он ссылался на свою «немощную совесть». А как он болел и мучился этими вопросами, знали только близкие ему люди. Ему даже в мелочах неприемлем был компромисс, душа его не переносила и тени неискренности, он не мог быть другим. Многие хорошие, можно сказать, святые люди, шли совсем другим путем; многие осуждали о. Сергия, многие считали его бунтарем. Но это не так. Это был протест не гордости, но чуткой совести, протест души, безконечно преданной Христу и Его Церкви, горевшей любовью к Ним.
О. Сергий находил поддержку себе в житии преп. Феодора Студита, молился ему и присоединил и его имя к числу всегда поминавшихся на отпусте. К последнему дню его Ангела, который о. Сергий проводил с нами, в числе других подарков ему преподнесена была икона преп. Феодора с житием, написанная М. Н. [110]110
Преподобный Феодор Студит (759—826) – 22–х лет поступил в монастырь, став одним из примеров деятельного иночества. Принимал деятельное участие в защите иконопочитания, за что подвергался заключению в темницу. Из литературных трудов особенно замечательны проповеди, собранные в Большом и Малом Катехизисах, и письма (550), касающиеся самых разных сторон церковной жизни. Подвиги Преподобного были особенно близки о. Сергию, он молился ему, считая его своим покровителем. Высылка из Москвы в день памяти преп. Феодора послужила для него свидетельством правильности его пути. Икона преп. Феодора Студита с житием была написана М. Н. Соколовой (см. прим.37) и подарена о. Сергию его духовными чадами осенью 1929 г. в день ангела. Сам образ сохранился до сих пор и находится за границей у священника Владимира Шибаева. Воспроизведен в сб.: Надежда. Душеполезное чтение. Вып.16. Базель – М. 1993.
[Закрыть] Подарок чрезвычайно его обрадовал. Вскоре о. Сергий был арестован и после непродолжительного заключения выслан из Москвы в день памяти преп. Феодора. Для него это было утешением и ободрением. (А одна его простодушная духовная дочь сказала по этому поводу: «Так вот почему М. Н. написала ему эту икону, а мы–то и не знали!»). Мне хочется привести здесь один случай. У меня был один знакомый, который знал меня с детства и в свое время был послан Господом, чтобы поддержать во мне веру в то время, когда дома я не могла получить многого в этом отношении. Он был человек церковный, глубоко верующий и, можно сказать, поплатившийся здоровьем и жизнью за свои убеждения. Он мог бы стать преподавателем, но, не желая входить в конфликт с совестью, сделался простым санитаром. До того, в гражданскую войну, он попал в плен к полякам, которые выбили ему зубы, морили голодом и всем невыносимым обращением довели его до туберкулеза гортани. Когда мы встретились после продолжительной разлуки, я уже была на Маросейке. Однажды Е. В. выразил желание побывать там. Вся обстановка ему не понравилась, он всегда отзывался о Маросейке с иронией, в особенности в связи с ее церковным направлениями: «Вы все там хотите быть уж очень святыми!» В 1929 г. в моей жизни было много тяжелых и внутренних и внешних событий, я доходила иногда до изнеможения, все валилось у меня из рук. Наш служебный врач, не зная того, что со мною происходило, счел меня душевнобольной и послал лечиться амбулаторно в Донскую лечебницу. На Донской жил Е. В. с женой и сестрами. Я зашла к ним. Е. В. сидел за столом. Он говорил мне о своем здоровье, о загадочности своей болезни, о том, что у него не нашли туберкулезных палочек (туберкулез у него как–то «вышел наружу», на шее образовались опухоли), собирался лечиться… Но наряду с этим он говорил совсем другое: просил меня позаботиться о его жене, о его близких, просил их не забывать, навещать. Как будто в душе его жило два человека: один еще держался за этот мир, а другой уже смотрел из другого, уходил… Поделилась и я с ним своими горями и самым большим из них – разлукой с духовным отцом: «Вы ведь знаете, какое это для меня горе!» И вдруг, к великому моему удивлению, Е. В. ответил мне очень торжественным, шедшим в разрез с его обычной насмешливостью тоном: «Это потеря не для вас только, но и для всей Церкви: ведь о. Сергий – столп Церкви!» Я даже не нашлась, что ответить, настолько это было неожиданно. Только когда я пришла в следующий раз и узнала, что Е. В. умер на другой или на третий день после моего первого посещения, я поняла, что это был уже голос из другого мира, что эта фраза была сказана Е. В. не от своего земного я.
На Маросейке каждую среду пелся на два хора параклис Божией Матери «Многими содержим напастьми» (но с ирмосами). Первый раз он был совершен в (1923) году по следующему поводу. Бремя Батюшкиного наследства иногда становилось для о. Сергия непереносимым. Он изнемогал и физически и нравственно, отдавал все силы, а очень многие и многие были недовольны им. Наконец он стал думать о том, что его Ангел – преподобный Сергий, когда на него было недовольство в монастыре, и братия избрала игуменом его брата Стефана, тайно ушел и основал новый монастырь. О. Сергию показалось, что может быть он нашел здесь указание на то, как ему надо поступить (между прочим о. Сергий всегда говорил, что когда приходится уйти от трудности, кажущейся непереносимой, надо сначала найти свою вину, и уйти с чувством покаяния, а не своей правоты). Для окончательного решения вопроса он поехал к о. Нектарию [111]111
См. прим.
[Закрыть], но благодаря каким–то путевым неурядицам не сумел добраться до Старца, просидел долго на железнодорожной станции и, обдумав все еще раз наедине, решил, что он не имеет права уйти от Батюшкиного дела, что Батюшка «вымолил» его, чтобы он пошел в священники и принял потом его паству. Он понял, что не найдет себе покоя, если уйдет от своей семьи. С этим он и вернулся ко дню нашего храмового праздника – осенней Казанской. Вечером в день праздника был совершен параклис перед иконой Феодоровской Божией Матери, которая была для этого вынесена на середину храма. Затем о. Сергий собрал нас в храме, рассказал нам о своих переживаниях и о решении остаться. В память пережитого решили параклис совершать каждую среду.
Раньше же, еще при Батюшке и после него канон параклис читался на молебне у Феодоровской иконы Божией Матери в субботу после всенощной, но почему–то с Богородичными ирмосами «Отверзу уста моя».
***
Всенощными о. Сергия были пятница и воскресение вечер. Это были тихие, сосредоточенные службы, в особенности покаянная служба на понедельник.
Непомерные труды сказывались на здоровье о. Сергия и без того не богатырском. Сначала он пробовал освободить от исповеди всенощную в воскресение вечером, но это плохо удавалось, и даже когда удавалось, и давало возможность помолиться, то нужен был и физический отдых. Тогда о. Сергий взял себе свободный день (понедельник). Странно сказать, но не все этим были довольны, так как попадать к о. Сергию становилось еще менее возможным.
Особенно подкосилось здоровье о. Сергия после того, как в лесу в Богородске на него напали хулиганы и ударили его по голове, отчего он серьезно заболел, и долго не восстанавливалась у него способность поддерживать равновесие.
Каждое воскресение перед всенощной о. Сергий совершал панихиду на могилке Батюшки на Лазаревском кладбище (в 4 часа дня). С тех пор я особенно полюбила канон «Отверз уста моя, Спасе…»; и до сих пор в нем звучит для меня голос о. Сергия.
Каждую первую пятницу месяца совершалась заупокойная всенощная по Батюшке. Это были любимейшие наши службы, очень торжественные и проникновенные. В дни же годовых памятей Батюшки всенощная совершалась особенно торжественно, даже как–то пели целиком псалом 103–й, как на ночных службах.
Эти ночные службы совершались главным образом в удобные для молящихся дни. Так почти каждый год, пока праздновалось «новое Рождество». На второй его день, т. е. в память пяточисленных мучеников совершалось настоящее всенощное богослужение, начинавшееся часов с 10 вечера и продолжавшееся до очень ранней обедни. Введены эти богослужения еще при Батюшке, кажется Андреем Гавриловичем Кулешовым [112]112
См. прим.
[Закрыть], который, приехав в Москву на Поместный Собор в качестве делегата, сблизился с Батюшкой и организовал в храме Никола–Кленники Богословские курсы. Сестры, прошедшие эти курсы, долго носили прозвище «курсовых»; в противоположность «чудовским», которые пришли в Батюшкин храм после закрытия Чудова монастыря и также помогли наладить пение и богослужение. На этих всенощных богослужение совершалось полностью по уставу и несколько раз, в положенных местах, прерывалось чтением. Пелись на них целиком хвалитные псалмы («Хвалите имя Господне» и «Исповедайтеся Господеви»), как, впрочем часто делалось и вообще на полиелейных службах больших праздников. Стихи начинал петь хор священнослужащих (которых при Батюшке бывало всегда много в праздник), второй стих пел правый хор, третий – левый хор и т. д.
***
При наступлении Великого поста о. Сергий каждый раз давал нам какое–нибудь маленькое дополнительное правило. Один раз это была молитва «Премудрости Наставниче» (певшаяся, кроме того, постом вместо «Под Твою милость»), в другой – стихира Великой Среды, творение инокини Кассии: «Яже во многия грехи впадшая жена», в третий – «Покаяния двери отверзи ми, Жизнодавче»…
***
О. Сергий заказал для всех по иконочке Ангела Хранителя и благословил ежедневно читать по одной песне канона ему (на понедельник приходилось две, т. к. понедельник посвящен Небесным силам).
В другой раз всем дал он в благословение иконочку Феодоровской Царицы Небесной.
Почти всем духовным детям о. Сергий благословлял читать ежедневно по главе Евангелия и Апостола, а однажды решил, что читать надо одну и ту же главу всем, чтобы это чтение и в разлуке нас объединяло.
***
Когда я впервые пришла к Батюшке, он сказал мне: «Я по своим знаю, что напрасно заставлять молодежь заниматься не тем, чего она хочет». Так было и с о. Сергием. Батюшка очень любил сына и всегда желал иметь его своим наследником и преемником. Но о. Сергий, хотя и любил Церковь и богослужение, помогал Батюшке в служении в храме, но стремился к светскому образованию и пошел учиться в университет. Священником он стал под влиянием Святейшего Патриарха Тихона и после поездки в Оптину (посвящен в 1919 г.).
Когда о. Сергий впервые приехал в Оптину, там было два старца: о. Нектарий и о. Анатолий [113]113
См. прим.
[Закрыть]. О. Сергий с первого взгляда выбрал о. Анатолия. Впоследствии, после смерти о. Анатолия, он обращался к о. Нектарию и даже, по завещанию самого Старца [114]114
Об участии о. Сергия в похоронах Оптинского старца Нектария подробнее см. в кн.: Цветочки Оптиной пустыни. Воспоминания о последних Оптинских старцах о. Анатолии (Потапове) и о. Нектарии (Тихонове). / Сост. С. В. Фомин. М. «Паломник». 1995. С.173—177.
[Закрыть], хоронил его, на что очень обиделись оптинцы.
Разницу между старцами очень ярко охарактеризовал один духовный сын отца Нектария. Приезжавшие в Оптину приходили на благословение к обоим старцам и шли на совет к тому, к кому душа лежит. О. Анатолий принимал всех просто, радушно: обласкает снимет тяжесть с души, даст совет (мне думается, что он был похож на нашего Батюшку), отпустит пришедшего с легкой душой. Если же кто впервые попадал к о. Нектарию, тот проходил целое испытание. Вместе со всеми он приходил в хибарку; его обещали принять, но он тщетно ожидал приема до самого вечера, когда выходил послушник Старца с сообщением, что Батюшка сегодня больше принимать не будет и что надо прийти завтра. Назавтра повторялась та же картина, – и так несколько дней. Люди недостаточно терпеливые возмущались и уходили к о. Анатолию; другие же оставались ждать еще, постепенно вживались душой в молитвенную атмосферу хибарки, и им уже не хотелось уходить из нее. Вот тогда–то о. Нектарий принимал терпеливого и вознаграждал его «велиим духовным утешением».
Приходилось слышать, что о. Нектарий не боялся ставить человека в труднейшие положения и поставлять на его пути большие испытания, находя это полезным для души. Был случай, когда о. Сергий приехал к о. Нектарию (а ему нелегко было выбраться со своей страды), а тот его не принял и только уже вслед благословил его из окна. Может быть, и завещание о похоронах было подобным испытанием и о. Сергию, и оптинцам.
В связи с о. Нектарием вспоминается один небольшой случай, рассказанный о. Сергием. О. Сергий обычно при чтении Евангелия пропускал родословную Спасителя. Вот однажды он приехал к о. Нектарию, а тот и попросил «отца протоиерея» прочитать ему именно это место из Евангелия.
***
В нашем храме был ковчег с мощами преподобных Феодосия и Сергия. Ковчег, довольно большой, был сделан из серебра, и в 1918 году его украли. И Батюшка, и о. Сергий любили и почитали этих угодников Божиих. В Сергиеве Батюшке дали новую частицу мощей Преподобного Сергия, а до Тотьмы, куда раньше Батюшка ездил, теперь добраться было трудно. Господь послал о. Сергию частицу мощей преподобного Феодосия совершенно необычным, чудесным путем. Никогда не забуду, с каким непередаваемым благоговением и с какой торжественностью бывало выносил о. Сергий крест с мощами: чувствовалось, что тут присутствовал сам угодник Божий. Я ни у кого и нигде больше не видела такого отношения. Преподобный Феодосий был особенно близок о. Сергию. В последнее свидание с одной духовной дочерью о. Сергий сказал ей: «До сих пор вы просили меня молиться за вас, а теперь просите преподобного Феодосия. Он всегда был скоропослушлив к моим просьбам. Верю, что и вас, духовных детей моих, он не оставит своею помощью».
(Лично у меня неожиданно получилась живая связь с преподобным Феодосием, хотя даже жития его я долго не знала. Однажды я расстроила о. Сергия своими «откровениями». Он с горечью сказал мне: «Ну, спасибо!» – и отказался, кажется, меня благословить. Мне казалось, что он неправильно понял меня, и мне было очень тяжело. Расстроенная и до изнеможения усталая пришла я с работы в храм ко всенощной под праздник преподобного Феодосия. Служба еще не началась. Я подошла к его иконе, и в душе сказалось: «Преподобный Феодосий, ты видишь, как я устала. Но помоги мне все же помолиться тебе и помири меня с о. Сергием!» Я встала на клирос. Спать так хотелось, что перед глазами словно стоял туман. Глаза закрывались, и не знаю, как я не падала. Но на сердце стало хорошо и. хотя я не понимала стихир полностью, но в каждой из них звучал для меня лейтмотив: «преподобный Феодосий все оставил ради Христа!» – и это наполняло душу светом и радостью. Когда же после Евангелия все мы пошли прикладываться к иконе преподобного Феодосия и ко кресту с мощами, о. Сергий, помазуя мой лоб елеем, наклонился и, заглядывая мне в лицо сбоку, весело сказал: «С праздником, Ляля!» Преподобный Феодосий исполнил обе мои просьбы, и с тех пор стал очень дорог мне. Впоследствии в очень тяжелые для меня годы он очень знаменательно и очевидно вмешивался в мою жизнь).
***
Когда о. Сергий расстался с нами, было очень тяжело.
Долго дожидалась я возможности поехать к духовному отцу. Несколько раз поездка назначалась и отменялась, и я почти отчаялась в ней. Но, наконец, наступил долгожданный день. При моей неприспособленности многое было мне трудно. Просили меня подъехать к дому в темноте, но ямщик не слушался меня, спешил, и приехала я среди бела дня. Не помню, как и встретил меня отец, я была очень смущена моим невольным непослушанием. У него гостили тогда младшие девочки и при них Маня К. Бросилось мне только в глаза, что он был непокоен духом, видно было, страдала его душа, он куда–то уходил гулять и мало разговаривал со мной. А у меня тоже душа была утеснена давно лежавшей на ней печалью, которую хотелось снять с себя через исповедание ее, но приступиться к этому было трудно.
Наступил вечер. Отец облачился, стал в красный угол. Началась вечерня. Пели мы вдвоем, Маня и девочки присутствовали. Чудная служба, любимые стихиры, которые не раз переживались дома, – но окамененная душа молчала.
Кончилась вечерня. Отец поставил аналойчик с иконой Спасителя. Подошли девочки, поклонились отцу; ласково благословил он их, отпустил спать. Маня пошла их укладывать. А мне отец дал в руки поминание и велел медленно читать его вслух. Я сначала не поняла – зачем, и стала читать имена подряд. Он остановил меня, чтобы читать каждое имя отдельно.
И вот каждое имя он повторял за мною, каждого, казалось, видел перед собою, каждому имени кланялся до земли, как живому человеку, каждого благословлял как бы присутствовавшего. Некоторые имена он произносил с каким–либо ласковым эпитетом: «Володя, дорогой», «Танюша», и т. д., многие произносил со слезами. Казалось, вся его семья была здесь с ним, и каждое имя вспоминалось со всеми скорбями, со всеми переживаниями человека, которому оно принадлежало. Казалось, время и расстояние не существовали в этот момент. Даже окамененная душа моя не могла несколько не поддаться и не растопиться в этой атмосфере великой любви, преодолевающей человеческую ограниченность.
Прочитано последнее имя. Отец в последний раз поклонился иконе Спасителя. После вечерни мы сели ужинать. О чем–то я его спросила, но он не в силах был ни о чей говорить, хотя видно было, что тоска его рассеялась. Он был полон вечерней, «свиданием» с семьей, молитвой о ней.
Мне посчастливилось прожить у отца целую неделю. Видимо, Господь дал мне это утешение перед тяжелым испытанием, чтобы запастись силами, да и несколько освободиться от душевной тяжести. Вдвоем прочитали мы все службы первой седмицы «от А до Зет», как он говорил, шутя; вместе пели ирмосы Великого канона по привезенным мною нотам. Напевал он еще мне и выучил меня одному подобну: «Тридневен воскресл еси, Христе, от Гроба». Беседовал со мною об особенностях службы нашей чтимой чудотворной иконе Божией Матери Феодоровский (канон обращен к Спасителю), говорил, что икона Божией Матери есть всегда вместе с тем икона Спасителя. Диктовал мне толкование великого повечерия постного.
Приезжала в эту неделю на короткое время Кира В., бывшая в то время «на сносях». Отец очень о ней тревожился, уложил ее спать на свою кровать, а сам лег чуть ли не на полу. (Потом воспоминание о совместном пребывании нашем у отца нас с ней очень сблизило).
Но проходила неделя, а я еще не поговорила с отцом о своей душе, о своих грехах и скорбях. Он уже сказал, что пора мне уезжать. С трудом я ответила, что ведь еще не поговорила с ним. Он как будто этому удивился: «Ну, давайте, поговорим!» Трудно было начать этот разговор, но он был очень нужен. Казалось, что душа была сожжена скорбью. То, что я говорила, было для него почти новостью. Слушал он меня с большою любовью, состраданием, и эта жалость ко мне потом осталась у него до конца его жизни, точно я ему стала более своя. Старался он не дать моей душе ожесточиться, а идти путем любви, путем духовным; говорил о других и о себе. И, действительно, душа моя наконец ожила, отошла. Я уезжала от него другой, чем приехала.
Все это было так нужно тогда, когда суждены были мне еще новые скорби, новые испытания, встречи с чужими людьми и разлука с дорогой семьей.
Елена АПУШКИНА[115]115
Елена Владимировна Апушкина, урожд. Быкова (21.3/3.4.1901 – 25.1» 7.2.1999) – духовная дочь о. Алексия и о. Сергия Мечевых. Училась на философском факультете Московского университета (1919—1920). Отбывала ссылку в Казахстане (1932—1935). Вышла замуж за К. К. Апушкина (1936) – также духовного сына о. Алексия и о. Сергия Мечевых. В предвоенные годы работала в Москве секретарем–машинисткой; во время войны – в различных артелях в Москве. Вышла на пенсию (1956), получив инвалидность (I группы) по зрению. Перепечатывала труды для епископа Афанасия (Сахарова). Собирала материалы о церковной жизни России эпохи гонений. Писала воспоминания. Отпевали ее в храме свт. Николая на Маросейке. Была погребена рядом с могилой о. Алексия Мечева (до обретения его мощей).
Исходя из свидетельств, содержащихся в тексте, воспоминания (во всяком случае, об о. Алексии Мечеве) в настоящем их виде были записаны около 1953 г.
[Закрыть]
Печатается впервые по машинописной копии из архива Е. В. Апушкиной. По желанию автора воспоминания об о. Алексии и о. Сергии Мечевых объединены в одно.







