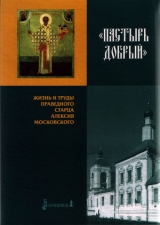
Текст книги "Пастырь Добрый"
Автор книги: Сергей Фомин
Жанры:
Религиоведение
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 36 (всего у книги 57 страниц)
Сон первый
Когда я вернулась с похорон, на вторую ночь я увидела ее во сне: входит она в комнату, остановилась около меня, грустно посмотрела на меня и повернулась, чтобы уйти. Я ей говорю: «Маруся, что ты так скоро уходишь?» Она отвечает: «Мне очень некогда, я пришла на одну минуточку только показаться тебе».
Этот сон я приняла как ответ мне на мои мысли.
Сон второй
После этого сна я еще больше стала грустить, что не видела ее в последние дни ее жизни. Поэтому я усилила за нее свои молитвы. И вот на десятый день ее смерти я вижу ее опять во сне. Вхожу я в комнату, она сидит на стуле около окна. Я вхожу к ней, она грустно смотрит на меня, берет меня за обе руки, складывает их одна на другую, крепко их жмет, делает так до трех раз и говорит: «Тошенька моя милая, ты уж не очень–то огорчайся, что не видела меня последние дни моей жизни, зато вот после шести недель я приду к тебе, тогда обо всем и поговорим».
Сон третий
После двадцати дней я опять ее видела во сне. Вижу, стою я на том месте, где была часовня Иверской [иконы] Божией Матери. На этом месте, где была часовня, лежит много новых бревен, и на них сидят Маросейские сестры, все в белых косынках. Сидят так: кто ниже, кто выше, кто на самом верху, и смотрят по направлению к храму Василия Блаженного. Я же стою недалеко от них и тоже смотрю туда же, но храма Василия Блаженного я не вижу. Но перед моим взором на небе появился лес и большая поляна. На ней два чудных белых храма, сотканных как бы из жемчуга. Один очень большого размера, а другой маленький, одноглавый. Из него доносится до меня чудный звон. Вдруг появляется большое облако и закрывает оба храма.
Я в огорчении, что не вижу больше чудных храмов, сажусь на близлежащие бревна. Вдруг, вижу, подходит Маруся. Все сестры встали и начали ее звать к себе. Она остановилась, на всех посмотрела и говорит: «Нет, я ни с кем из вас не сяду, а сяду я к Тошеньке на ручки».
Подходит ко мне, садится на колени, крепко меня обнимает за шею, целует в лоб, в щеки, в глаза, гладит по голове и все приговаривает: «Милая ты моя Тошенька! Тошенька ты моя милая!» Я смотрю на нее и говорю: «Маруся, как это на тебя непохоже, при жизни ты не была ко мне так ласкова. Что теперь вдруг с тобой случилось, что ты такая стала ласковая?» Она грустно смотрит на меня и показывает указательный палец на правой руке, на котором большая рана. Я в недоумении смотрю на нее и думаю: откуда у нее взялась такая большая рана?
Потом я говорю ей: «Как жаль, Маруся, что ты немного опоздала! Какие я сейчас два чудных храма видела! Только их сейчас облако закрыло. Как жаль, что больше их не видно!» – «А я, – отвечает она, – в них была. Когда я взошла, там шла служба, служит Патриарх и пели певчие. Я тоже встала и помогла им петь. Попела и ушла».
– Зачем же ты ушла? Вот глупая! Такие чудные храмы, а ты ушла.
– Да я не могла в них оставаться.
– Почему же? – спрашиваю ее.
– Потому что это не мое место, и вообще я еще не знаю, где я буду.
Влево от нас недалеко я вижу двухэтажное здание. Из него выходит народ.
Я спрашиваю: «Маруся, что это за здание?» – «Это, – отвечает она, – часовня в честь Владимирской [иконы] Божией Матери. Там тоже служит Патриарх, но только там угасла лампада. Народ просил Патриарха возжечь ее, но он так сурово отказался».
На этом я проснулась.
Сон четвертый
За пять дней до шести недель я видела Марусю опять во сне. Как будто вхожу я в комнату. Она сидит за столом. Напротив нее сидит одна ее знакомая В. А., а по правую сторону сидит ее мать. Мать сильно волнуется и громко кричит, как бы на кого ругается. Маруся сидит грустная–грустная. Я очень обрадовалась, что увидела Марусю, подхожу к ней сзади, обнимаю ее, смотрю ей в лицо и спрашиваю: «Маруся, что ты такая грустная?»
– Как же мне не грустить, когда мама все время волнуется и кричит. Ты знаешь, как это меня безпокоит? Ты и представить себе не можешь, как я безпокоюсь.
Желая ее успокоить, я говорю ей: «Успокойся, Марусенька, не волнуйся. Ведь ты знаешь, что твоя мама больной человек, потерпи ее. А мне лучше вот что скажи: страшно ли умирать?» Она молча грустно на меня посмотрела. Я говорю: «Наверное, Маруся, не так страшно умирать, как страшно мытарства проходить?»
Вдруг она громко зарыдала. Я крепко ее обняла, прижала к своей груди, стала целовать ее в голову, в щеки, в глаза. Всячески старалась ее утешить, спрашивая, чем мы можем еще ей помочь. «Что же еще тебе недостает, молитвы что ли, но ведь так много за тебя молятся. Может быть тебе милостыни не хватает?»
– Да, – отвечает, – Тоня, отдай те 30 рублей в ту семью за меня (у меня действительно есть одна бедная семья, которой я помогала каждый месяц по 30 рублей, но при жизни Маруся об этой семье не знала).
– Хорошо, – говорю, – Маруся, я это сделаю с удовольствием, отдам эти 30 рублей за тебя, но только, наверное, этого мало? Ведь скоро тебе шесть недель, и я не смогу много тебе помочь. Ты знаешь, что сделай, ты теперь это можешь, – узнай там, может быть у меня есть что доброго сделано, так возьми все это себе. Я с радостью тебе все отдаю, если, конечно, что найдется. Ты скажи, что я лично тебе велела это сделать.
Она успокоилась, встала, обняла меня за шею, и мы с ней пошли. Пришли на Маросейку, вошли в храм. Храм был пуст. Царские врата были открыты. Мы с ней взошли на солею. Она прямо Царскими вратами входит в алтарь. Я удерживаю ее за руку и говорю: «Маруся, ты не забыла, что обещала». Она говорит: «Нет, Тоня, не забыла: это то, чтобы к тебе придти после шести недель, но только если меня отпустят».
И она пошла по направлению к жертвеннику. А я вслед ей кричу только: «Маруся, приходи во сне, а не наяву, а то я испугаюсь, и мы ни о чем с тобой не поговорим». На этом я проснулась.
Сон пятый
Два месяца спустя после шести недель 9 ноября ст. ст. я видела Марусю опять во сне. Будто нахожусь я в каком–то саду, иду по дорожке. По обе стороны яблони. Тишина необыкновенная, которая нарушается только падением яблок. Мне очень хотелось взять хотя бы одно яблоко, но мне пришла мысль, что этого нельзя делать, так как я нахожусь в чужом саду и, наверное, думаю, что здесь есть сторожа, которые мне этого не позволят сделать, да и нечестно брать чужую собственность без спроса.
И я пошла дальше по дорожке вглубь сада. Вдруг вижу, что навстречу мне по дорожке идет медленно грустная Маруся. Я очень обрадовалась, бросилась к ней навстречу, хотела ее обнять и поцеловать, но она отстраняет меня и говорит: «Тоня, не трогай меня. Меня ведь теперь целовать нельзя».
Берет меня за правую руку и повертывает обратно. Идем с ней до какого–то как бы обрыва и начинаем спускаться вниз по лестнице, но ступеньки так далеки друг от друга, что по ним не только шагать приходится, а лететь от ступеньки до ступеньки.
Мне делается так страшно, сердце замирает, и я говорю: «Маруся, мне страшно. Я не могу больше так лететь. Я боюсь, что упаду и тогда до смерти расшибусь. Смотри, как еще далеко до земли, верхушки домов еще чуть–чуть видны, и лестница такая прямая и перил нет, придержаться не за что».
– Да не бойся ты, Тошенька, ведь ты не одна. Я же тебя держу за руку, и ты не упадешь.
Очень долго мы с ней так летели. Я начала ее спрашивать: «Скажи, Маруся, что вл. А., С. и А. уже там у вас или еще на земле?» – «Не слышала, – говорит, – не знаю».
– А ты, – говорю, – узнай. Ты это теперь можешь сделать.
– Нет, – говорит, – Тоня, это для меня трудное поручение, не обещаю.
– Марусенька, – говорю ей, – ведь это мне очень хотелось бы знать. Ты знаешь, как я о них безпокоюсь.
– Тоня, – отвечает она, – если они и у нас, то, наверное, находятся в святительских обителях, а ведь это очень от меня далеко.
А я говорю: «Постарайся, сходи и узнай».
– Нет, Тоня, меня туда не пустят. Ведь я не везде могу ходить, где хочу, а только там, где разрешено. Вот о вл. Аф. слышала, что ему очень трудно, что так трудно, как бы при смерти». А я говорю ей: «Я его не знаю, но только слышала о нем».
И вот, наконец, мы уже на земле. Она все еще держит меня за руку. Входим в мою комнату. Она посреди комнаты опускается на колени. Одета она в темно–зеленое ситцевое платье, а отделка шелковая в золотую полоску. Отделана половина юбки, пояс широкий, воротник и манжеты. Я ей говорю: «Маруся, почему ты в зеленом платье, ведь тебя положили в белом?» – «А меня, – отвечает она, – как только привели туда, то сейчас же и переодели. Знаешь ли, во что переодели – во все твои наряды. Вот и это платье–то мое, а отделка–то твоя. Ты за меня не безпокойся, мне хорошо».
Я ее спрашиваю: «Маруся, ты видела Господа?» – «Нет еще, – говорит, – не видела». – «Говоришь хорошо, а сама еще Господа не видела!» – «Я Его увижу, только не сейчас, а ближе к году. Его видят не все в одно время. А у нас хорошо, и службы бывают. У нас образ Его есть, весь он увит в живых цветах».
Я ей показываю образ своего Спасителя и говорю: «Маруся, что, – есть ли сходство моего образа с вашим?» Она подошла к образу, посмотрела и говорит: «Да, есть, но только Он у тебя написан до пояса, а у нас Он во весь рост с посохом в руке, в виде Пастыря».
– Марусенька, – говорю, – что же ты не приснишься о. С. [ергию]? Ведь он тебя хочет видеть.
Она такая вдруг грустная сделалась и говорил: «Меня к нему не пускают».
– Кто же, – говорю, – не пускает–то?
– Да привратник, старенький монах, он очень строгий.
– А ты попросись хорошенько. Ты, наверное, плохо просишься?
– Несколько раз порывалась я туда проникнуть и никак не могла. Вот к тебе мне легче проникнуть, чем к кому–либо другому.
Я говорю ей: «Маруся, ведь я была у тебя на могилке на шесть недель». Она отвечает: «Я знаю, что ты была на моей могилке».
– Откуда же, – спрашиваю ее, – ты это знаешь? Ведь ты говоришь, что тебя туда не пускают.
Она ответила мне: «А я духом чувствовала, когда ты стояла около моей могилки».
Тогда я показал ей образок Тихвинской Божией Матери и говорю: «Маруся, вот этот образок я нашла около твоей могилки». – «Я, – говорит, – и об этом знаю, что ты его нашла». – «Скажи, – спрашиваю ее, – Маруся, откуда же он взялся?» – «Этого тебе я не могу сказать, ведь я не все могу говорить».
«Но тогда скажи, почему я его нашла, а не те, которые каждый день бывают на твоей могилке. Ведь он, наверное, все шесть недель там лежал и наступали они на него, но почему же не видали его?»
«Да, – говорит, – Тоня, он все шесть недель там лежал, и наступали они на него и не видали его, потому что он предназначен для тебя».
Она делает вид, что хочет уходить, я беру ее за руку и спрашиваю: «Маруся, куда же ты так спешишь? Мне так хочется с тобой о многом поговорить».
Я говорю ей: «Маруся, ты приди и скажи мне, когда увидишь Господа, о чем ты с Ним поговоришь».
«Нет, Тоня, не обещаю. Ведь мне это очень трудно делать». – «Ведь ты же говоришь, что тебя легко ко мне отпускают». – «Ну что же, что меня легко к тебе отпускают, да мне–то это очень трудно делать».
Вот мы с ней вышли уже на улицу. Она быстро–быстро пошла, машет мне рукой, а я вслед ей кричу: «Я хочу, хочу, чтобы ты пришла». – «Не обещаю, – отвечает она, – пойми же ты, Тоня, как мне это трудно делать».
Тут я проснулась, сердце сильно билось, волосы перебирались на голове, и такое было ощущение, что она была здесь. И я больше не могла заснуть.
Сон шестой
Иду я по проселочной дороге. Вдруг вижу – догоняет меня Маруся. Она такая радостная и говорит: «Послушай, Тоня, я узнала, что у тебя очень большой запас круп. Ты дай мне хотя бы немного из твоего запаса. Я уж много–то не прошу, а то мне еще один месяц осталось там жить, и мне очень нужно, а то я сейчас везде ходила, ходила и ничего не могла нигде для себя достать». (У меня в это время было в запасе килограмм пять гречневых круп, и я подумала, что она говорит мне об этом запасе).
Я смотрю на нее и говорю: «Ишь ты какая, Машенька, мало ли у меня что есть, да не про твою, Машенька, честь. А потом, скажи, пожалуйста, что это ты повадилась к одной ко мне попрошайничать–то ходить. Как в нужде, так ко мне, а когда была в довольстве, тогда и Тошенька не нужна была, и всячески ругала меня – и такая, и сякая, и видеть не хотела?»
Она вдруг остановилась, опустила голову на грудь и печальная–печальная такая сделалась. Вся радость исчезла с ее лица. Мне так жаль сделалось ее. Я подошла к ней, взяла ее за подбородок, притянула к себе и говорю: «Ну–ну, ты уж не очень–то огорчайся, что я тебя немного пожурила, ведь я шутя. Ты думаешь, мне что–нибудь жаль для тебя? Нет, мне не жаль, возьми, сколько тебе нужно. Возьми кило; если мало, два возьми, а то килограмм–то на месяц мало. Ведь месяц, говоришь, осталось?» – «Да, – отвечает, – месяц». – «А как же ты говоришь, что везде была и ничего не могла для себя достать? Если ты гречневых круп искала, так ведь их сейчас где угодно можно найти, их свободно продают, как же ты не нашла? Приходи к нам на Мясницкую – у нас всегда продают гречневую крупу».
– Нет, – говорит, – Тоня, ты мне из своего запаса дай.
– Из своего–то я тебе дам, возьми пожалуйста. И она скрылась.
Я проснулась и думаю: нет, видно не об этом земном запасе она мне говорила и не этих круп просила, а в других крупах нуждается она теперь, и ровно месяц остался ей до полгода, а через месяц, видно, ее переведут в другие обители.
Сон седьмой
19 августа ст. ст. 1939 г. Марусе был год после ее смерти, а первого сентября ст. ст. я видела ее во сне.
Стою я на паперти незнакомого мне храма. Рядом со мною стоят: Маруся, ее сестра В., ее мама и ее знакомая В. А. И все мы хотим идти к ней на могилку.
Маруся мне говорит: «Тоня, как бы мне хотелось поговорить с тобой одной, многое нужно бы мне тебе сказать. Жаль, что ты не одна, ведь В. будет нам мешать. Я при ней не смогу всего тебе сказать, а если ей сказать, чтобы она шла сзади нас, так ведь она обидится». Потом говорит мне: «Поди, Тоня, в храм, приложись к образам, а мы тебя подождем». Я вхожу в храм. Он полон народа; из алтаря выходят два иеромонаха, одеты во все черное, а сзади них идет игумен в черной мантии с посохом в руках. Все трое подходят к большому образу Божией Матери и начинают класть поклоны перед Ней, как бы о чем–то прося Ее.
Вдруг по всему храму раздается громкий голос, повелевающий сделать сбор на Красный Крест, и вот идут с тарелкой, к которой прикреплена дощечка, на которой нарисован большой красный крест. Я тоже достала кошелек и положила все, что было мелких денег.
Иду обратно на паперть, подхожу к Марусе. Она грустная–грустная смотрит на меня, и мы пошли. Я ее начала спрашивать: «Скажи, Маруся, как ты живешь?» Она начала мне рассказывать: «До шести недель я была в полумрачном месте. После шести недель меня перевели в более светлое место. Там я была до полгода. После же полгода опять перевели. А вот теперь после года меня перевели в еще более светлое место».
– Маруся, спрашиваю ее, – кто же тебя переводил?
– За мной приходил мой Ангел–хранитель.
– А что же тебе помогло переходить из одного места в другое? Она отвечает: «Молитвы и милостыня живущих на земле».
«Как раз, Маруся, – говорю я ей, – я и старалась больше подавать за тебя милостыни».
На этом я проснулась.
Сон восьмой
1942 г., 5 октября, в день Московских Святителей Петра, Алексия, Ионы, Филиппа и Ермогена, – я опять видела во сне Марусю.
Вижу, что нахожусь в своей комнате, стою около стола. Вдруг открывается дверь и поспешно входит Маруся с распущенными волосами в белом платье. Я бросаюсь к ней и говорю: «Маруся, наконец–то я тебя вижу в белом платье». Она отстраняет меня и говорит: «Не мешай, подожди!»
Я говорю: «Что же ты даже и говорить со мной не хочешь?»
Она молча подходит к кровати, влезает на коленях на кровать, показывает мне рукой на картину, которая у меня висит над кроватью. На этой картине изображено восхождение человека в Царство Небесное. Изображено так: высокая и узкая скала, вся устланная терновником. Ангел ведет за руку человека по этому терновнику и указывает рукой вверх, где изображен крест, а кругом разлито сияние.
И вот Маруся, указывая мне на эту картину, говорит: «А по краям этого пути должны лежать цветы добродетелей, а у меня их нет», – и она горько заплакала, – села мне на руки, крепко обняла меня за шею, стала целовать меня в щеки, в глаза, в лоб, и говорит: «Большое тебе, Тоня, спасибо, ты мне много помогла».
Я ее спрашиваю: «Хорошо ли тебе, Маруся?»
Она отвечает: «Мне плохо, помоги мне, моя родная Тошенька, дай мне цветов добродетелей», – и опять горько заплакала.
Я тогда говорю ей: «Маруся, как же ты все время говорила, что тебе хорошо, чтобы я о тебе не безпокоилась, а теперь вдруг говоришь, что тебе плохо?»
«Да, Тоня, – отвечает мне Маруся, – по состоянию моей души мне хорошо, но сейчас я узнала, что такое хорошо и где хорошо, но у меня нет цветов добродетелей и мне туда не пройти, но я тебя очень прошу, Тонечка, дай мне этих цветов добродетелей и помоги мне».
Я говорю: «Хорошо, Маруся, я тебе помогу».
Она опять стала меня целовать и благодарить.
«Спасибо, Тоня, я знала, что ты мне не откажешь, поэтому вот опять пришла просить тебя».
Я говорю ей: «Маруся, я уже говорила тебе, чтобы ты узнала там, – может быть, у меня и есть какие–либо добродетели, чтобы ты часть из них взяла себе».
Она молча низко опустила голову.
«Почему же ты мне не отвечаешь, или нельзя этого сделать?» На этом я проснулась. Время было без четверти двенадцать часов.
Антонина ВОЛКОВА[263]263
Автор воспоминаний – Антонина Михайловна Волкова (28.2.1898 – ?) – духовная дочь епископа Арсения (Жадановского) и о. Алексия Мечева. На квартире А. М. Волковой Батюшка часто встречался с «чудовскими» – прихожанами закрытого Чудова монастыря в Кремле.
[Закрыть]
Публикуются по машинописи из архива Е. В. Апушкиной под названием «Мои воспоминания», «Воспоминания А. М. В.», «Мои сны о Марусе». Частично, без обозначения автора, фрагмент воспоминаний опубликован в кн. «Московский Батюшка» (С.74—78).
Дар слезный
I
Я много лет жил в Петрограде в такое время, когда этот город был особенно полон славой имени Кронштадтского светильника.
О. Иоанн часто приезжал туда, разговоры о нем слышались везде и постоянно, и одни произносили имя его с любовью, другие, наоборот, с каким–то непонятным для меня недоброжелательством, доходившим до ожесточения. Сам я относился к нему с благоговейным чувством, но обстоятельства складывались так, что встречаться с ним не приходилось. Когда он скончался, для меня особенно горестно было сознание, что ни разу не удалось мне его видеть. Великий праведник просиял над Русской землей, как молния, прошел, почти задевая меня плечом, а я его не видел. Не буду говорить, какие из этого я делал заключения, но искание праведника, современного, живого, а не вычитанного из книг, трепетало во мне. И вот, совершенно непредвиденным для меня образом, я не только нашел на земле праведника, но по воле Божией даже имел некоторое общение с ним. И это случилось в такое время, когда праведность была в посмеянии, а религиозное чувство оплевывалось и заглушалось.
Произошло это так. Когда за первыми взрывами революции последовали всем известные превратности, я приехал в Москву и, вопреки моему желанию, оказался прикованным к ней. Тут я около года не имел духовного пристанища, не находил храма, в котором небо было бы ближе к душе, чем земля. Отца Алексея я совершенно не знал и ничего о нем не слыхал. Как человек новый в Москве, я не мог сразу ориентироваться среди многочисленных ее храмов. На Маросейку я попал не помню при каких обстоятельствах, но раз оказавшись здесь, уже не мог с нею расстаться.
В первое время отец Алексей представлялся мне самым обыкновенным священником – так было в нем все просто, незатейливо, скромно, без всяких эффектов. Эта простота и скромность настолько отодвигала отца Алексея на второй план, что, в сущности, я его почти не замечал и не старался даже приглядываться к нему. Уже самая церковь, в которой он священствовал, маленькая, небогатая, казалась каким–то захолустьем среди роскошных храмов первопрестольной. Что можно было встретить в ней необыкновенного, замечательного, яркого? Однако о. Алексей заставил меня обратить на него самое пристальное внимание, именно заставил – я не могу здесь употребить другого слова. Случилось это вскоре после того, как я начал посещать церковь в Кленниках.
По окончании обедни о. Алексей стоял на амвоне с крестом, а молящиеся прикладывались к нему. Я тоже приложился и хотел отойти, но о. Алексей вдруг быстро и так сильно ударил меня по плечу, что я вздрогнул и взглянул на него: лицо и выражение его глаз было какое–то особенное, строгое, хотя и не сердитое; он громко, не улыбаясь, спросил: «Ты, кажется, нервный». Я был озадачен, и какие–то странные, смутные чувства всколыхнулись во мне.
В следующее воскресенье произошло совершенно то же самое: тот же удар по плечу, тот же вопрос, – но впечатление на этот раз осталось во мне весьма сильное и определенное, впечатление, что это не простой священник, что это человек, носящий в своей душе тайны Божии: было что–то в духовном смысле поразительное, необыкновенное, я бы даже сказал – свышечеловеческое, в его лице, в его глазах в тот момент. В трепете, в каком–то таинственном страхе отошел я от него. Душа моя была потрясена и обратилась к нему, стала внимать ему и искать в нем не того, что извне принадлежало ему, а того, что связано было с наиболее интимными сторонами его духа, обращенного к безпредельному Свету. Это именно он сам толкнул меня глядеть на него не внешними, телесными глазами, а теми, другими глазами, которыми мы смотрим на небеса. Постепенно в нем стала открываться одна сторона за другой, пока, наконец, он не достиг размеров величественного образа в моей душе. Какие же необыкновенные черты нашел я в нем…
Прежде всего поразила меня в нем черта – это дар слез. До этого времени я не видел священника, который бы проливал слезы за богослужением, во времяпроповеди или во время беседы. Приходилось слышать священников, которые служили или проповедывали с чувством, с горячностью, даже с тем, что можно назвать вдохновением. Но я ни разу не видел священника, который плакал бы и иногда рыдал бы в церкви так, как это часто случалось с о. Алексеем. И для человека, лишенного духовного разумения, казалось бы, что тут такого, что могло бы вызвать слезы, если произносятся, например, слова: «Сие есть Тело Мое» или «Сия есть Кровь Моя». Слова эти произносятся за каждой Литургией и с обычной точки зрения должны были бы стать привычными, так что священник не может произносить их иначе как машинально, без всякого чувства. Между тем, иногда, о. Алексей произносил эти слова так, что там, вне алтаря, в глубине церкви, слышно было по его голосу, что он плачет. Или вот эти покаянные вздохи великого канона св. Андрея Критского: когда мы их слышим в церкви, то хорошо, если они передаются читающим с достаточным проникновением, с искренним порывом сердца; обычно же стараются прочитать их кое–как, скороговоркой, с запинками, без всякого выражения, как устарелое, мало понятное для современного человека писание.
То ли было у о. Алексея? Нет, он не просто читал, он произносил, как свои слова, эти покаянные тропари, он вкладывал в них сердце; не языком, а душой своей он вслух всех молящихся высказывал эти мольбы грешника о помиловании, – и слезы звучали в его голосе и слезы текли по его лицу. А во время его бесед и проповедей – сколько раз мы видели его плачущим. И это не всегда были тихие молчаливые слезы – иногда его слезы переходили в сдержанные рыдания. И особенно трогательно было слушать, когда он говорил о милосердии Божием, о любви Отца нашего Небесного к падшему, немощному, слабому человеку, к кающемуся грешнику; при этом о. Алексей всегда подчеркивал, что Бог относится «к тебе, человек, как любвеобильный Отец к сыну». Тогда отец Алексей размягчался; дрогнет бывало его голос, зазвучит так тепло и задушевно – а на глазах уже слезы.
О. Алексей сам отмечал у себя эту особенность и обращал на нее наше внимание. «Я богат слезами», – говорил он иногда.
Теперь, когда образ его стал уже отдаляться от нас дымкой времени, нам следует осмыслить, в чем заключалось это богатство, которое он собирал годами и которым, не замечая того, мы пользуемся до сих пор. Что же мы почерпали и должны почерпать в этих слезах его? Обыкновенно люди плачут или от горя или от радости. В слезах отца Алексея не чувствовалось ничего земного. Слезы эти были свидетельством о той стороне жизни о. Алексея, которую он проводил одиноко перед Богом, о той, которую он старательно укрывал от постороннего взора. В этих слезах, в этом сладостном томлении, которым вспыхивал он при имени Божием, так странно и так отчетливо чувствовалось внимательному сердцу прежде всего то, что душа о. Алексея была чиста, как снежинка, без малейшего налета земного праха, как душа младенца. Видишь, бывало, слезы о. Алексея и думаешь: какая у него должна быть духовная сердечная близость к Богу, непосредственность в общении с Ним, как он, должно быть, далек от всего земного, – да и вообще от всего другого, кроме Бога, для того, чтобы обладать такою чуткостью к Нему; какая же у него должна быть безгрешная душа для того, чтобы в ней горела эта постоянная привязанность, эта глубокая нежность к Отцу Небесному. Кто может обладать этими качествами, чей дух способен проникать через завесу, отделяющую нас от Бога. Это свойство тех, о которых Господь наш Спаситель сказал: «Блаженны чистии сердцем яко тии Бога узрят». Когда мы читаем и слушаем эти божественные слова, то, конечно, мы их не понимаем во всей полноте. Мы думаем, что чистые сердцем увидят Бога в будущей жизни. Это, разумеется, правда, но не вся правда. Вот о. Алексей этими слезами, которые он так обильно и сладостно проливал при имени Божием, наставляет нас, что чистое сердце уже теперь, уже здесь на земле, находясь в этой грубой, тяжелой задебелевшей храмине, видит Бога, обращено к Нему всей полнотой своих чувств, находится с Ним в самом тесном, интимном общении. И, конечно, только чистому сердцу свойственно и доступно это непосредственное лицезрение Бога, как говорит пророк: «Выну предзрех Господа предо мною». Не может сердце, омраченное житейскими привязанностями, страстными вожделениями, а тем более грубыми пороками, созерцать Бога. И это понятно, потому, что глаза такого сердца смотрят совсем в другую сторону. А сердце, очищенное от житейской плесени, от ядовитых порослей греха, куда может смотреть, как только к Богу, только к Тому, Кто служит его просвещением и освящением. Вот почему псалмопевец взывает: «Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей».
Будем и мы непрестанно воздыхать об этом, будем искать чистоты сердечной: «очистим чувствия и узрим в неприступном свете Христа блистающися», узрим не когда–нибудь, а именно еще здесь, еще не выступая из земных граней. Отец Алексей служит нам примером в этом. Он явил нам высокий образец чистоты сердечной. Этот пример он показал с чрезвычайной выпуклостью, – и, нужно сказать, что, когда проливались его безгрешные слезы, когда доходил до нашего сердца его голос, весь проникнутый, насыщенный чудным божественным волнением, то оно невольно, независимо от нашего желания, просвещалось, умилялось, приобщалось к тем же чистым осияниям, которыми так могущественно было охвачено сердце отца Алексея. Бледнели и блекли наши вожделения, свирепость наших страстей умягчалась – и мы, как–то безсознательно, незаметно для самих себя перевоспитывались, преображались, перерождались духовно. Не будь мы в тот момент около о. Алексея, он пропал бы для нас, этот момент, на постройку нашей души никто бы не положил этого нового кирпичика благодати, – быть может, случилось бы наоборот, мы разорили бы нашу душу, потеряли бы и те кирпичи, которые уже были там положены.
И как должны мы благодарить Господа, что даровал Он нам, грешным и омраченным «суетными привержении», находиться под чудным водительством этого незабвенного благодатного старца. Его дух золотым дождем изливается на наши сердца, как бы на злаки пыльной долины. Если мы были хоть немного чутки сердцем, если мы искренне искали Бога, если мы имели нелицемерное желание ставить на первый план своей жизни духовные интересы, то всеконечно мы не могли не подвергнуться благотворному воспитательному влиянию о. Алексея, хотя бы сознательно, намеренно к этому и не стремились. Это должно было произойти естественно и необходимо, ибо не мог свет духовный, которым сиял он во все стороны, не озарять потемок и нашей души.
Горе нам, если этого не произошло, если мы не выросли духовно хотя бы немного, если слезы о. Алексея прошли мимо нашего сознания так же, как и всякие другие слезы, которые мы часто видим вокруг нас. Вот как поучительны для нас слезы о. Алексея. Счастье наше, великое счастье, что мы их видели, в особенности, если они были благотворны для нашей души, как роса небесная… Прав был о. Алексей, когда говорил: «Я богат слезами». Это было действительно огромное богатство, и не только его, но и наше.
II
Другая черта, которая бросалась в глаза в личности о. Алексея, была его необыкновенная поразительная простота и скромность. Мы никогда не видели его надменным, высокомерным, не слышали гордых слов, которые исходили бы от него; он не стремился выдвинуться в каком–либо отношении. Он был непосредственно прост, скромен, непритязателен, не только в словах и поступках, но даже и в одежде. Он не старался обращать на себя внимание, проходил жизненное поприще человеком незаметным, держался в тени. Он не окружал себя пышностью, не держал себя с важностью, не требовал каких–либо знаков особого почтения и поклонения, хотя тысячи людей, живущих под его духовным руководством, относились к нему с полной любовью и уважением. Многих эта внешняя простота и безыскусственность отца Алексея соблазняла и отталкивала. Присматриваясь к нему, конечно только с этой внешней стороны, они уничижали его, высказывались о нем со снисходительной сдержанностью или с открытым пренебрежением. Случалось, например, слышать такие отзывы: «Удивительно, как это в Москве, да еще в церкви на одной из центральных улиц мог сохраниться такой священник. Это совсем не городской, это – типичный сельский священник». Так судят люди мира сего, которым доступны только внешние эффекты. И эти люди, составляя себе представление об отце Алексее по некоторым его чертам, не умели ближе подойти к нему и уловить в нем хотя бы небольшую часть того, что так выразительно било в глаза из–под этой скромной, незначительной внешности. Если бы они могли это сделать, если бы обратили внимание не на наружность о. Алексея, а на его внутренний образ, на того духовного человека, которого он так заботливо укрывал скромной внешностью, то увидели бы у о. Алексея одно из самых необыкновенных, одно из самых редких и чудесных на земле свойств духа; это свойство носит название смирения.







