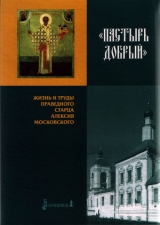
Текст книги "Пастырь Добрый"
Автор книги: Сергей Фомин
Жанры:
Религиоведение
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 47 (всего у книги 57 страниц)
Очень медленно брал батюшка исповедников. Каждого наставлял: иного отпускал с лаской, иному выговаривал со строгостью. Дело дошло до меня. Очевидно вид мой был ужасен, потому что, когда я подошла к батюшке, он встал и сказал:
– Садитесь, а то вы сейчас упадете.
Несмотря на серьезность момента это было так необычайно, что мы оба улыбнулись. Я встала на колени и, набравшись храбрости, посмотрела на батюшку. Передо мной стоял маленький, старенький сельский священник (именно сельский), такой слабенький, безпомощный и добрый–добрый. Весь страх прошел. Чудно, подумала я, что это с батюшкой. Он устал, сел, и как бы нехотя, спросил:
– Ну, говорите, что у вас там за грехи.
Я исповедываться не умела, а от батюшкиного приема душа успокоилась, покаяние куда–то исчезло. Все это во мне было какое–то физическое больше, внешнее.
– Плохо молилась, нетерпелива с мужем, Иисусову молитву забывала, – и еще что–то в этом роде говорила я. После каждого греха кланялась в ноги и прибавляла: – Простите, батюшка.
Батюшка ушел в алтарь. Скоро вышел. Подошел к аналою, переложил Крест и Евангелие по–другому и громко сказал:
– Грехи твои тяжелые. Не знаю, что с тобой и делать.
Передо мной стоял старец о. Алексей. Лицо его было строгое и озаренное внутренним светом. Я испугалась, но это был другой страх. Передо мной вдруг стало все, что я делала, чувствовала, думала за последние месяцы. Появилось настоящее раскаянье в душе. Я опустила голову и молча ждала приговора. Приходил диакон, братья, сам батюшка уходил в алтарь и возвращался, все повторяя:
– Большой твой грех, очень большой. Не знаю, что с тобой и делать. Что мне делать с ней? – точно спрашивая кого–то, говорил он, входя в алтарь. Мне было стыдно, что все слышат всё это; я боялась, что батюшка сделает со мной.
– Простите, батюшка. Я больше не буду этого делать, – громко сказала я. Чего не буду делать, я не знала, но надеялась этим поступком угодить ему.
И вдруг снова что–то прорвалось в душе моей. Я с жаром начала каяться во всем, что вспоминалось, а вспоминалось еще многое. Наконец со скорбью сказала:
– Хочется, батюшка, иметь праздник а я не получу его теперь, я это чувствую, потому что душа моя не очистилась. Я молюсь, а Небо моей молитвы не принимает.
– Нет, молитва ваша принимается, – с уверенностью сказал батюшка. – Я знаю, что Она принимает ее, – посмотрел на Казанскую и тихо добавил: – Я видел, как ты молилась.
Когда я говорила свои грехи неясно или тихо, батюшка говорил:
– Не слышу, громче. Неясно, повторите.
Мне было невыносимо трудно каяться при других. Казалось, все слышат мою исповедь.
– Все, батюшка, – облегченно вздохнула я. – Словом, делом, помышлением, всем существом своим, всегда и во всем виновата перед вами и о. Константином. Если только есть возможность, простите и помилуйте меня, батюшка, родимый, отпустите грехи мои, – взмолилась я.
Он начал тихо наставлять меня, что нужно терпеть, смиряться; говорил, как нужно ежедневно угождать Богу. Говорил, что Иисусову молитву никогда не нужно забывать, всегда читать ее, никогда не оставлять. – Это очень важно, – сказал он. – А к о. Константину идите непременно исповедываться опять, – добавил он.
– Пойду, батюшка, непременно пойду, – горячо ответила я. Батюшка молчал и думал.
– Родной, дорогой, простите, пожалуйста, простите, – приставала я. Легла у его ног и обхватила их.
Долго, казалось мне, лежала я так и вдруг чувствую, что батюшка накрыл меня всю епитрахилью и положил на меня руку. О. Алексей, старец мой родимый молча молился о моей грешной душе.
Когда я встала, он дал мне приложиться только к кресту, которым и осенил меня всю.
– Идите. И также кайтесь о. Константину. О празднике не думайте: он будет у тебя.
На душе было необыкновенно легко и хорошо. Хотелось плакать и молиться.
С этих пор и у о. Константина исповеди мои приняли иной характер: стала глубже относиться к грехам и сознательнее к своим поступкам. С этих пор всегда ходила к обоим исповедываться. О. Константин не был против этого. Иногда, что боялась говорить ему, говорила батюшке только. Чудно, что никто из них не рассердился на меня, что я без благословения первый раз пошла на исповедь к о. Алексею. О. Константин только спросил, накрыл ли меня батюшка епитрахилью и читал ли молитву разрешительную. Я рассказала, как было. Он задумался. По окончании исповеди, как обычно, отпустил меня.
Впоследствии батюшка разрешал по настоящему только то, что не могла сказать о. Константину, а в остальных случаях говорил только: Бог простит, и благословлял.
О. Алексей требовал от кающегося не длинного перечня грехов, а сознательное отношение к своим поступкам, глубокое раскаяние в них и твердое намерение исправиться. Он не допускал, чтобы, исповедуясь, касались других, или говорили разные ненужные подробности. Виновата всегда и во всем только ты, одна ты. Все, что касалось собственной души и своих действий при совершении проступка, говорила всегда подробно, а о других поминать было нельзя. Например, поссорилась: в исповеди каяться во всем том, что сама говорила, без смягчения, а что другой говорил, того не касаться и стараться обвинять себя, а его оправдать. Раз поссорились, значит виновата, что бы там ни было.
О. Алексей всегда требовал устной исповеди, так как по его мнению это лучше очищало душу. Труднее было, но полезнее. Отучал от самолюбия. Он не любил, чтобы даже для памяти имела записку у себя, так как выходило, что ты, значит, плохо готовилась, если не помнишь грехов своих. Никакой грех не ужасал его, все принимал просто. Иногда сотворишь что–нибудь очень скверное, ужасное, а он так просто это примет, не покажет тебе и вида, для того, чтобы ты сама не останавливалась мыслью на нем, так как это иногда он считал неполезным для тебя. Сколько раз говорила ему: не буду. Сколько раз просила его заступничества перед Господом.
И всегда он прощал и всегда покрывал твой грех, если только видел с твоей стороны старанье исправиться и искреннее раскаянье о соделанном. О. Алексей требовал, чтобы ему говорилось только главное, остальное нужно было говорить о. Константину, но иногда и это главное приходилось и о. Константину говорить, – зависело от того, как бывало на это посмотрит о. Алексей. Когда уж очень что–нибудь страшно было говорить о. Константину, то о. Алексей, нисходя к твоей немощи, сам разрешит твой грех и то больше потому, что он всегда боялся, как бы это не обезпокоило о. Константина: ко всему не привык, не приходилось ему такого выслушивать. Если в твоей душе оставалось то, что ты не умела объяснить, – о. Алексей сам наводил тебя на это, объяснял тебе так, что раз от разу ты все больше приучалась очищать свою душу. Бывало, что о. Константин строже батюшки выговорит за какой–нибудь проступок, а иногда – наоборот. И бывало, когда скажешь «мой» очень строгий и я очень боюсь его, батюшка всегда обещал молиться, чтобы о. Константин был добрее. И так покорно убеждал слушаться его, точно сам батюшка был его духовным сыном и нам обоим досталось бы от него.
Помню, раза два от безумного страха перед отцом духовным я не могла ему сказать своего проступка. Батюшка, бывало, подумает и скажет:
– Можно не говорить. Он очень расстроится. Он еще не ко всему привык. Надо его жалеть, надо беречь его нам с вами. Старайтесь больше этого не делать, а на этот раз я прощу и разрешу. На то и поставлен здесь я, чтобы ко мне приходили и говорили все. Потом будешь говорить все и ему. Он тогда тебе все заменит. Он тогда будет тебя понимать во всем и сможет все принять.
Батюшка здесь говорил о своей кончине, о том, как о. Константин достигнет безстрастия.
Когда руководители достигают безстрастия, тогда они покойно могут принимать все. Для них тогда исчезает личность, остается только грех кающейся души перед Богом.
Помню один случай о главном, что нужно было говорить батюшке.
Летом у меня было какое–то непонятное состояние в молитве; хорошенько не помню в чем. Я сказала о. Константину и написала об этом батюшке. О. Константин принял мое откровение к сведению и объяснил, как этого нужно избегать. А батюшка при свидании сказал:
– Письмо ваше тогда я получил, но не ответил на него, так как ничего важного не было в нем.
Я поняла, что это не было то главное, что нужно было говорить старцу своему.
О. Алексей приучал не только к исповеди, но и на откровение приходить, собравшись с мыслями и чувствами и подготовившись. Всегда заметит и строже бывает, когда входишь к нему рассеянной и не помолившись предварительно Св. Николаю, чтобы он тебе помог понять и принять как нужно все, что будет говорить тебе твой отец. Стараешься изо всех сил не проронить ни одного слова из того, что говорят тебе твои отцы. Домой придешь, все опять проверишь. И правда, хорошо бывало, когда идешь помолившись. Всегда все было тогда ясно. Особенно это помогало по отношению к о. Константину. О. Алексей всегда понимал, так как он видел твою душу насквозь.
Как–то раз батюшка уж не первый раз повторял терпеливо, что я должна вести мужа, как должна относиться к душе его. В это время моя душа дремала. Помню, не хотелось стараться принуждать себя жить как нужно. Батюшка лежал на спине, я сидела рядом в кресле, положив голову на стол. Я почти что не слушала его. Что это он мне говорит, со скукой думала я, все то же, все, что я знаю и что не могу провести в жизнь. Хоть бы что–нибудь новое сказал.
Вдруг я услыхала медленный и покойный голос батюшки:
– Так вот, что я вам скажу: делайте, как я советую вам, и будет от этого несомненная польза (в чем были советы, я не слыхала). За нетерпением вашим вы не видите результатов. И так вот живите. А я буду иногда… очень редко разве… вспоминать о вас в своих молитвах… так только… иногда…
Казалось, батюшка был весь поглощен своими руками, которые он разглядывал очень внимательно. Точно он этим только и был занят. Я вздрогнула. Лень соскочила, как не бывало.
– То есть, как же это? – еле проговорила я.
– Так же, – покойно ответил он, не глядя на меня, – молиться за вас я больше не буду.
Я бросилась к батюшкиным ногам.
– Батюшка, родной, дорогой, я больше не буду, не нужно, за что? Я буду хорошая!
Он лежал все так же покойно.
– Идите и живите. Иногда, может быть, я вспомню вас.
Я видела, что батюшка непреклонен. Я ушла. На улице залилась горючими слезами. За что, я не поняла, постигло меня ужасное наказание. – Живи! Как жить, когда ты не будешь молиться за меня, – с отчаяньем думалось мне. Ужас еще был в том, что я не могла идти к о. Константину за утешением. За то, что я так батюшку рассердила, он бы тоже прогнал меня. Значит, неслыханный проступок совершила я, раз он меня так жестоко наказал. Два дня не пила, не ела почти что, грудь даже заболела. Решилась идти к о. Константину. Он мне велел идти к батюшке, добиться прощения и узнать, за что, и без этого к нему не возвращаться.
Думала: если не простит, лягу на лестнице, но не уйду. Прихожу к батюшке. – Можно? – Можно. – Вхожу и валюсь ему в ноги.
– Простите, если можно, батюшка. – Он ничего не ответил, но, посмотрев на меня, сказал:
– Что с вами? Больны были?
– Нет, так… ничего.
– Расскажите про Ваню. – Я сказала, что мне в данное время было неясно в отношении к его душе. Батюшка разъяснил все, участливо глядя на меня, и весело добавил:
– Сначала Иоанн, а потом Александра. Александра потому, – лукаво добавил он, – что и за нее будем молиться. Она ничего, только иногда дурит! – Я в восторге бросилась к ногам батюшки, благодаря его за его великую милость.
– Вот это, батюшка, хорошо сказали, а то тогда ужас чего наговорили, и промучилась же я эти дни. Однако знаю теперь, что больше не буду никогда (что не буду, я не знала). Лучше бы убили.
– Ишь ведь какая, ей все только нужно хорошее говорить. Нет. Нужно вам и плохое выслушать. Вам нужен иногда бич, чтобы вы не забывали всего этого (не ослабевала бы в борьбе). А то, скажите пожалуйста, распустилась и не слушает, что ей говорят: «Этот старый болтун все одно и то же говорит», – не так ли, Ярмолович?
– Батюшка, дорогой, я все же не так подумала. Простите, больше никогда–никогда не буду.
– То–то, помни. Ну иди, – и батюшка, ласково благословив, отворил дверь. – А Александра потом, – сказал он весело мне вслед.
Я поняла, за что батюшка так строго наказал меня и удивилась, как мог он видеть, что я чувствовала, сидя у него, ни разу не взглянув даже на меня. И с тех пор, бывало, не дышишь, когда он говорит и, идя от него, все повторяешь сказанное.
Успеньев день прошел хорошо. Настроение было такое светлое, праздничное.
Прихожу к батюшке по какому–то церковному делу в день погребения Божьей Матери, перед самой всенощной. Он с кем–то сидел в кабинете. Услыхав мой голос, вышел. Я передала ему свое дело.
Вижу, он как–то очень внимательно приглядывался ко мне, а сам такой веселый–веселый. В передней было темно, и он все больше и больше растворял дверь, чтобы меня разглядеть. Думаю: что это с батюшкой? А в душе у меня все пело, как никогда, и была какая–то неземная радость. Наконец я сообразила в чем дело и спряталась в угол, так как почему–то мне стало совестно. Батюшка совсем распахнул дверь и сказал с нетерпением:
– Да поди же сюда! – В кабинете он все продолжал разглядывать мою душу, а я все просилась отпустить меня.
– Да. Так вы что говорите? – переспросил он, очевидно ничего не слыхав из того, что я ему говорила.
Я повторила свое дело, а потом радостно прибавила:
– Успеньев день у нас в деревне, что Пасха. Я привыкла по–настоящему праздновать его.
– Ишь ведь, скажи пожалуйста, ей нужна Пасха на Успенье и службу особенную. Идите в церковь, у нас тоже сегодня будет хорошо.
– Батюшка, спасибо вам, дорогой, родной, что у меня на душе праздник.
В церкви было так уютно и благодатно хорошо. Молилось легко. Особенно хорошо было, когда запели: «Преблагословенная Владычица, просвети нас светом Сына Твоего». Напев был наш, как в деревне, но здесь пели с гораздо большим подъемом. Батюшка был такой торжественный и весь в молитве.
* * * Прихожу как–то в церковь к батюшке исповедываться.
В этот день его особенно тащили во все стороны. Он и служил, и сестры подходили к нему, и записки ему лично много подавали, и исповедников было много, и люди то и дело подходили к нему с разными просьбами и вопросами. Он повсюду поспевал, всем отвечал. Я удивлялась его терпению.
Было поразительно, как он в той сутолоке не терял молитвы. Он ходил, говорил, отвечал, спрашивал, а сам все время молился.
Подошли две особы, горько плача. Он к ним вышел из алтаря. Одна упала перед ним на колени и о чем–то стала умолять его. Долго он не соглашался. Стала просить и другая. Они дали ему просфору. Наконец, лицо его сделалось скорбным, он махнул рукой и пошел в алтарь. Обе горячо стали молиться. Вскоре батюшка вышел, отдал им просфору и что–то сказал. Стоящие на коленях сквозь слезы улыбнулись и повалились ему в ноги.
– Не надо, не надо, – испуганно отмахнулся о. Алексей и поспешно ушел в алтарь.
Они ушли, о чем–то горячо рассуждая. Пришла моя очередь. Я покаялась в чем было нужно и стала жаловаться батюшке, что дома мало молюсь, что молитва мне не удается, потому что времени не хватает и места нет, где бы уединиться. Я приходила в отчаянье, что так я никогда не научусь молиться.
Это было как раз против правил о. Алексея. Он считал, что нужно научиться молиться так, чтобы не зависеть ни от времени, ни от места. Но это было очень трудно воспринять. Об этом постоянно забывалось.
– Ведь Господь взыщет с меня за это, – сказала я, наконец, с нетерпением.
– Не ваше это дело сейчас, – начал батюшка, – нужно с мужем терпеливей быть, исполнять как можно лучше свои домашние обязанности, молиться утром и вечером, стараться вдумываться в каждое слово молитвы, а больше особенного ничего. Вам сейчас этого нельзя. Мужу будете мешать, а это не годится. Потом вообще жизнь такая у вас, она не требует этого. С вас–то сейчас не требуется молитва. Вот я – другое дело. С меня вот они все (он махнул рукой в сторону народа) требуют молитвы, требуют прозорливости. А откуда я могу взять это, когда меня рвут на части. Я не молюсь совсем. Никуда не годен я, – с горечью произнес он. – То усталость, то лень, то некогда. И то, и другое надо сделать, каждому ответить, да над ответом подумать. Разве то, что я делаю, молитва? А они не понимают. Никто не понимает, что я не могу им дать того, чего они хотят от меня. Я ничего не могу им дать. А они этого не хотят понять. Им нужна моя молитва, они ждут моего ответа.
– Прозорливость!… Да знаете ли вы, что она получается от молитвы? А откуда мне ее взять, раз мне не дают молиться?
Вот хоть сейчас эти две. Я должен знать – расстреляют его или нет. Хотел молиться, а тут отвлекают. Ну просфору вынул. Дал им ответ. Какая тут прозорливость! Просто молился о нем… Не знаю, что из всего этого будет, – закончил он, задумчиво глядя вдаль. – Очень трудно.
Я поняла, что это было очень важное и серьезное дело. О. Алексею нужно было выпросить у Бога благоприятный исход его. Это–то и считал он очень трудным.
– Вот с меня–то Господь потребует. И как еще потребует–то, – добавил он. Я с благоговением поклонилась ему. Поклонялась его смиренномудрию, т. е. он знал, что он имеет, а считал себя никуда не годным человеком. Тот, в ком явно действовала благодать Духа Святого, тот, кто всего себя отдал без остатка ближнему, говорил про себя, что у него нет настоящей молитвы, что он никуда не годный человек.
Пришло Воздвиженье. Я пошла ко всенощной и решила первый раз подойти к батюшке, чтобы он помазал меня елеем.
Подходя к аналою, как всегда хотела положить земной поклон, но кто–то сзади сказал:
– Скорее. Не задерживайте батюшку!
Но крест для меня был крест и я сделала по своему. Батюшка обильно помазал меня елеем и с улыбкой сказал:
– Ах, Ярмолович, Ярмолович, везде она, Ярмолович! С праздником! – добавил он, низко поклонившись. Я смутилась и ответила ему таким же поклоном.
Как–то прихожу исповедываться к нему и говорю ему, что о. Константин не велел Царя осуждать, как и вообще никого, но с другими–то мне легче, а его–то никак не могу оправдать.
– Очень трудно быть во главе чего–нибудь, особенно государства, – сказал батюшка, – да еще одному человеку. Не под силу это. Не осуждать, а жалеть его надо. Вот возьмите меня: небольшое дело, а справиться не могу, как нужно. И меня многие осуждают. А тут целым государством надо управлять. Для такого дела не человеком нужно быть.
– А потом, батюшка, еще о. Константин объяснил мне «Херувимскую» и требует, чтобы я ею молилась, а у меня это не выходит. Умом теперь понимаю ее, а сердцем – нет. Так хорошо и легко было раньше, когда молилась своей молитвой во время ее пения. Очень трудно вообще, батюшка, молиться, как он хочет: своей молитвы не иметь, а молиться только церковной молитвой.
Батюшка ушел в алтарь.
Когда запели «Верую», я вдруг почувствовала, что исповедую духом каждый член ее. Этого я добивалась, и никогда у меня это не выходило.
Батюшка вышел, посмотрел на меня и, довольный, улыбнулся. А я, смотря на него, продолжала исповедовать все так же Символ веры, пока не кончили его петь.
– А насчет его, – снова начал батюшка, – еще скажу вам, что надо все ему простить за его страдания. Ведь он уже умер. Так что же помнить его ошибки. Он был несчастный, безвольный, не умел себе помощников выбирать.
Батюшка снова ушел и скоро опять вышел.
– А насчет Херувимской скажу вам только, что нужно слушаться, слушаться и слушаться. Больше ничего. Слушаться. – И он все время крепко ударял меня по лбу рукой, точно хотел вогнать в меня силой это самое послушание. – Нужно стараться слушаться его и так делать, как он велит, остальное придет само собой, – добавил батюшка.
Я осталась недовольна: что значит слушаться, когда ничего не выходит. Но все же с еще большим старанием стала молиться, как мой «отец» мне велел.
В этом случае ясно видно, как батюшка смотрел на послушание. Здесь от меня требовалось чисто машинальное послушание. Но и такое батюшка считал очень важным.
Поразительно в этот раз было то, что он, исповедуя, ходил служить и молиться, и молился, как мог молиться о. Алексей, да еще в «Достойную».
Он выходил, горя весь молитвой, и в то же время сам продолжал исповедь, напоминая тебе твои грехи, в которых ты уже покаялась и уже успела их забыть.
Часть 3
Еще до батюшки это было.
В сороковой день после кончины бабушки увидала я чудный сон. Я верила, что в сороковой день душа водворяется там, где ей надлежит быть. Мне захотелось знать, где моя дорогая бабушка, и кроме того, я очень соскучилась по ней.
Горячо я молилась и звала ее.
И вижу во сне, что иду по тропинке. По бокам темно, а сама она освещена. Чудные розы росли по обеим сторонам ее. Подхожу к стене. За ней вижу свет, как вечерняя заря, и слышу чудное пение. Открываются ворота, а там чудный сад и на пороге стоит моя бабушка вся в белом, и в свете, и грустно так кивает мне головой, как бы зовя меня к себе. До нее осталось шага три. Я хочу их пройти, но вдруг тропинка сдвигается и на розах появляются шипы, которые страшно больно раздирают мне тело. Боль была невыносимая физическая и нравственная. Я взмолилась: «Господи, я не могу туда пройти». И слышу голос: «Когда ты решишься, то взойдешь туда». Я закрыла лицо руками и горько заплакала. Проснулась – подушка мокрая от слез.
Сон мне этот не давал покоя, и хотя мой отец духовный очень не любил всего такого (снов, предсказаний, предчувствий), но я все же решилась ему об нем рассказать.
Он не рассердился и сказал, что этот мой сон означает путь Христов, всегда трудный и сопряженный со многими скорбями. Что бабушка зовет меня к себе, и что когда–нибудь, если буду стараться, пойду к ней.
Я успокоилась и про сон забыла.
Почему–то теперь снова вспомнила его и он не давал мне покоя. Совестно было, но все же решилась пойти с этим к батюшке.
Пока я ему рассказывала, вошла жена о. Сергия, держа на руках маленького своего сына. Батюшка очень любил своего внучка, но тут даже не обратил на него внимания. Е. Н. (жена о. Сергия) не могла добиться от него ответа, нужно ли делать операцию кому–то или нет: пришли за советом.
Наконец батюшка нетерпеливо крикнул ей: «Пусть завтра придут. Не перебивай, – а мне: – Дальше!»
Я боялась, что он рассердится за то, что с глупостями прихожу к нему, а он так серьезно отнесся к этому делу. Я испугалась – значит, это очень важно для меня.
Окончивши, сказала:
– Батюшка, я боюсь, что со мной случится что–нибудь такое, и что я не выдержу и отрекусь от истины.
– Нет, с вами ничего такого не случится, – пристально посмотрев мне в глаза, сказал он. – Нет… ничего… – еще раз посмотрев на меня, сказал он. – Вот вы какая, – протянул он.
– Бабушка ваша была необыкновенный человек. Поэтому теперь там она может молиться и молится за всех, кого она любила на земле. Она боится, чтобы душа ваша не забыла настоящей жизни. Ей хочется вас видеть на этом пути. Тогда вы отказались – не понимали всего, теперь вы его вспомнили, потому что сейчас она особенно молится за вас и душа ее особенно печется о вас.
Батюшкины глаза стали большими, он ими смотрел сосредоточенно вдаль, точно видел там душу бабушки.
– Да, хороший была она человек, очень хороший, – продолжал он, – и молитва ее сильная. Ух, какой силы! Сейчас, вот сейчас она как молится за вас. И вы должны теперь за нее молиться. Как ее имя?
– Евгения, батюшка.
Батюшка не знал бабушки совсем. Не думаю, чтобы он что–нибудь слышал про нее, а говорил о ней так, как будто жил с нами тогда.
– Батюшка, а может быть это мне к смерти? Скажите. Я ее не боюсь. Буду готовиться, а то ведь я не готова.
– Нет, нет, это не к смерти, – уверенно сказал он.
И начал он говорить о том, что мы никогда не бываем готовы. Мы не знаем, когда она придет. Мы никогда не ждем ее. Мы не можем чувствовать себя готовыми, т. к. не исполняем воли Божьей не земле.
– Разве, умирая, кто–нибудь может сказать, что исполнил все, повеленное ему от Бога. Так на что же надеяться? – На великое Его милосердие только. Он был распят за нас, понес все грехи наши и мы поэтому получили дерзновение просить Его заступничества за нас перед Богом–Отцом.
Сказать, что мы исполнили повеленое нам, хотя бы отчасти, мы не можем, но должны, умирая, иметь чистую совесть и в душе сознание, что сколько было сил, старались делать все, что требовалось от нас Господом.
– Не смогли чего сделать – ничего. Главное, чтобы совесть наша нас ни в чем, ни в самом малейшем не могла бы укорить.
– Вот, готовы мы никогда не можем быть, – сказал батюшка, – но, умирая, должны иметь совесть чистую. – Батюшка говорил, что он ничего не сделал и не делает достойного в жизни.
– Жалость разлучиться с вами и хочу быть со Христом, как говорил апостол Павел, – снова сказал батюшка. – Но я не знаю, что лучше для вас (для всех нас).
И он так красиво заговорил о своем желании умереть и быть со Христом неразлучно и о той скорби, которую он чувствует при мысли, что придется разлучиться с нами.
– И этого еще не сделал, – говорил он со скорбью, – и это в жизни упустил, и этого еще не доделал.
Лицо его стало светлое–светлое, глаза прозрачные, небесно–голубые – они светились тихим светом и, подняв руки к небу и весь как бы потянувшись к Спасителю, о. Алексей произнес:
– Господи, Иисусе Христе, Спаситель мой Милосердный. Я иду к Тебе и вот я весь перед Тобою, каков я есть. Возьми меня. Я ничего не сделал в жизни своей для Тебя. Я не готов и никогда не буду готов, но я говорю вот: что всю мою жизнь и до последнего дня моего я, сколько было сил, и выше сил своих, старался делать все по совести. И совесть моя чиста, она ни в чем не укоряет меня. Вот я весь перед Тобою с моими немощами, весь во грехах. И таким я иду к Тебе, надеясь и веруя в Твое неизреченное милосердие.
Батюшка опустил руки и откинулся на подушку. С закрытыми глазами он продолжал молиться. Свет в нем постепенно потухал, как вечерняя заря.
– Не безпокойтесь об этом сне. Он сам скоро перестанет тревожить вас. Живите покойно, – сказал он и, не поднимаясь, благословил меня.
Я тихонько поцеловала его руку и на цыпочках вышла из комнаты. Как я тогда не поняла, что скоро наступит его конец?
Как–то прихожу к нему посоветоваться насчет Вани. В душе кипело у меня нетерпение. Я снова стала раздражаться на Ваню своего. Но, конечно, батюшке об этом не говорила.
– Как я его люблю, – вдруг сказал он после окончания беседы. – Очевидно вы свою любовь передали мне. Как можно его не любить!
Это был ответ на мое душевное состояние. После таких слов делалось стыдно и шла домой с твердым намерением исправляться.
Под Покров пришла я ко всенощной на Маросейку. Мне стало грустно, вспомнилась прежняя наша жизнь. Вспомнилась смерть сына (он умер в Покров). Теперь уж батюшка молился за всех моих близких, захотелось очень, чтобы он и сына моего помянул. Теперь я могла об этом просить его.
Подхожу к кресту после молебна и прошу о. Сергия передать батюшке, что сына моего звали Иоанном. Он участливо и ласково посмотрел на меня и кивнул утвердительно головой. Первый раз обращалась с просьбой к нему, но он уже был мне свой тогда, и я не так боялась его.
Все больше и больше мне начинало хотеться иметь косынку [291]291
См. прим.
[Закрыть].
Прихожу как–то к батюшке. Он чем–то был очень занят.
– Батюшка, я знаю, что недостойна этого, но мне очень хочется: дайте мне косынку. – Молчание. – Батюшка, а батюшка, – тихонько дернула я его за рукав. – Я знаю, что этого нельзя просить, но может быть можно это сделать?
– Какая тебе косынка? Никакой не нужно. Выдумала косынку! Не косынка имеет значение – это все внешнее, нужно, чтобы внутри было.
– Ну, батюшка, благословите хоть в общину какую–нибудь поступить. О. Константин мой не позволяет.
– И общины тебе никакой не нужно. Твой Ваня тебе все. И должен быть всем: вот тебе и община, и косынка, – смеясь, сказал он. – Ничего больше не нужно тебе.
Мне стало грустно. Я поняла, что все мое делание в духовной жизни сосредоточено в Ване, и на Ваню и для Вани. И, действительно, это было труднее всякой общины, если бы исполнила все то, чему батюшка учил меня.
***
– А знаете, – как–то встречает меня батюшка, – у меня была сестра Т.[292]292
Татиана Васильевна Фомина (31.12.1900 – 7/20.7.1980) – дочь профессора–медика, депутата Верховного Совета. Училась в гимназии Е. В. Винклер, где учителем был о. Алексий Мечев (см. прим.). Тайно от родителей ходила на Маросейку. По благословению прп. Алексия Зосимовского поступила в Борисо–Глебский Аносин женский монастырь (1922). В мантию с именем Магдалина ее постриг епископ Серафим (Звездинский, †1937) на ст. Пионерская в доме схиигумении Фамари (Марджановой). Дважды сидела в тюрьме. Своей пламенной молитвой привела к вере своих родных: мать и младшую сестру Людмилу. Жила в г. Шахты. См. кн.: «Женская Оптина». Материалы к летописи Борисо–Глебского женского Аносина монастыря. Сост. С. и Т. Фомины. М. «Паломник». 1997.
[Закрыть], только тихонько. Сама–то она больше не показывается. Она уже теперь в монастыре [293]293
Борисо–Глебский Аносин женский монастырь в Звенигородском уезде Московской губернии – основан в 1820 г. княгиней Е. Н. Мещерской, во иночестве игуменией Евгенией (†3.2.1837) в память ее почившего супруга. Начавший существовать сначала в виде богадельни, преобразовавшийся потом в общину, 18.9.1823 г. это был уже монастырь. Обитель управлялась по уставу общежительных монастырей прп. Феодора Студита. Имела подворье в Москве на Цветном бульваре. В середине 1920–х гг. здесь постригал в монахини послушниц епископ Серафим (Звездинский). Сюда же часто приезжал о. Сергий Мечев и многие прихожане с Маросейки. Последняя служба была на Троицу 1928 г. Многие аносинские сестры умерли в ссылке, иные, нарушив данные обеты, вернулись в мир, другие жили в Москве небольшой общинкой с матушкой Антонией (казначеей монастыря). В 1992 г. обитель была возвращена Русской Православной Церкви.
[Закрыть]. Хорошая она, очень хорошая.
– Хорошая–то она хорошая. А зачем, батюшка, вы с о. Алексеем[294]294
См. прим.
[Закрыть] запрятали ее в монастырь. Я понимаю, тот мог это сделать, а вы–то зачем погубили ее? Ведь это вы сказали про нее, что она родилась в мантии[295]295
«Потихоньку от родителей Таня ходила в храм на Маросейку к о. Алексию Мечеву. Там она подружилась с девочками, которые собирались в монастырь. Это было в 1922 году. Они просили благословения у Батюшки, но о. Алексий послал их в Зосимову пустынь к старцу Алексию. Таня рассказывала: Когда мы приехали в пустынь, одна из нас пошла к о. Алексию с просьбой благословить ее в монастырь. Но батюшка не благословил. Не благословил и вторую, и третью. Тогда пошла я. Стала на коленочки и заплакала. – Деточка, что же ты плачешь? – Батюшка, не хочу замуж. – Как же я тебя благословлю замуж, если ты в мантии родилась? Воспоминания схим. Анны Тепляковой.
[Закрыть].
– Нет, она не погибнет. Будет жить хорошо, серьезной жизнью, – сказал он, – а то не я ей говорил, а другой. Ей иного пути нет.
Батюшка вынул просфору, долго смотрел на нее и, отдавая мне, сказал:
– Свезите это Т. и мое благословение: батюшка посылает это тебе, чтобы тебе было легче жить с матушкой[296]296
Игуменией монастыря в это время была мать Алипия (1875 – 18.3.1942). Девятилетней сиротой поступила она в монастырь св. равноап. Нины в Бодби (1884), где сошлась с м. Ювеналией (Марджановой), впоследствии схиигуменией Фамарью (см. прим.), вместе с которой позже перебралась в Москву и пребывала сначала в Покровской общине, а потом в Серафимо–Знаменском скиту. Вскоре после революции ее перевели игуменией в Борисо–Глебский Аносин женский монастырь, в котором она оставалась вплоть до его закрытия (1928). После этого последовали три года ссылки на Север. Вернувшись из ссылки, поселилась у благодетелей Аносина монастыря Лобовых в Москве на Большой Полянке, рядом с церковью Григория Кессарийского (зима 1931—1932 гг.), а с весны – на их даче в пяти километрах от Кубинки по Белорусской железной дороге. В 1930–е годы сообщалась со схиигуменией Фамарью, жившей на ст. Пионерская. Пострижена в схиму с именем Евгения. Скончалась и погребена рядом с домом, в котором жила (Воспоминания схим. Анны Тепляковой).
[Закрыть].
Слова батюшки, как всегда, оправдались. Т. скоро привыкла и полюбила монастырскую жизнь, живя хорошо. С матушкой отношения у нее скоро наладились и они друг друга очень полюбили.
Как–то говорила с батюшкой о трудности любви к людям. Все, казалось, знаю и понимаю, что старец мой родной говорил мне, а любить людей не могу. Как это любить их? Как этому научиться? – бывало пристаешь к нему.
– Александра, возьми мое сердце, – сказал он однажды. – Не понимаю, почему вы не берете его. Вот на, я даю тебе его, все – какое есть. Возьми его. – И он протянул ко мне руки, как будто давал действительно мне сердце свое.
– Батюшка, родной! – воскликнула я, – да как же я могу взять ваше сердце? Хоть часть его и то не могу.
– Не знаю, почему вы не берете, что дают вам. Мы вам все свое даем, а вы не хотите брать. Почему не берете у о. Константина его смирение, его тактичность, его благостность… А у меня – мое сердце, которое я сам даю вам.
Я сидела в смущении, не знала, что ответить.
– Это ведь так, к примеру, я сказал вам. Просто так, – добавил он, заметив мое смущение.
Еще поговорили о чем–то и он отпустил меня. На прощанье сказал, глубоко смотря мне в глаза:







