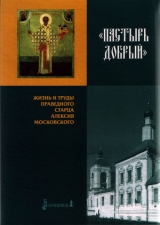
Текст книги "Пастырь Добрый"
Автор книги: Сергей Фомин
Жанры:
Религиоведение
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 42 (всего у книги 57 страниц)
Батюшка тотчас же понял, что когда он меня тогда похвалил так сильно, я только удивилась и не приняла это на свой счет, а теперь к этой мысли стала привыкать. Он серьезно посмотрел на меня и сказал:
– Это хорошо, что о. Константин доволен вами. Он хвалит редко и потому каждое его слово особенно ценно. Он зря не будет говорить. Цените его, ох, как цените малейшее его одобрение! Он знает, что говорит. Это не то, что я, старый болтун, говорю иногда так, зря. – И он снова остро взглянул на меня.
Если и зарождалось во мне самодовольство, то оно исчезло, и я сразу почувствовала, что батюшка действительно так, зря, хвалил меня. Я потупилась и сказала:
– Батюшка, больше не буду. Он улыбнулся.
Часто–часто так бывало: батюшка заметит в тебе какое–нибудь неправильное движение души, объяснит, выговорит, не называя, а ты сейчас же поймешь и на его мысли ответишь: не буду.
А раз он вот так выговаривал, и я неясно поняла, в чем дело, но все же ответила:
– Не буду. Батюшка вдруг спросил:
– Что не буду?
Я засмеялась, смутилась и сказала:
– Не знаю что, но знаю, что не буду.
Он засмеялся и долго потом улыбался, когда я говорила «не буду».
Помню, как делалось грустно, когда проводила к батюшке последнюю свою «душу». Думалось: в церкви к нему уже больше не подойдешь и дома незачем его будет тревожить, «душ» больше нет, а самой мне нельзя – у меня «свой» есть. И простишься с церковью и со всем. А, глядишь, и опять приходилось спрашивать его о том или о другом. И каждый раз он велел говорить и про себя и так постепенно приучал меня к откровениям ему, причем всегда требовал, чтобы говорила ему только главное, а все остальное о. Константину.
Главное было все, что касалось Вани, а также, что случалось особенного в жизни моей души.
С «душами» приходилось иногда ждать в кабинете, где был народ. И я там слыхала много интересного и хорошего. Немножко раскрывалась жизнь души каждого из них. К батюшке приходили со скорбями, а уходили с радостью. Приходили тяжелыми, а уходили легкими. И для этого не нужно было много говорить с ним. Он все знал. Он никогда не отпускал человека в скорби или со смятенной душой. Добьется, бывало, чтобы человек, успокоился, утешит, обласкает его и тогда только отпустит его.
А с пустяками не приходили к нему. К нему шли большею частью, когда исхода не было, в отчаяньи, при очень запутанных и трудных обстоятельствах. И какая сила нечеловеческая должна была быть в нем, чтобы в каждом правильно разобраться и поставить его на ноги. Великая его любовь христианская помогала ему в этом.
Он подходил к каждому человеку, каков бы он ни был и какое бы у него ни было маловажное дело, с чувством жалостливой любви. Он, как говорит народ, «жалел» каждого человека. Первое чувство, первая его мысль были всегда: как помочь, как облегчить человеку его бремя. Удивительно было его выражение, которое он многим часто говорил:
– Оставь здесь все у меня.
Действительно, он брал все на себя и к себе и отпускал людей радостными.
Эта его любовь, озаренная Духом Святым, делала то, что батюшка всегда правильно понимал душевное состояние людей и их жизненное положение.
Я не думаю, чтобы был хоть один человек, имевший дело с батюшкой, который мог бы сказать, что о. Алексей не понял его.
Если человек приходил с бурей в душе, он никогда тут же не укорял его, не вменял ему его поступка. В эту минуту он только уходил обласканный и с легким сердцем. И уж только потом, если он снова приходил к нему в спокойном состоянии духа, батюшка выставлял весь грех его так, что не почувствовать этого или забыть было нельзя. И после такого наставления всегда было горячее желание исправиться.
Удивительно, как батюшка не уставал духовно принадлежать народу, сколько бы его ни было. Человек в нем иногда сдавался, болезнь его одолевала, но дух горел в нем с такой же силой всегда.
Помню, пришла в такой день, когда было мало народу, но свои, а свои сидели подолгу у него.
Вхожу, батюшка лежит лицом к двери, подперши голову рукой. На груди рубашка расстегнута (так трудно было ему дышать), а рукав завернулся выше локтя, и когда он поднялся благословить меня, я увидала на его локте темно–красное пятно. И это несмотря на подушки. Сколько же времени о. Алексей, «человек Божий» принимал и утешал людей, находясь в одном положении.
Он заметил у меня на глазах слезы. Быстро поправил рукав и наглухо застегнул ворот рубашки. Помолчав немного, чтобы отдышаться, он весело сказал:
– Ну, рассказывай про себя.
Уткнувшись головой в постель, я молчала. Мне было жаль его до смерти и больно за него, но душа моя была полна восторга перед великой душой великого нашего старца о. Алексея, действительно полагавшего душу свою за люди своя.
– Александра, долго я буду тебя ждать? – услыхала я его ласковый голос. И в голосе его что–то дрогнуло. Я знала, что батюшка не любил, чтобы в нем замечали его праведность.
Быстро оправившись, я стала рассказывать ему что–то незначительное и веселое, чтобы он отдохнул. Он смеялся и велел еще рассказать. Исполнивши его желание, несмотря на его уговоры остаться, я ушла. Я была последняя, и он мог хоть немного отдохнуть.
Помню особый день, чуть ли не последний, когда батюшка велел всех к нему пускать. С раннего утра началось. Я пришла к вечеру и конца не было видно. Двери келлии старца о. Алексея не затворялись: один входил, другой выходил.
Когда я взошла, он полулежал. Рубашка его была расстегнута и грудь его высоко подымалась. Лицо было белее полотна, но глаза были большие, глубокие, темные и горели внутренним священным огнем. В нем был один дух. Казалось, великий старец не замечал свой болезни и изнеможения. Он пропустил не один десяток душ, но с каждой новой душой дух его все больше разгорался. Вместо того, чтобы душой уставать от тяжелых переживаний и от смрада грехов, которые мы ему приносили, и которые, по его же собственному выражению, он оставлял у себя, он все больше и больше разгорался духовно. Ведь в это время батюшка почти что не служил. Читать или молиться ему не было времени – его осаждали со всех сторон.
Жизнь мира была очень трудная. Люди приходили все измученные, потеряв почву под ногами. Церковь была почти всегда в опасности от различных скорбей и волнений. И все это бурлило вокруг него и волны этой бури подкатывались к «берлоге» (так он любил называть свою комнату), но разбивались о дух великого старца о. Алексея.
Ясно было, что он берет силы не извне, а из своего внутреннего сокровища, из своего сердца, наполненного Духом Святым, где Господь уже сотворил обитель Свою.
***
Иногда приходили спрашивать батюшку о разных духовных лицах, о разных событиях церковных, поскольку они касались о. Константина и Маросейской церкви. Он освещал всегда все правильно и, бывало, как скажет, так и случится. Духовенство же знал так, как будто жил с каждым из них. Редко скажет, что не знает кого–нибудь. Он не только знал очень многих, но знал, что каждый из них стоит.
Бывало придешь, а душа ноет от безпокойства, и он тебя тревожно встретит:
– Ну что? Что случилось?
А расскажешь ему, в чем дело, он так спокойно ответит:
– Ничего. Это все обойдется, – и объяснит тебе все, как должно произойти.
А когда что касалось непосредственно о. Константина, бывало, придешь рассказать батюшке свою тревогу, а он:
– Нет, нет, ничего. Я знаю, что с ним сейчас ничего такого не случится. Ну, расскажите про себя. – И сразу сделается покойно на душе и чувство, что батюшка зорко следит за всеми, кого любит, и не даст их в обиду злу.
И забывалось, что ведь он тоже человек, что у него свои немощи, свои заботы, свои скорби. Мы привыкли к тому, что он был все для каждого из нас. Мы твердо знали, что каждый из нас, приходящий к нему, получит облегчение, но мы не хотели видеть, что он сам несет наши страдания и берет на себя наши нужды и печали.
Как–то прихожане церкви, где служил мой отец духовный, были недовольны своим настоятелем и хотели предложить настоятельство моему «отцу». Я очень этого испугалась, так как время было опасное.
Прихожу спрашивать об этом батюшку.
– Пусть принимает. Непременно принимает, если ему будут предлагать это… и вообще там… – сказал он с убеждением и таким тоном, точно это было нужно для Церкви и миновать этого нельзя.
Действительно, уже после батюшкиной кончины о. Константину дали должность, от которой никакие старания не могли его освободить. Тогда я поняла слова батюшки, что он нужен для Церкви, и твердо поверила, что до последнего о. Алексей будет охранять его.
Было время, когда запрещали поминать Святейшего. О. Константин и о. Сергий упорствовали в этом [276]276
В Москве лишь единичные приходы сохранили верность Патриарху Тихону, поминая его на ектениях и Великом Входе. В числе их были «Маросейка» и Данилов монастырь.
[Закрыть], а это было очень опасно.
Я умоляла батюшку убедить моего «отца» и надеялась, что батюшку–то «отец» мой послушает. Как–то вечером прибегаю к батюшке на квартиру и спрашиваю: был ли мой «отец». «Имя», отвечают мне, улыбаясь.
– И долго же он с ними двумя говорил.
– Ну что же, уговорил?
– Не знаем. Да вы сами подите спросите.
У батюшки сидел кто–то чужой. Ясно говорить было нельзя. Поклонилась ему в ноги и спрашиваю:
– Уговорили, батюшка, «моего–то»?
Он озабоченно и с любовью посмотрел на меня.
– Кажется… да… Долго пришлось говорить. Очень упрямы, не понимают, можно и иначе. Это не значит изменять. Очень уговаривал долго.
Можно было понять, что он, уговаривая, прилагал к этому все старания, но что он за последствия не ручается, если его не послушали. У меня опять заскребло на душе.
– Батюшка, родной, скажите Богу, чтобы «мой» послушался!
Батюшка тотчас же почувствовал мою тревогу и уверенно сказал:
– Нет, нет, уговорил. Думаю, что перестанут. Уж очень они оба упрямы у меня. – Он покачал головой. – А мой–то, к тому же и очень горяч, – вздохнул он. – За этим только и пришла? – ласково спросил он.
– Да, нарочно забежала. Послали за покупками, а я к вам. Простите, батюшка.
Он улыбнулся и благословил.
– Ну, бегите скорей домой!
Вскоре прихожу к нему опять по делу об одной анкете, которую духовенство должно было заполнить [277]277
«С официальной точки зрения легальны были только группы из двадцати мирян, снимавшие у властей церковные помещения. В таких условиях легализация фактически сводилась к регистрации; Церковь, как иерархическая организация, не получила в Советском Союзе статуса юридического лица. Согласно правительственному постановлению от 12 июня 1922 г., функционирование религиозных объединений считалось легальным только при условии их регистрации в местных государственных органах. Это узаконивало преследования незарегистрированных религиозных групп и их руководителей, как духовенства, так и мирян, и позволяло произвольно определять условия, требуемые для регистрации. НКВД имел право высылать на три года без суда «лиц, присутствие которых в данном районе может считаться опасным с точки зрения защиты революционного общественного порядка», что позволяло избавляться от неугодного духовенства, в особенности от правящих епископов. Регистрации подлежали все лица, обслуживающие данный храм, приход или епархию; таким образом правительство могло контролировать назначение духовенства, отказывая в регистрации тому или иному епископу. Патриаршая Церковь не признавала такие условия регистрации, правительство же отказывалось легализовать Церковь на каких–либо других условиях» (Поспеловский Д. В. Русская Православная Церковь в XX веке. М. «Республика». 1995. С.114—115). Современник вспоминал: Очень тяжелое время переживаем. ВЦУ (обновленческое – С. Ф.) разослало по всем церквам анкетные листки, на которые должны отвечать члены приходских советов и священники. Между прочим, ответ священнику поставлен ребром: признает ли он ВЦУ. Засим вменяется в обязанность не принимать и не допускать к служению в церкви епископов, не признающих ВЦУ, и требуется отчисление крупной суммы на расходы по созыву Собора. Казалось бы, что и не нужно принимать этих бумаг и расписываться в их получении, но на это почти никто не дерзнул, и несчастное запуганное духовенство частью подписывается без обиняков, частью измышляет компромиссные, а иногда и нелепые ответы, и, главное – совершенно не сознает важности совершаемого им шага. Церковное сознание до того запуталось, что священники не разумеют последствий для себя от общения с отлученными иерархами и иереями. Епископы наши все перешли в «живую» церковь (так казалось автору письма – С. Ф.). У нас в приходе тяжелая борьба со священником, который ищет компромиссного решения. Вместе с тем в газетах уже напечатана программа собора, который созывает Антонин. Главной, основной задачей его является преобразование Церкви в согласии с настоящим государственным устройством и осуждение прежнего строя и его управления как явно контрреволюционных. Обещается сохранение прежнего обряда и догматов, но открывается возможность «свободного творчества». О том, что Антонин и Красницкий отлучены Вениамином, многие просто забыли, или хотят забыть, и не разъясняют прихожанам, которые в большинстве боятся одного – что к Пасхе их церковь закроют. Антонин совершенно изменил тактику: теперь он ничего не меняет в богослужебном обряде и с необыкновенной помпой совершает службу в Храме Спасителя. Н. Н. нечаянно попал туда и был в восхищении: «Объясните мне, пожалуйста, откуда вы взяли, что он еретик?» И не он один так рассуждает. К беззаконным действиям и революционным ухваткам так привыкли, что и на самочинную власть в Церкви так смотрят. Поминают Петра Великого и его расправу с Патриархом. К сожалению, исторические примеры могут действительно давать оружие, если спор становится на каноническую почву. А принципиальная сторона всегда, во всех вопросах, как общественных и государственных, а теперь и церковных, очень плохо усваивается и считается как бы второстепенной. Наш батюшка к этой стороне вопроса относится как к личной идеологии, которая для него необязательна, неавторитетна: «Я с вашей идеологией не согласен, нужно прежде всего сохранить храм». Тут вопрос попадает на тему о благодати: может ли такой священник совершать Таинство? Н. в прошлое воскресенье отправилась в церковь, исповедовалась и приобщилась у «подписавшегося священника», и вернулась такая радостная и довольная: неужели же она не причастилась? Это вопрос самый трудный и тяжелый: мы легко можем очутиться без церкви и без пастырей. Если помрешь, как хоронить без отпевания в церкви? – и т. п. Все это невыносимо тяжело, и – отрадно, когда встречаешь таких людей, как X. Он считает, что все к лучшему. Больше так жить было нельзя: «Нужно, чтобы вся гниль наружу вылезла; ведь вы сами видите, жить больше нечем». Да, но это сознание ужасно. Прежде, когда идешь ко всенощной и вся Москва гудит от благовеста – на душе радостно и тепло, а теперь от этого звона ком в горле становится. Были большие разговоры о снятии колоколов, мы ужаснулись от мысли остаться на Пасху без звона, а теперь это было бы нам к лицу. Поймите этот ужас: большая часть народа, сама того не зная, уйдет в раскол и порвет с преданием Отцов совершенно безсознательно, а другая – православная – останется без храмов, почти без священников и почти без Таинств… Прот. Кирилл Зайцев. Время Святителя Тихона. М. Издательство имени Святителя Игнатия Ставропольского. 1996. С.132—133. В том же 1922 г. нужно было решить и еще одну проблему: : Голод в Поволжье и в южной полосе России вызвал правительственный декрет об изъятии церковных ценностей. Церковные круги были встревожены. Возникал вопрос – допустимо ли это с церковной точки зрения. В батюшкиной (о. Алексия Мечева – С. Ф.) комнате происходило обсуждение этого вопроса в присутствии о. П. Флоренского и одного из духовных детей Батюшки. Батюшка лежал в постели, как это было теперь большей частью. Пересмотрены были исторические факты, аналогичные этому, примеры и слова Свв. Отцов Церкви, касавшиеся неприкосновенности церковного имущества, с одной стороны, и возможности пользоваться им в благотворительных целях, с другой. Во время этого совещания о. Сергий несколько раз открывал дверь, пытаясь войти, но каждый раз слышал строгий голос Батюшки: «Сережа, закрой дверь!..» Пришли к тому, что можно выдать все, но надо постараться выкупить церковные сосуды как предметы, имеющие непосредственное отношение к совершению таинства Евхаристии. По закону дозволено было выкупить то, что было желательно для данного храма. Вещи выкупались по весу на драгоценный металл. Во время проведения этой меры в жизнь бывали в некоторых храмах столкновения с исполнителями декрета, проявляющими иногда резкость и неуважение к чувствам верующего человека. В храм Николы–Кленники комиссия по изъятию ценностей прибыла весной 1922 года, во второй половине дня. Дорого стоил этот день батюшке о. Алексею. Помимо личных переживаний он, знавший горячность о. Сергия, присутствовавшего вместе с ним в храме, все время старался успокоить его, уберечь от каких бы то ни было проявлений возмущения и резких слов, которые при сложившихся обстоятельствах могли только обострить и усложнить и без того трудный момент. Когда все было закончено и грузовая машина с заколоченными ящиками выехала со двора, Батюшка направился домой. Во дворе его ожидали несколько сестер и пошли проводить до квартиры. Измученный физически и нравственно, он едва шел, по–прежнему был ласков и даже как будто покоен, по–прежнему благословлял и подбадривал провожавших, как будто ничего не случилось. Жизнеописание… С.139.
[Закрыть]. Интеллигенция, как всегда, «вопила», что нужно «им» пострадать, но не подписывать. Народ относился как будто пассивно, выжидая, что будет. Многие подписывались и это было вполне возможно и не против совести.
О. Константин велел узнать у батюшки как и в чем дело, а главное – дознаться, будет ли он сам подписывать ее. После меня он лично хотел побывать у него.
Я ждала в столовой, пока батюшка меня позовет. О. Сергий сидел тут же. Стали говорить об о. Константине, о тяжелом положении Церкви, о том, что нельзя поминать Святейшего.
– Я всю ночь тогда после разговора не спал, мучился. Ведь вы отреклись от него, – сказал, тяжело вздохнув, о. Сергий.
Я. как могла, старалась утешить его, боясь, что он снова примется за свое и тем подведет батюшку. Меня позвали.
– Идите. Он зовет вас, – сказал о. Сергий и, схватившись за голову, крепко задумался.
Грустный сидел о. Алексей в постели. Церковь страдала очень.
Так как он всегда почти все знал, то часто я ему не говорила, в чем дело, а сразу спрашивала его совета, как бы продолжая свою мысль.
– Нужно, батюшка, знать, будете ли вы это делать? Я не знаю, что он думает делать, но знаю одно, что он должен подписать, – сказала я с нетерпением. – Сил нет с такими. Нужно было с самого начала всей Церкви отстаивать все. А теперь? Раз «верхи» пошли на уступки, на священниках выезжать что ли будут? Пускай на архиереях выезжают, а их оставят в покое. Они народу нужны, без них мы пропадаем. А тут еще эта интеллигенция дурацкая вопит о мученичестве. Сами бы в свое время шли вперед! Нет, небось!
– Погоди, буря, – прервал батюшка мой поток, улыбаясь, – про него самого–то расскажите.
Я передала ему, что о. Константин велел, и рассказала, как мне казалось о. Константин и жена его смотрели на это.
Конечно, подписываться А. П. (жена его) сама просить его не будет, но, сохрани Бог, что случится, она не вынесет. И дети еще не встали на ноги.
– Да все равно, они не имеют права собою жертвовать, так как принадлежат народу, – снова загорячилась я. – Ну и что же? Как нужно, батюшка? – спросила я с тревогой и тоской, зная очень хорошо, что передо мной сидит тот, кому Духом Святым открыто правильное решение всех вопросов и чье решение являлось непреложным.
И если бы в свое время «верхи» послушались смиренного священника о. Алексея, многие не пострадали бы так и многое в церковной жизни пошло бы иначе. В великом старце о. Алексее несомненно говорил Дух Божий, и все его действия были руководимы Им.
О. Алексей задумался, потом начал говорить, что «они» (власти) хотели получить от этой анкеты. Как всегда, не раздражаясь, никого не обвиняя, он старался смягчить все трудности вопросов, указывая, как нужно их понимать и как можно обойти их. Рассказывал, как один священник со слезами исповедывался ему, что он пошел на то из–за семьи, из–за жены.
А один прямо сказал ему:
– Я не могу губить семью своими руками. Неужели Господь не простит?
И батюшка со слезами повторял их слова и рассказывал, как он ободрял и утешал их.
– Так и здесь, – продолжал он. – Вы говорите, и совершенно правильно, что А. П., жена о. Константина, сначала погорячится, а потом не вытерпит последствий. Да ей и нельзя вытерпеть.
И батюшка стал говорить, какая она любящая и заботливая мать и жена и какое у нее слабое здоровье.
– Ну что же с ней да и со всеми ими будет без него?
Я поняла, что дело шло не столько о материальной помощи, сколько о нравственном значении для семьи о. Константина. – «Да… да… так».
И батюшкино лицо сделалось скорбным и глаза наполнились слезами. Он, казалось, сам переживал состояние о. Константина и его жены.
– Пусть подпишет, – повелительно сказал он, – и пусть сам ко мне придет. Мы с ним еще потолкуем.
Я облегченно вдохнула.
– А вы как, батюшка?
Он отвернулся, покраснел, и, не глядя на меня, начал говорить об общем трудном положении Церкви, иногда безвыходном, когда приходится уступать, чтобы спасти хоть нечто и некоторых, когда люди добровольно идут на мученичество.
Потом вдруг круто оборвал, поднял голову, лицо его преобразилось, глаза стали темными и глубокими, и он, как бы весь вспыхнув от внутреннего огня, голосом полным любви и страдания сказал:
– Я не могу требовать от них мученичества… Он (Бог) мне этого не велел. А я… я сам… Мое дело другое… особое… Я одинокий, сижу в «берлоге» (так он называл свою комнату). Я решаю только за себя, за мной никого нет. Я подписывать не буду, – глухо сказал он.
И надо было видеть, с каким выражением он это говорил. Тут было упорство, внутренняя борьба со злом, одолевавшим Церковь. Казалось, о. Алексей своим поступком хотел покрыть всех, кого он любил, жалел того, кто должен был подчиниться. Покрыть их перед Богом, если бы это оказалось нужным.
В о. Алексее все снова потухло, и он, строго глядя на меня, сказал:
– Смотри. Ему этого не говори, и вообще никому не говори. Поняла? Скажи ему про меня так как–нибудь, а про это не надо. Смотри. Ну, да вы сумеете сказать; придумаете там что–нибудь. Про меня им (священникам) нельзя говорить. На меня все смотрят… чтобы поступить, как я. Идите. Уйдешь или нет? – повторил он добродушно–сердито, видя, что я не двигаюсь.
Я, молча, с благоговением упала ему в ноги и вышла.
В этот раз мне стала ясна вся великая батюшкина забота о ближнем, о своем брате священнике, его понимание тяжелого положения, в котором тогда очутилось духовенство, его христианская всеобъемлющая душа, полная такой удивительной силы любви.
Как–то раз вошел о. Сергий к батюшке. Скоро разговор стал общим. Я стала спорить с о. Сергием об интеллигенции, что она ничего не понимает, что настоящего духа в ней нет. Говорила, что люблю батюшкины службы, так как тогда бывает больше народа, а у о. Сергия все «эти» стоят. Он не сердился, только старался раздразнить меня. Батюшка слушал, улыбался, смотрел то на одного, то на другого.
Стали говорить о Церкви, о Святейшем… Я тогда еще лично не знала Святейшего и относилась к нему, как и вообще ко всем архиереям, с предубеждением. О. Сергий защищал его и доказывал правильность всех его действий. Меня это задело за живое, и я, забыв, что нас слушает батюшка, выпалила:
– Какой он есть Патриарх? В нем настоящего духа нет.
О. Сергий с удивлением посмотрел на батюшку, что он меня, такую, терпит, и сказал, в отчаяньи махнув рукой:
– В Святейшем–то настоящего духа нет?! Ну что с вами говорить после этого! – и вышел из комнаты.
Я опомнилась и посмотрела со страхом на батюшку… О. Константин относился очень строго к осуждению архиереев, а здесь дело шло о самом Патриархе. Сейчас, думаю, будет мне трепка здоровая! Но батюшка смотрел на меня тихо и грустно.
Я поклонилась ему в ноги.
– Батюшка, дорогой, родной, простите. Я так это, сдуру.
Он благословил и сказал:
– В нем–то духа нет… говорите?.. Посмотрим.
Взгляд его был глубокий и какой–то особенный. Он чувствовал, что скоро уйдет от нас и оставит нас сиротами, и провидел, при каких грустных обстоятельствах я увижу и пойму Святейшего.
Действительно, я увидала всю силу духа его молитвы, когда хоронили батюшку. Он встретил его гроб, и я каким–то образом очутилась рядом с ним.
Казалось, обе великие души беседуют между собой. Тут же вспомнила я батюшкины слова и поняла, что это мой старец показывает мне душу Патриарха всей России.
И когда Святейший уезжал с кладбища, я ему со всеми другими бросала зелень в пролетку и кричала:
– Спасибо тебе, что ты проводил нашего батюшку.
С тех пор, а также стараниями о. Константина, я горячо и преданно полюбила нашего Патриарха–мученика.
Раза два меня просили узнать у батюшки, что будет со Святейшим, находившимся тогда в заточении. И каждый раз батюшка весело и покойно отвечал, что ничего плохого с Святейшим не будет и его освободят. А слухи ходили упорные, что его чуть ли не расстреляют [278]278
См. прим. и прим.
[Закрыть].
Раз говорили с батюшкой о духовенстве и я стала горячо объяснять ему, что о. Константин требует неосуждения архиереев, как церковного начальства, а что я от этого не могу отучиться, потому что «они» не настоящие и никто из них того, что нужно, не понимает.
Батюшка слушал терпеливо и, наконец, сказал:
– Ну, согласись, Ярмолович, что это ведь стыдно, нехорошо. Какая–то большевичка – никого и ничего не признает. И это духовная дочь о. Константина! Я буду скоро краснеть за вас. Ну, подумайте, что вы только говорите! Разве все архиереи такие? Есть, конечно, и такие, но есть и другие. Ведь есть?
Я с недоверием протянула:
– Е–е–сть.
– Есть, – повторил он. – И я знаю таких. Вот ко мне ходят исповедываться (он назвал двух–трех архиереев [279]279
Из архиереев, приходивших на исповедь к о. Алексию, можно назвать епископа Германа (Ряшенцева). См. прим.
[Закрыть]).
Батюшка искоса поглядел на меня, но увидал, что это на меня никакого впечатления не произвело, – я продолжала стоять на своем.
Митрополит Филарет
– Ну, и был и есть такой, которому равного никогда не было и не будет: митрополит Филарет Московский [280]280
См. прим.
[Закрыть]. Про этого–то, надеюсь, ничего не скажешь?
Батюшкино лицо сделалось особенным, таким, с каким он говорил о святых вещах: глаза сразу потемнели и он в упор сурово посмотрел на меня. Я испугалась и тихо сказала:
– Ничего.
Я не знала батюшкиных отношений к покойному Святителю, которого очень уважала и глубоко чтила моя прабабушка–монахиня. Но я поняла, что, если я что–нибудь скажу про него, батюшка задаст мне жару.
– Да, задумчиво повторил он, – он был удивительный. Никто никогда с ним сравниться не сможет.
Мне очень захотелось расспросить о нем батюшку, но я не посмела. Я знала, что если бы было нужно, он сам бы мне что–нибудь рассказал о нем. Поклонилась в ноги. Он молча благословил. Батюшка смотрел куда–то вдаль и, казалось, весь был погружен в воспоминания о великом Святителе.
Как–то говорила с батюшкой про церкви и их священников, что они дают народу и чем кто из них отличается. Про наш приход он сказал:
– Хороший был там старичок священник. Я знал его. Очень хороший был. А теперь после о. Константина кто там?
Я сказала и добавила, что при нем церковь совсем опустела; что как человек, он, может быть, и ничего, но как священник он неподходящий. Я жаловалась, что у него все мертво в церкви.
– Да, да, – сказал батюшка, – он не годится. Знаете ведь где он был? Там ведь прихода не было. И какая там служба. Откуда ему что взять.
Почему–то батюшка как–то сурово не одобрял его.
– А как вы, батюшка, считаете о. Сергия? – спросила его. – Он очень поднял свою церковь. Община его очень деятельная. Но так как он западник, то у него настроение какое–то другое, не как у наших.
– Практик он хороший и организатор, – но и только, – ответил батюшка. – Руководителем он быть не может. Как пастырь он никуда не годен.
– Батюшка, а как ваше мнение об о. Г. Много народу к нему ходит. Он говорит очень хорошо. Правда, что там все интеллигенция больше.
– О, это ужасный человек! – воскликнул батюшка. – Раз он был у меня. Поговорили. Ушел. За ним входит особа, вся взволнованная, слово сказать не может. – Что с вами? – говорю, успокойтесь. Кто вас так растревожил? – Да как же, – говорит, – батюшка, вхожу я к вам и вижу сидит о. Г. Мне всю душу передернуло. Я его видеть не могу. – И рассказала мне, как она его знала священником на юге еще, как испо–ведывалась сестра ее, и как он выдал тайну исповеди той, и тем навеки поссорил две родственные и дружественные семьи. – Он мне всю душу искалечил, как могу я его видеть? – Вот каков он человек! (батюшка не назвал его даже священником). – Это ужасная вещь – выдать тайну исповеди! Знаете, что за это нам бывает (от Бога)! Очень это страшно. Да еще столько душ погубил, – батюшка как бы в ужасе отшатнулся. Его лицо стало грозным, точно он видел суд Божий над таким грешником.
В это время гремели проповеди Г. и X., особенно первого. О. Константин сам бывал и меня на них пускал. Ему они не особенно нравились, а я была от них в восторге. Но одна проповедь сделала на всех нас очень странное впечатление. Г. говорил о покаянии, о Страшном суде, о каких–то своих видениях. Он говорил о каком–то огненном дожде, о голосе с неба… Говорил красиво, страшно, с горящими глазами, воздевая руки. Нам всем это не понравилось. Если верить ему, то надо все бросить и готовиться к смерти. Если не верить ему, значить считать его за исступленного и бросить ходить слушать его. Настроение у всех было смутное и тяжелое.
К сожалению, я не записала батюшкиных слов. Он говорил о том, каков должен быть хороший пастырь и как к этому нужно готовиться.
Он говорил, что приход должен быть сплоченной семьей: священник – отец, прихожане – чада его. Они должны жить одной общей жизнью. Без его совета прихожане ничего не должны предпринимать даже в своей личной жизни. Они должны во всем его слушаться. Он ведет их души к Богу и направляет их жизнь, а они должны заботиться о материальном благосостоянии его и его семьи, должны исполнять его нужды. Между ними должно царить общее доверие, обоюдное согласие. Между собой прихожане должны жить, как члены одной семьи. Должны помогать, поддерживать друг друга. Сохранять между собой мир и любовь. В каждом приходе должна быть своя школа, свой приют, своя помощь бедным и больным. Такие приходы и должны являть собой возрожденную христианскую общину нашего времени.
Батюшка рассказал мне, как он хотел объединить священников, чтобы они сблизились между собою для того, чтобы научить их настоящей пастырской деятельности.
– А я читал им дневник о. Алексея, – сказал он с ударением на последнем слове. – Он им очень понравился и оказал на них сильное впечатление. В чем раньше они не соглашались со мною, теперь признавали себя неправыми, видя подтверждение моих слов из примеров дневника.
К сожалению, батюшке не пришлось довести это дело до конца. Эти собрания длились недолго. Скоро они распались. На этих собраниях у батюшки бывали все известные священники и в конце приходил о. Г., проповеди которого так прославились. Вначале он считал всю эту батюшкину затею ненужной, но, побеседовавши с ним, вполне признал его авторитет.
При фамилии Г. я встрепенулась.
– А вы его знаете? – спросил батюшка.
– Да, батюшка, хожу на его беседы. Уж очень хороши! – с увлечением сказала я.
– А о. Константин?
– Пускает и сам бывает, но они ему не нравятся.
– На последней беседе были? Расскажите про нее и какое впечатление она произвела на народ?
– Да, верно, – сказал он, когда я кончила. – Мне один священник с женой говорил, что пришли в недоумение, как понять и как принять ее. Многих он ею смутил.
– Батюшка, он говорит, что Дух Божий говорит в нем.
– Дух Божий не там находится (в голове), а здесь, – и батюшка приложил руку к сердцу и так бережно сказал это «здесь», точно он боялся потревожить кого–то. – Знаете, чем он приобретается–то… Его нелегко получить.
По словам батюшки, Г. очень высоко взбирался вместе со всеми слушателями, но опоры им не давал, так что они легко могли упасть. Он говорил о красоте духовной жизни, но не учил, как ею жить.
– Он может вас поставить очень высоко, но, ничем не поддерживаемая, вы упадете и расшибетесь, – сказал батюшка.
Он говорил, что Г. очень опасный руководитель, непостоянный, что у него все одни слова. Содержания в нем нет никакого.
Я слушала с удивлением, так как Г. считали за выдающегося священника, очень высокой духовной жизни.
– Вы–то, вы–то больше не ходите к нему. Поняли? – горячо сказал батюшка.
А я только собиралась поближе познакомиться с Г. для разъяснения разных вопросов по поводу его бесед.
– И на беседы не ходить, батюшка? – робко спросила я.
– Да, и на беседы.
– Я больше не буду, батюшка (увлекаться ими).
– Не нужно, не нужно, – с упорством проговорил он, точно его кто–то не хотел послушаться. – Он опасный человек.
И как это все оправдалось, когда храм и сам Г. перешел к «живым». И сколько душ долго страдали от его измены. А одного я знаю, который совсем отошел от Церкви, и душа его до сих пор все чего–то ищет и ни в чем не находит себе покоя.
Не раз удивлялась я, как это батюшка мог знать тогда человека, который ни в ком не вызывал сомнения и был всеми очень уважаем.
Прихожу раз к батюшке спрашивать, можно ли посылать людей в церковь Т. Там был один очень странный священник о. И. Многие считали его не совсем даже православным.
– Пусть ходят в церковь, – ответил батюшка. – Там ничего такого нет и пение народное хорошее. Но к нему ходить не нужно, не потому, чтобы он был плохим, но потому, что ничего не понимает сам. Да и откуда ему понимать? Соответствующего воспитания не получил, образования тоже нет. Так, кое–чего начитался. Он был у меня. Чудак этакий!
Он послал к Патриарху одного человека, чтобы его посвятили в священники. Оттуда мне часто присылали их для проверки. И его прислали.
Он был железнодорожный мастер, человек обыкновенных свойств. В священники не годился совсем. Материальное его положение было очень тяжелое. Отзыв мой о нем там приняли как всегда. Мне все же в этом доверяли. Ему отказали. Приходит о. И. Требует видеть меня. Принимаю его. В страшном раздражении ругает меня и говорит, что я не имел права вмешиваться в это дело, что это безобразие с моей стороны. Я дал ему кончить, а потом покойно и ласково объяснил ему, в чем дело. Я ему сказал, что вполне понимаю, почему он так сердит на меня – ему жаль товарища, очень хочется помочь ему. И вот мне наконец удалось убедить его, что прав я, а что товарищу его можно и иначе как–нибудь помочь. И, наконец, договорились до того, что он со слезами просил у меня прощения. Чудак этакий! – сказал батюшка, улыбаясь.
Удивительно правильно батюшка оценил его. Многие, понимающие в церковном деле, ставили его очень высоко, а другие считали его чуть ли не еретиком. Батюшка же двумя словами сказал про него то, что и было на самом деле: – «Чудак этакий!».
Как–то говорили с батюшкой об одном епископе. Он так любовно и ласково отозвался о нем.
– Молитва его такая святая, – говорил батюшка, – он большой молитвенник. Ух какой! Душа его чиста, как стеклышко самое чистое… Молитва, молитва его большая… Он и руководит и иногда идут к нему, но главное, он…
Пристально все время смотрел на меня батюшка. Его глаза были темные и глубокие. И я поняла, что епископ стоит очень высоко духовно и что его дело молитва – одна молитва, а, может быть, даже и затвор.
Как–то прихожу к батюшке после смерти о. Лазаря (удивительный был тоже батюшкин священник).
– Вот, – начал он с жалобой, – никак не могу найти священника для Маросейки. Такого больше не найдешь, – с грустью добавил он.
– Ну, батюшка, если уж вы–то не выберете священника для Маросейки, то кто же будет выбирать? Кто другой может это сделать? – горячо сказала я.
– Думаете, я буду выбирать? – смеясь, сказал батюшка. Я вспыхнула:
– Кто же посмеет другой? На кого скажете, тот и будет. Батюшка весело посмотрел на меня.
– Мы с Александрой будем выбирать. Выберем мы с тобой хорошего–хорошего. Хочешь?
Я засмеялась и крепко поцеловала его руку.
Помню, как в первый раз при мне вошел о. Сергий. Я встала, подошла под благословение и, низко ему поклонившись, хотела выйти, но батюшка взглядом остановил меня. Пока они говорили, я продолжала стоять: сесть при сыне о. Алексея я не смела.
Когда о. Сергий вышел, батюшка повернулся ко мне и сказал с ударением на слове «моя».
– Ну, садись теперь, моя Александра.
Он был очень доволен моим поведением по отношению к отцу Сергию. Другой раз как–то вошел о. Сергий и сказал отцу, взглянув на меня:
– Мне нужно поговорить с тобой, батюшка.
Я хотела уйти, но, как в первый раз, батюшка велел мне остаться. И так всегда впоследствии было: я присутствовала при их разговорах и видела, сколько любви и материнской нежности было у отца к сыну.
Как–то пришел о. Сергий просить батюшку помолиться о себе. Он шел на какое–то дело, которое казалось ему опасным, а может быть просто трудным. С безпокойством приставал он к отцу. Но батюшка был покоен и отмалчивался. Наконец он так ласково и спокойно благословил его и сказал:
– Иди, иди, ничего.
Видно, он знал, что все будет хорошо. Но когда о. Сергий затворил за собой дверь, батюшка еще долго продолжал смотреть вслед ему сосредоточенно и задумчиво и, наконец, как бы проводив его своей молитвой, глубоко вздохнул. Потом повернулся ко мне и стал продолжать прерванную беседу.







