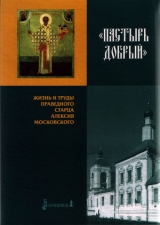
Текст книги "Пастырь Добрый"
Автор книги: Сергей Фомин
Жанры:
Религиоведение
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 46 (всего у книги 57 страниц)
— До смерти.
— Можешь иметь свою волю, свои желания?
— Нет.
— Кем он является для тебя?
— Ангелом, посланным с неба.
— Он может делать с тобой, что хочет?
— Может.
— Он пошлет тебя на смерть?
— Может.
— На крестную смерть?
— Может.
О. Алексей весь наклонился ко мне и, не сводя с меня глаз, медленно проговорил:
— И ты пойдешь? – Мгновенно в душе моей что–то дрогнуло и я в порыве любви и восторга горячо сказала:
— Пойду, батюшка, пойду.
Молнией вспыхнуло что–то в о. Алексее и потухло. Я задумалась и всем существом своим, глядя в упор на него, медленно произнесла:
— Пойду!
О. Алексей отвернулся и сказал:
— Помни, что это все ты говорила не кому другому, а о. Алексею.
— Да, батюшка, знаю.
Он посмотрел на меня внимательно, как бы изучая, насколько вошло в меня его учение, и сказал:
— А в чем вы просили прощения у о. Константина?
Я удивилась, но покорно ответила:
— В том, что сделала постом.
— А что вы сделали постом?
Я все так же покорно сказала:
— Хотела бросить духовную жизнь и уйти от него.
Воля моя была сломлена: о. Алексей мог заставить меня делать и говорить все, что только ему ни вздумалось бы.
— Идите, и просите прощения у о. Константина, если только он простит вас.
Я поняла, что нужно было вновь каяться в своем проступке полностью. Молча повалилась батюшке в ноги и поцеловала его руку. Он не пошевельнулся.
Опять пошла к о. Константину. Все ему рассказала и вновь каялась в своем проступке.
— Однако о. Алексей! Ну, уж и батюшка! – улыбаясь и качая головой, проговорил он. – Бог простит, а я вас давно простил.
И сколько раз я ни ходила к батюшке, а это было чуть ли не ежедневно, он всегда после того как благословит или поговорит о деле, или вообще о том, что нужно, спрашивал: простил ли о. Константин, какой он хороший, какая я плохая, что я сделала; впредь как я должна была вести себя. И от него шла всегда просить прощения у о. Константина.
Разговор с батюшкой был для меня пыткой. Он не сердился, подчас был ласков, но прощенья я от него не имела, а просить не смела. Благословения не просила, а он иной раз благословит, а иной нет. О. Константин смеялся, когда я приходила к нему, и говорил:
— Ну, что это он делает, о. Алексей? Чудак этакий!
Мне было не до смеху, но все же немного успокоилась. Жизнь духовная стала налаживаться. Как–то батюшка сказал:
— Если о. Константин перестанет за вас молиться, вы можете сейчас же умереть и душа ваша погибнет. Поняла?
— Поняла, батюшка.
Так он всю весну мучил меня: наедине, при народе, в церкви.
Летом умирал один мой родственник. Семейная обстановка была крайне тяжелая. Жена его знала батюшку. Меня она послала за о. Сергием[286]286
О. Сергием Дурылиным.
[Закрыть] к Боголюбской. С трудом добралась до него. Это был праздник Боголюбской. Положение было опасное и тяжелое: «живые» отбирали часовню. О. Сергий послал меня к батюшке. Рысью понеслась я на Маросейку. С трудом добилась, чтобы меня провели на амвон. Я стала, где батюшка исповедывал. Он входил и выходил из алтаря, как будто не замечая меня. Я сгорала от нетерпения. Мне нужен был священник хоть какой–нибудь, а батюшка медлил. Пот ручьем катился с меня и я рукавом русской рубашки все вытирала себе лицо. Наконец остыла физически и нравственно. Батюшка вдруг повернулся ко мне и весело воскликнул:
– А… кто пришел–то! Ярмолович! Очень рад, очень рад.
Он подошел и взял меня за обе руки.
– Я к вам, батюшка, по делу.
– По какому? – удивленно спросил он, хотя ему было доложено.
– Вот умирает, и теперь уже наверно умер один мой родственник, а жена его, ваша духовная дочь, хотела, чтобы о. Сергий приехал бы к ней. А он за благословением к вам прислал. Очень там у них в семье тяжело.
– О. Сергия никак безпокоить нельзя. Сами знаете, что там делается. А священника надо вам дать; не знаю какого. А она не моя духовная дочь, пустяки.
– Батюшка, его причащал о. Лазарь. Может его?
– Да, да, очень хорошо. Сейчас пойду, распоряжусь. Я хотела уйти к выходу, он остановил:
– Стойте здесь.
На аналое лежал Крест и Евангелие. С одной стороны стояли сестры, с другой народ – исповедники. Стояли прямо на амвоне, почти что тут же. Батюшка долго не шел. Наконец появился. На нем была епитрахиль и поручи. Он стал спиной к алтарю у аналоя, я очутилась на его месте. Бросилась было уйти, но он и сестра загородили мне дорогу. Меня бросило в жар, как в бане. Батюшка как ни в чем не бывало спросил, откуда я пришла, что делается в Боголюбской? Потом вдруг придвинулся ко мне и сказал:
– Ну, а что скажет про себя Александра?
Я потупилась.
– Ничего, батюшка, не знаю.
– А как дело с о. Константином?
– Я, батюшка, причащалась. На исповеди каялась опять и просила прощения, и он простил меня.
– А в чем каялась?
В душе у меня было раскаяние и бурное отчаянье за соделанное мною. Твердое решение никогда подобного не повторять. Любовь и преданность к обоим отцам моим и желание идти Христовым путем гораздо сильнее и сознательнее, чем до моего падения. Я стала, запинаясь, каяться.
Что говорила тихо, батюшка повторял громко, что говорила неясно, батюшка переспрашивал. Он все время делал вид, что плохо слышит. Он заставил меня рассказать весь мой проступок, что он мне говорил, кто должен быть для меня о. Константин и какой ужасный грех сделан мною. Часто я упиралась, не желая говорить дальше, но он немилосердно заставлял:
– Говори, ну что же, будешь?
И в его голосе звучало что–то, что не позволяло ослушаться. Мне казалось, что моя исповедь слышна в самых дальних уголках церкви, на улице. Душа с телом расставалась, а он все выспрашивал, ничего не упуская.
Наконец, отчаянье за мой грех, преданность и любовь к батюшке достигли такой степени, что я сдерживаться больше не могла. Слезы хлынули у меня, и я в горячем порыве пала перед аналоем и о. Алексеем ниц, и всем существом своим с жаром сказала:
– Батюшка, родной, простите, ради Христа простите. Больше никогда, никогда не буду! Перед Крестом и Евангелием обещаюсь никогда не бросать духовной жизни, что бы со мной ни было, и слушаться до смерти и смерти крестной о. Константина.
Я встала рукой дотронулась до Креста и Евангелия и снова грохнулась в ноги о. Алексею.
– Ух, какой огонь! Посмотрите, что это за огонь! – услыхала я над собой его голос. Потом почувствовала, что он всю меня накрыл епитрахилью и, положив на меня руку, долго молился.
Когда я встала с готовностью сейчас идти на крест, я взглянула на о. Алексея: он радостно и с удивлением смотрел на меня, и как бы чего–то снова за меня опасаясь, сказал:
– Ужасный огонь, Ярмолович!..
Он не докончил и склонил голову на грудь. Потом вдруг выпрямился, темными–темными своими глазами приковал меня к месту и медленно произнес:
– Помни. Ты обещала это о. Алексею. Знаешь, что ты сделала? Ты дала обещание перед Крестом и Евангелием – перед Самим Господом. То, что ты обещала, так трудно, что самой тебе невозможно это исполнить. Я всегда, где бы я ни был, буду помогать тебе. Я умолил Его простить тебя. Если бы я не просил Его, Он бы не простил тебя.
– Батюшка, родной, как мне благодарить вас! – повалилась я снова ему в ноги.
– Ну, теперь иди. Дожидайся о. Лазаря. Придешь домой, проси прощения у о. Константина. – В этот раз батюшка не сказал: если простит. Я бурей хотела уйти, но, вспомнив, что прохожу мимо царских врат, остановилась и низко поклонилась. Обернувшись, увидела батюшку; он с любовью смотрел на меня и тихо проговорил:
– Огонь, какой огонь!
Огонь–то этот, старец родимый, ты зажег во мне, грешной, своей благодатью, и потушить его не сможет никакая сила!
Итак, со Страстной пятницы прошло много времени, в течение которого старец о. Алексей работал над моей душой, и привел меня к тому, что я сознательно и добровольно дала один из самых больших обетов – обет послушания.
Я стала перед образом св. Николая, дожидаясь о. Лазаря. Все во мне трепетало от какого–то нового ощущения. Я не сводила глаз с батюшки, который иногда выходил благословлять народ. Как хорошо благословлял он народ! Так внимательно смотрел на каждого и, казалось, что старец о. Алексей хотел благословением своим как бы дать каждому, что ему было нужно в это время. Подошла какая–то иностранка. Он спросил о ее имени. Она долго не понимала, что это от нее требуют, сестры помогли. О. Алексей повернулся к алтарю и долго молился. Потом благословил ее так серьезно, глядя ей прямо в глаза.
Наконец о. Лазарь освободился, и мы пошли. Дорогой он рассказал мне, как попал к батюшке. Какая у него была бурная жизнь, как он здесь надеется с помощью о. Алексея очистить свою душу и приготовиться в тот дальний путь. Сердце у него было плохое и он мог скоропостижно умереть. Чудный был священник и как же он любил и понимал батюшку!
На другой день вдова умершего снова посылает меня к батюшке просить его прислать ей о. Сергия самого. Я в смущении передаю поручение и прибавляю от себя, что нечего им вообще кого бы то ни было присылать, так как у них страшная неразбериха. Батюшка уже из алтаря вышел и начал обвинять вдову и ее поведение: она плохо приняла о. Лазаря и панихиду не дали ему служить. Батюшка обиделся за своего любимца. Я в душе ругала себя, что ввязалась в это дело.
– Я ведь послал его к ним, – с горячностью сказал батюшка, – только ради вас.
Я страшно смутилась от этих слов.
– Батюшка, дорогой, никогда не делайте чего–нибудь ради меня. Я ведь не могу отвечать за поведение других.
– Да вы в этом не виноваты. Ради вас вчера можно это было сделать, – опять повторил он и, благословив, ушел в алтарь служить.
Раз прихожу к батюшке и жалуюсь ему, что очень трудно жить хорошо, что у меня ничего не выходит: мужа мало люблю и мало ему во всем угождаю. Молюсь горячо, но никто не помогает. Бывало св. Николай помогал, а теперь и он забыл меня. Батюшка утешил, снова объяснил, как жить, и сказал:
– Когда молитесь, поминайте ваших родителей. Это очень важно, чтобы мы всегда поминали тех, кто о нас заботился, кто нас так любил. А потом молитесь всегда, кроме Св. Николая, еще Иоанну Воину[287]287
Мч. Иоанн Воин – при Иулиане Отступнике был послан преследовать христиан, но, будучи сам христианином, чем мог, помогал им. Был ввергнут в темницу, по смерти императора получив свободу. Память 30 июля. В Москве существует храм Мч. Иоанна Воина на Большой Якиманке.
[Закрыть] и мученику Трифону[288]288
См. прим.
[Закрыть].
Я тогда уже признавала препп. Сергия и Серафима. Но эти святые были чужие для меня. Я попробовала. Ничего у меня не вышло. Пошла с этим к батюшке.
– Я вот, батюшка, молюсь вашим святым, а толку нет. Они мне чужие. Я их духа не понимаю. Вот препп. Сергий и Серафим – дело другое, я их дух знаю.
Долго бился батюшка со мной, пытаясь объяснить мне, чем являлись его святые. Мне все же дух их остался неясен. Об этом я сказала батюшке, прося позволения не молиться им. Наконец, видя, что в меня ничего не втолкуешь, он сказал:
– Если ничего не понимаете, что вам говорят, то молитесь им потому, что я велел вам. Но молиться нужно. Непременно каждый день.
– Батюшка, родной, позвольте им молиться вот так: вот я вас не знаю, но вы – батюшкины святые и потому его молитвами помогите мне и простите меня. Так можно?
– Можно и так, если уж иначе не можешь, – засмеялся батюшка. – Сначала так, а потом привыкнешь и сама будешь.
Так и случилось, как он сказал. И уже после его кончины я Трифона–мученика почувствовала как живого в церкви его имени.
Как–то прихожу в церковь, одетая в поддевку и повязанная по–деревенски платком, как часто ходила дома. Батюшка, всмотревшись внимательно, сначала не узнал меня, а когда узнал, перестал обращать внимание. Он молча развел руками в недоумении и молча благословил. Мне стало смешно. Вскоре пришлось опять идти в церковь. Я надела все приличное, хотя в шубе было очень жарко. Увидев меня, батюшка улыбнулся и, когда я подошла, довольный сказал:
– Вот это Ярмолович!
Я еле удержалась, чтобы не рассмеяться, до того это у него вышло смешно.
– Я больше не буду, батюшка, – сказала я. И до сих пор всегда стараешься придти в батюшкину церковь, чтобы все на тебе было опрятно и аккуратно по возможности.
Батюшка любил, чтобы в духовной жизни человек внешне не изменялся. Надо было оставаться такой, как есть. Он признавал внешнее смирение, почтение к старшим и еще слово «благословите» допускал. В остальном должна была остаться, какая была. Бывало он говорит:
– Не одежда делает монаха.
Батюшка очень любил и требовал, чтобы на тебе все было чисто и аккуратно. Бывало в разговоре молча покажет тебе на оборванную пуговицу или неряшливость в одежде. Как–то прихожу и чем–то запачкала себе щеку. Беседа была серьезная, но он не унялся до тех пор, пока я ее совсем не отмыла. Раз долго дожидалась в столовой и играла весело с детьми. Волосы растрепались и я не успела их оправить, ни с мыслями собраться, как он позвал меня. Вхожу. Он серьезно исподлобья смотрит на меня.
– Что это вы в игривом настроении пришли ко мне?
Я не поняла.
– Я… нет, батюшка… я так.
– Поправьтесь, – сухо сказал он, указав мне на голову. Это значило, что внешне и внутренне я распустила себя.
В этот раз он во все время беседы был особенно взыскателен. И бывало идешь на откровение или даже просто к нему и всю себя оглядываешь, и св. Николаю молишься, чтобы душа твоя была бы хорошая. И так же к о. Константину стала ходить. И бывало стыдно, если батюшка замечанье сделает. Значит к нему пришла не так, как должно.
Как–то говорили с батюшкой, какая сложная штука душа человеческая и какое трудное это дело вести ее к Богу. Я, забывшись, выпалила:
– Вот здорово–то будет, батюшка, если я Ваню, ну с вашей помощью, конечно, приведу к Богу!
Он неодобрительно посмотрел на меня, усмехнулся и сказал:
– Кого ты можешь привести? Кого можно тебе поручить? С твоей силой ты каждую душу изломаешь. Как можно тебя употреблять?… Не знаю… Бичом разве?… других тобою подгонять… Да, бичом можно. А на всякую другую работу неспособна.
Батюшка замолчал. Мне было стыдно, что я очень грубая и неловкая. Я теребила батюшкину простыню и не знала, что сказать. Вдруг он поднял мне голову и, смотря в глаза, строго проговорил:
– Моя Александра должна быть примером для всех. Поняла? Ну и помни. А теперь убирайся, надоела!
Он улыбнулся, благословил и вытолкал вон.
Пошла советоваться с о. Константином как мне быть. Он велит примером быть, а я как–нибудь–то не могу жить. О. Константин утешал, сказал, что батюшка это сказал для того, чтобы я как можно больше старалась.
Очень старалась я, толку выходило все же мало. Ходила к обоим на откровения и часто стала исповедываться у о. Константина. Исповедываться у о. Алексея я не смела. Боялась обидеть «своего» и потом нельзя же одни и те же грехи говорить обоим. Потом, у меня был ведь «свой», которого я очень любила и к которому батюшка внушил мне глубокое почтение. Думала, – исповедываться у о. Алексея, значит, перейти от одного к другому, что в нашей семье считалось грехом. Батюшка никогда об этом сам не заговаривал, а мне все больше этого хотелось.
Всегда в отношениях своих к обоим старалась как бы кого из них не обидеть. Обоих очень любила. Всегда очень боялась, чтобы из–за меня у них не вышло недоразумения.
К осени второй зимы отношения мои к ним сами собой совершенно установились. Один был мне старцем, без которого я дохнуть помыслить не могла, другой – отцом духовным, который имел власть распять меня.
Друг друга они очень любили и жили одними духом.
Я как–то сразу поняла, с чем нужно подходить к старцу и с чем к отцу духовному. Они меня понимали, жалели, учили и я чувствовала, что я была им своя, родная. Мне становилось все легче жить.
Молитвы о. Алексея, родного батюшки, устроили мне все это.
Как–то прихожу к батюшке, нахожу его очень уставшим от народа, накануне осаждавшего его. Я рассердилась на народ и говорю:
– Батюшка, дорогой, ужасно безтолковый этот народ. И зачем вы их принимаете? Кого знаете, что ему правда нужно, тех бы и принимали. Ведь к вам с невозможными глупостями идут, все равно, что к гадальщику. Вы думаете, что они в вас что–нибудь понимают? – половина нет. Знаете, батюшка, когда бывало много народу стояло, а вам некогда, послушаю, что кому нужно и тем, у кого дело простое и пользы материальной от них тоже не будет вам, говорила:
– Он плохо предсказывает, идите лучше к Аристоклию [289]289
См. прим.
[Закрыть], там скорее отпустят и вернее предсказывают. Зря простоите здесь. Я вам говорю. – Убеждала. Уходили. И я иногда делала вид, что с ними ухожу. Простите, батюшка родной, я это ведь из любви к вам делала. Ведь пользы материальной вы все равно от них не получили бы.
Батюшка хотел быть строгим, но не мог, до того все это ему казалось смешно. Он кусал себе губы, чтобы не рассмеяться.
– Послушай, ты хоть и Ярмолович, но таких вещей делать нельзя же. Убирайся вон отсюда. Ну, скорей уходи.
Я чувствовала, что за мою дерзость батюшка хочет наказать меня, но не может. Я засмеялась и стала целовать его матрац.
– Говорю тебе, уходи! – сквозь смех проговорил он, – а не то…
Я не дала ему докончить и выкатилась из комнаты.
Как–то иду к батюшке, а мне кто–то из домашних говорит:
– Напомните ему лекарство принять.
Я так и сделала. Он упрямился. Я настаивала.
– Как ты мне надоела, Ярмолович! Ну, наливай. Куда так много! Будет. Сама бы выпила! – не унимался он.
– Батюшка, вот вы других исцеляете, а сами себя не можете. Почему?
– Потому. По грехам моим мне это послано. – Он отвернулся и глубоко задумался.
Как–то спрашиваю батюшку:
– Мне нужно С–ую общину изучить. Можно сказать, что от вас?
– Для чего это еще понадобилось?
– О. Константин позволил. Меня интересуют все общины, а особенно теперь, если будут автокефальные церкви – это очень важно. О. Константин тоже хочет знать про них. Говорят, у о. Николая так очень хорошо.
– Уж эти мне автокефальные! – с досадой сказал батюшка. – Ничего из этого не выйдет. Мой тоже хотел. В то время я уезжал – меня привез нарочно. Ну и не нужно. Нет, нет, я против. Плохо будет.
– Ну да, батюшка, конечно. Они все передерутся наверное. Так что ли?
Батюшка засмеялся:
– А к о. Николаю идите. Только к моему. Их там два, так спросите Р–ва. Он очень хороший, образованный. Он мой духовный сын. Я его очень люблю.
Съездила, куда хотела. О. Николай мне все очень хорошо рассказал и показал устав. Вернувшись, все рассказала батюшке.
Как–то говорили о разных духовных лицах, и на вопрос батюшки, почему я в такой–то праздник не была в церкви, ответила, что ходила куда–то проверять епископа одного, что он из себя являет, и резко осудила его.
– Кто мы с тобой, чтобы проверять? – строго сказал батюшка. – Проверяла. Скажи, пожалуйста!
Потом он стал разъяснять мне мою ошибку и под конец сказал:
– Ну, идите теперь. И больше мы с вами ни его, да и вообще никого проверять не будем. А то нам с вами от о. Константина достанется. Знаете как?
Как–то говорили об о. Александре. Батюшка с нежностью отзывался о нем.
– Он такой кроткий, смиренный, такой же, как о. Константин. Оба они очень хорошие. Я считаю, что о. Александр один из очень немногих в Москве, которого можно назвать настоящим руководителем душ, – сказал батюшка.
Во вторую зиму было так хорошо с батюшкой, что мы часто без слов понимали друг друга. Не успеешь поклона положить, как он уже отвечает на твои мысли. А иногда он посмотрит на тебя, и ты в его взгляде прочтешь, что он хочет сказать, и скорее отвечаешь ему.
Как–то прихожу к батюшке. Все ушли по делу. Он был один. Ему было скучно лежать. Я стала рассказывать разные вещи, чтобы его рассеять и насмешить. Утешила его, что скоро эта жизнь тяжелая кончится, все устроится, будет хорошо. Всем будет легко жить. Откроют Кремль и пойдет Святая Русь освящать свою святыню и впереди всех будет Маросеечка. Батюшка, как ребенок, слушал с увлечением мой рассказ. Грустно покачал головой и сказал:
– Маросейка… нет.
– Ну, батюшка, не вы. Вы будете из окошечка смотреть. А Маросейка, Маросейка–то ведь пойдет?
– Не знаю, – улыбнулся батюшка.
И бывало даже после таких незначительных разговоров с ним чувствуешь себя веселой, бодрой и идешь от батюшки, будь то даже в сильный мороз, распахнувшись. Холода не замечала. И голода, бывало, тоже не замечала, когда запоздаешь, а с вечера ничего не ела. Он согревал нравственно – было хорошо и физически. На то он и был великий наш старец о. Алексей.
***
Куда–то батюшка уезжал, а по приезде никого не мог принимать, так как за ним очень следили [290]290
См. прим.
[Закрыть]. Следили повсюду: на улице, на дворе и даже в квартире. Положение было очень опасное. Прихожу в церковь с грустью: может быть последний раз батюшку вижу. Он стоял на своем месте и еле держался на ногах. Грустный–грустный он был и очень озабоченный.
Говорили с ним о трудном положении Маросейки. Говорили тихо, боясь быть услышанными.
– Теперь уж больше «душ» к вам, батюшка, не приведешь. Никогда уже, наверное.
– Теперь, голубушка, нельзя, – с грустью проговорил он, – а потом, кто знает, может быть, обойдется.
– А меня С. О. просила вам рассказать про нее. Как же?
– Подождите немного, – что–то соображая, проговорил батюшка.
– А мне ведь теперь тоже нельзя к вам? – с тоской проговорила я.
– Да, очень опасно, – как–то странно сказал он. – Впрочем, тебе…, – точно разглядывая меня, сказал батюшка. – Тебе–то можно, – с любовью добавил он. Потом опять подумал и повторил: – Опасно, очень опасно, но ты… тебе… нет, ничего, – уверенно сказал он, внимательно смотря мне в глаза. Перекрестил меня всю: лицо, голову, грудь, сердце и всю меня и опять: – Нет, ты ничего… ты сумеешь, – и добавил просто: – Приходите завтра и о ней поговорим. Так… завтра, – кивнул головой и ушел в алтарь.
Долго спустя он как–то спросил меня:
– А что тогда ничего опасного не было?
– Ничего, батюшка, – с удивлением ответила я.
– Ну да, конечно, так и должно быть, – как бы что–то поняв, сказал он.
И, уходя из церкви от батюшки, мне стало жутко. Опасность большая грозила Маросейке, но в чем? Батюшка–то хорошо знал, в чем. Он духом видел то, что от людей было сокрыто.
На утро пошла к батюшке. Его благословение охраняло меня как щит. Ко мне приставали разные люди с вопросами. Я всем говорила, что иду к тетке. Что о. Алексей старый, больной, никого не принимает давно, так как и говорить–то он не может. Как велел батюшка, пошла парадным. Дверь была открыта. Сидели какие–то в коридоре. Кто–то спросил:
– Вы к о. Алексею? Он здесь?
– Почем я знаю, где он. Иду к тетке в гости. Делать вам нечего, шляетесь, – сердито буркнула я, не сдержавшись, и прошла в кухню.
Скоро меня позвали. Стучу. Ответа нет. – Можно? – Молчание. Тихо открыла дверь. Батюшка что–то писал. Осталась стоять у порога. Наконец, он взглянул на меня. Крепко думал он о чем–то.
– Садитесь. По поводу той пришли говорить? – деловым тоном спросил он.
Рассказывала я о С…, а в душе было одно свое горе. Последнее время как–то не ладилось с Ваниным христианством. Я очень старалась, а муж все дальше отходил, казалось, от Бога. Он опять перестал понимать меня, слушать меня, ему никак нельзя было угодить. У меня было отчаяние в душе: задача не по мне, Ваня христианином не будет. Батюшке не говорила: все равно, думалось, в этом он уже не может помочь мне. Он делает все, что может. Притом он куда–то уезжал, а теперь ему самому очень трудно, нельзя приставать к нему.
Батюшка внимательно слушал меня. Он был очень озабочен. Казалось, ему не было дела до меня. Он говорил очень серьезно, как никогда. Страшно было, что это может быть последний разговор с ним. Хотелось сказать о себе, но что–то удерживало.
Во все время разговора я умом слушала его внимательно, а душа твердила одно: я очень страдаю. Если бы ты мог мне помочь.
– Все поняли? – закончил батюшка.
– Все.
– Точно передайте мои слова.
– Благословите, батюшка.
Нужно было уходить. Душа заныла. Мы оба встали прощаться. Неожиданно батюшка, весело потирая руки, сказал:
– А как же мы–то с вами живем?
Он эти слова сказал бодро и весело, но что–то было в них, отчего душа моя дрогнула. Я упала перед иконами на колени и стала изливать Господу всю мою скорбь. О. Алексей опустился в кресло против меня. На лице его появилось страдание. Глаза были полны слез. Он был очень сосредоточен и очень серьезен. Я забыла, что передо мной о. Алексей. Я чувствовала только Бога. Я говорила Ему, как мне трудно, в каком я отчаяньи. Я жаловалась, что Он меня не понимает, что Он оставил меня. Я говорила, что не понимаю, что нужно еще делать, что дерево, камень поняли бы меня легче, чем муж. Я делаю все, а ничего не получается.
Говорила долго, обливалась слезами. Кто–то входил к нам и снова уходил. Видела иногда перед собой большие темные глаза о. Алексея. Он прямо смотрел мне в душу и был весь поглощен тем, что делалось в ней. Мне то самой ее состояние было очень неясным. Взгляд его был такой страшный (по святости), что я иногда останавливалась на полуслове.
– Продолжайте, – медленно ронял он и я снова забывала его и чувствовала только Бога.
Наконец я с отчаяньем сказала:
– И я начинаю думать… что… – и вдруг увидала глаза о. Алексея. Мне сделалось страшно за свою мысль.
– Ну! – повелительно сказал он.
– …что Его нет на небе.
– Кого его?
Я молчала.
– Бога? – спокойно спросил о. Алексей. Я мотнула головой и тихо сказала:
– Да, Бога, – и пала ниц.
– Нет, Он есть. Это вам так кажется, – также спокойно сказал он и поднял меня за плечо. – Дальше! – повелительно добавил он. И снова точно вихрь налетел на мою душу. Снова исчез о. Алексей и я с отчаяньем продолжала изливать свою скорбь Богу. Я говорила, что Он не хочет меня знать, что молитву других Он принимает, она уходит в небо, я это чувствую, а моя камнем падает обратно. – Зачем мне жить, если у меня ничего не выходит? – с жаром закончила я.
– Нет, твоя молитва принимается, – услыхала я за собой голос.
– Нет, не принимается, – убежденно сказала я.
– Я говорю тебе, что принимается.
– Нет, нет, я знаю наверное: Он не принимает.
От горя я была вне себя. Я позабыла, где я, и с кем говорю.
Вдруг почувствовала, что чья–то железная рука взяла меня за плечо. Я очнулась. Мне стало все ясно. Подняла голову и увидала лицо о. Алексея. Он стоял, наклонившись надо мной, и держал меня за плечо. Лицо его было какое–то особенное, страшное по святости. Глаза, совсем большие–большие и совсем черные, горели; казалось, искры сыпались из них. Голос его звучал особенно. Медленно, напирая на каждое слово, он произнес:
– Она… она… принята. И то говорит никто иной, а я.., о. Алексей.
При последних словах о. Алексей выпрямился. Он казался выше обыкновенного. Его человеческая оболочка куда–то исчезла. Я видела только дух великого старца, пламенеющий огнем серафимов. Он высоко поднял руку и звенящим голосом произнес:
– Никогда, никогда в моей жизни не видал я такого упорства в достижении такой цели. Во имя Отца и Сына и Святого Духа говорю тебе я – отец Алексей, что где бы я ни был, я буду всегда, поняла, – всегда молиться за Иоанна и Александру. Иоанн и Александра, – тихо повторил он, опустился на кресло и начал тяжело дышать.
Дух о. Алексея скрылся, передо мной был снова батюшка.
Помолчав, он начал снова утешать меня, как только мог, ободрял меня, говорил, что нужно потерпеть и тогда увижу непременно пользу от трудов своих. Что тружусь и буду трудиться не напрасно, что польза уже и сейчас есть, но я ее увижу. Дорогой батюшка, желая утешить меня, все мне приписывал. А я–то ведь была не при чем. Душа мужа спасалась молитвами отцов моих.
Батюшка открыл какую–то книгу и опять для меня открылось то место, где говорилось о молитве, терпении и смирении.
– Видите, что я могу сделать? Все то же открывается для вас. Я здесь не при чем и сделать ничего не могу. Ясно мне одно, что только этим вы достигнете с ним, что нужно. То было смирение и молитва, а теперь еще терпение. Чтобы терпеливее была, а то так нельзя, «буря моя», – ласково добавил батюшка, – надорвешься.
– Нет, батюшка, не надорвусь, – весело ответила я. Мне было хорошо, точно что–то тяжелое, старое свалилось с меня. Батюшка благословил и проводил до двери.
– Итак, помни всегда и везде Иоанн и Александра. Сначала Иоанн, а потом уж Александра, – проговорил он. Лицо его было радостное, глаза блестели. Я поклонилась ему в ноги и не знала, что сказать и как благодарить его. Такой великой милости я не ожидала.
Молитв о. Алексея я никогда не смела просить даже за мужа, а тут сам, да еще как!
Начался Успенский пост, я чувствовала, что нужно исповедываться у о. Алексея, но как к тому приступить, не знала. О. Константин требовал постом особенного покаяния. Решила, что если помогает просить человека о чем–нибудь, стоя на коленях, то тем более Бога. Все службы простаивала на коленях в соседней церкви и со слезами иногда молила Спасителя простить меня, помочь мне и сделать так, чтобы о. Алексей принял бы меня и простил.
На Преображенье зашла на Маросейку, думала батюшки нет. Вдруг слышу его голос. Я спряталась за чью–то спину. Батюшка вынес чашу и начал читать молитву. Особенно он произнес слова: «От них же первый есмь аз» и «помяни мя и прости ми прегрешения моя». При словах «яко разбойник исповедаю Тя» я посмотрела на батюшку: он пристально глядел на меня. А также посмотрел на меня при словах: «во исцеление души». Я испугалась, убежала домой и решила безповоротно готовиться к первой моей исповеди у великого старца о. Алексея.
Усилила пост, домашнюю молитву, записывала и вспоминала все грехи свои. Молилась только так: Господи, прости. Пожалуйста, допусти до батюшки и чтобы он простил. Почему–то казалось, что он никогда не простит. Устала очень, все болело, голова кружилась, но я не сдавалась. Решила идти к батюшке дня за три до Успенья. Накануне уже тряслась как в лихорадке. Рано утром прихожу и становлюсь в очередь. Я была, кажется, шестая. Никого не замечая, быстро прошел батюшка в алтарь. Я дрожала всем телом и безсмысленно молилась Казанской Божьей Матери: «Сделай так, чтобы он принял и простил».
Молилась упорно, настойчиво. Молитва была сухая и я с ужасом думала, что Матерь Божия ее не примет. Как–то встретилась взглядом с батюшкой. Он внимательно глядел на меня. Мне сделалось еще страшнее. Грехов почти что не помнила, но чувствовала, что я сплошь один грех. Этот–то грех, это мое все злое и боялось, как огня, действия благодати старца о. Алексея.







