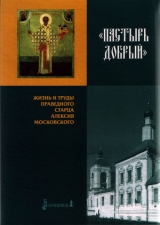
Текст книги "Пастырь Добрый"
Автор книги: Сергей Фомин
Жанры:
Религиоведение
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 52 (всего у книги 57 страниц)
П. Флоренский. Рассуждения на случай кончины отца Алексея Мечева
Батюшка отец Алексей принадлежит к тем русским праведникам, ряд которых начинается от преподобною Серафима Саровском, идет через Оптину пустынь и доходит до наших дней. Это тип старцев, одаренных тихим светом смиренного жаления и любви ко всем страждущим. Такие именно праведники нужны людям усталым, измученным горечью жизни, боящимся какого–либо неосторожного прикосновения к их ранам. […] Он подошел к нам уже слабый телом, но сильный любовью и жалением, пошел с нами в тот момент, когда все мы особенно нуждались в утешении, пошел и… дошел весьма скоро, к великой печали, до могилы. Впрочем, он скрылся в нее только телом, а духом воспарил к Горнему Иерусалиму, чтобы там опять встретить нас на тяжелых путях загробных мытарств и также любовно, жалостливо и с лаской пойти с нами к престолу Господню, расплачиваясь своими молитвами за наши грехи. Батюшка, отец Алексей, вечная тебе память, родной!
Епископ Арсений (Жадановский)
Надгробное слово [302]302
Печатается по машинописи из архива Е. В. Апушкиной. Первая публикация в сб.: Отец Алексей Мечев. С.353—357 (с некоторыми неточностями). Заимствовано (с большими сокращениями и с приспособлением к обстоятельствам) из слова архимандрита Григория (Борисоглебского) перед чином погребения прп. Амвросия Оптинского. См.: Жизнеописание Оптинского старца иеросхимонаха Амвросия. М. 1900. С. XI–XIX. Архимандрит Григорий (Николай Иванович Борисоглебский, 1867—1893) – инспектор Московской духовной академии. (В книге «Пастырь добрый» даётся под названием «Надгробное слово, оставленное о. Алексием перед своей кончиной». Рассуждения П. Флоренского по данному вопросу не вполне обоснованы. См. далее. – И. И.).
[Закрыть]
Батюшки о. А. нет больше, хотя и теперь привлек сюда эти многочисленные толпы он же, но только затем, чтобы проститься с ним навсегда. Он во гробе. И сие – великое страшное событие. Это потеря всеобщая, потеря невознаградимая!
Те замечательные глаза, оживлявшие почти совсем омертвевшее тело, в которых всегда светился огонек неба, так действовавший на сердца человеческие, лучи которого будто проникали самую глубь души собеседника и читали там, как на бумаге, опись прошлого и настоящего, – эти глаза померкли и закрылись мертвенной печатью. Уже больше им не пронизать души человеческой.
Те учительные уста, сильные не убедительными человеческой мудрости словами, но явлениями духа (1 Кор.2:4), сильнейшей любви к ближнему, умевшие самым безыскусственным словом побеждать (покорять) избалованные красноречием и наукой умы, уста, дышавшие только миром, любовью и утешением, теперь замкнулись навсегда. Уже больше не услышим мы благословения батюшки; уже больше не раздастся его святая речь.
По внушению Церкви нам чудится, что эти мертвые уста вместо слов жизни и утешения взывают к нам словами смерти: «Восплачите о мне друзья и знаемые».
Те сильные в своей немощи руки, которые утирали безчисленные чужие слезы, теперь сами орошены слезами. Раньше они направо и налево благотворили всем и каждому, а теперь не подымутся больше для благотворения. Раньше они не только твердо несли свой крест, но имели неимоверную силу помогать в несении многочисленных жизненных крестов, а теперь они сложились сами в крест на страдальческой груди, и эта грудь понесет тяжесть этого креста с собой в могилу.
Увы! Дорогого о. А. не стало. Плачьте все духовные его дети и вообще все те, которых о. А. окормлял духовно.
Вы лишились в о. А. великого печальника, любившего вас всею силою христианской любви, отдавшего вам всю жизнь и, можно сказать, принесшего вам ее в жертву.
Подойдите к этому гробу и поучитесь у лежащего в нем как вам жить по–христиански, по–Божьи в юдоли мира. Ужас и трепет объемлет душу, когда вспомнишь и сопоставишь, как мы должны жить и как мы живем на самом деле. Припомните учение Спасителя, вспомните Его св. Евангелие – к какому жизнеустроению там призываются христиане? Жизнь для неба, жизнь для Бога – вот наше призвание. Небо родило нас, Господь вложил в нас Свой образ. На небо же, к Тому же Господу мы и должны идти после здешней жизни. Земля – гостиница, куда зашли мы лишь как бы по пути. Нам на земле не нужно никаких привязанностей. Что нам богатство? Что нам знатность, что нам слава, что нам удовольствия, что нам личная жизнь? Все это временное, все это земное. Все это дальше такого же тесного гроба, да темной, дышащей тлением могилы за нами не пойдет; все это останется здесь. Что нам себялюбие, когда все Евангелие, весь Божественный закон только об этом и говорит, одному только и поучает: люби Бога, люби ближнего; живи отнюдь не для себя, а для блага тех, кто возле тебя.
В исполнении этой заповеди; в любви – главный и существенный признак того, кто хочет быть истинным учеником и последователем Господа Иисуса Христа.
Что за блаженные были времена первых веков христианства, когда все христиане жили, как один человек, когда стяжания приносились к ногам Апостолов их владельцами, когда не боялись никаких мучений за Иисуса Христа и охотно шли на всякую казнь, когда любовь была единственным законом.
А что теперь?
Присмотритесь ближе к этой житейской суете мира. С утра до поздней ночи, от ночи до утра мир суетится для себя. Бывают, правда, минуты – войдет человек в храм; обнимет его сила небесной жизни – и он в горячей молитве забудет мир с его страстями, с его безбожием в жизни, духом понесется в небо: он готов после жить только для неба, готов своими объятиями обнять все человечество; он с омерзением смотрит на свои грехи и пороки – и в его душе разливается как будто особенный мир… Но вот он опять вне храма; проходят две–три минуты и увы! Где прежний мир, где прежняя любовь и вера? Дух суеты мирской, как ураган в пустыне, дохнет на прослезившегося человека своей страдной житейской заботой – и снова начинается старая жизнь по плоти, снова открывается работа миру и страстям. И так до нового момента поднятия духа.
А как относятся люди друг к другу? Что прежде всего в этих отношениях? Себялюбие, которое во всем видит и ищет только свою пользу. Что мне говорить о тех страшных грехах, которые порождаются этим самолюбием. Пастырское сердце почившего наверное хранит в себе и понесет с собой в могилу обширную летопись этих грехов, поведанных ему на духу.
Итак, забывающий Бога христианский мир! Приди сюда и посмотри: как нужно устроить свою жизнь. Опомнись! Оставь мирскую суету и познай, что на земле нужно жить только для неба.
Вот пред тобой человек, который при жизни был знаем многими, а по смерти удостоился таких искренних слез и воздыханий. А отчего? В чем его слава? Единственно только в том, что он умел жить по–Божьи, как подобает истинному христианину.
Не думай, что жить на земле только для Бога – нельзя. Се гроб, который обличает тебя. В чем – вы спросите – смысл такой жизни? В одном: в полном умерщвлении всякого самолюбия. Что у него было для себя? Ничего. С утра до вечера он жил только на пользу ближних. Он никому никогда не отказывал в советах своих. Со всеми был ласков. Он жил жизнью других, радовался и печалился радостями и печалями ближнего. У него, можно сказать, не было своей личной жизни.
Итак, христианин, приди к этому гробу и научись тому, что на земле нужно жить только для неба, что такое жизнеустроение возможно и осуществимо и что основание этой жизни – в полном деятельном самоотречении во благо ближних.
«Любите людей, служите им», – вот, что внушают нам в завет омертвевшие уста почившего. Не все, конечно, могут вместить эту тяжкую заповедь так, как умел и мог исполнить ее почивший.
Но надо уметь жить жизнью других, болеть их болезнями и скорбями и беззаветно нести свои духовные сокровища на пользу ближних.
Приидите, наконец, ко гробу сего великого пастыря, пастыря Церкви Русской, и научитесь от него пастырствовать в мире. Хотя у почившего вверенная ему паства незначительна, однако, едва ли многие и архипастыри имели так много пасомых, так много духовных чад, как покойный батюшка о. А. Тут всякий, кто только ни приходил к нему, кто ни открывал ему своей души, всякий становился сыном многолюдной его паствы. Тут было удивительное общение душ пастыря и пасомых. Приидите, пастыри, и научитесь здесь пастырствованию.
Пред ним всякий человек чувствовал себя только мирянином, все одинаково видели в нем только Христова пастыря. Се знак того, что религия понималась как закон совести, как нечто такое, что совершенно противоположно миру. На батюшку о. А. смотрели именно как на служителя Бога. И он властительствовал над совестью; ее он врачевал.
Чем и как умел так много пастырь всех утешать и обновлять? Страдавшим казалось, что он будто сам облегчает их скорби и печали душевные, как бы беря их на себя.
Кроме личного благочестия, о. А. имел ту высочайшую любовь христианскую, которая долготерпит, милосердствует, не завидует, не превозносится, не гордится, не безчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется о неправде, и сорадуется истине (1 Кор.13:4—6). Это та любовь, не знавшая никакого самолюбия, о которой засвидетельствуют все, кто только знал почившего, любовь, которая заставляла его сливаться своей пастырской душой с пасомыми, она–то и давала ему такую силу в области их совести. Его самоотверженную любовь нельзя иначе описать, как именно приведенными словами Апостола.
Вот, пастыри, чему поучитесь у этого праведного мужа пастыря.
Кто станет отрицать, что служба церковная, требо–исправления, главная обязанность пастыря. Никто, конечно. Без Св. Таинств нет и Св. Церкви. Властительство над совестью и воспитание ее – вот вторая обязанность пастыря. Не забывайте, что службы и таинства – для спасения, и оно должно усваиваться сознательно; а для сего надо работать над душой.
Итак, приидите все, целуйте его последним целованием и берите каждый, чья душа сколько может, завещанных им нам в наследство сокровищ. Смотрите больше на этого человека, пока его духовный образ в виду этого гроба еще живо предносится нашему взору.
Веруем, что Всемилосердный Господь, по молитвам Св. Церкви, призрит с небеси на праведную жизнь почившего, на его великую любовь и труды во имя Христово и дарует ему место упокоения со святыми. Помяни нас тогда, почивший, в своих молитвах.
А теперь, братие, пока его душа еще витает здесь, у своего тела и взывает к нам устами Церкви о молитвах, помолимся о ней Господу. Несть человек, иже жив будет и не согрешит. Ты, Господи, Един еси кроме греха.
Прости, Господи, почившему рабу Твоему А. все его грехи, и грехи юности, и старости, и ведения, и неведения, и слова, и дела, и помышления. Вся ему прости, яко Ты благ еси и Человеколюбец.
А. Рассуждения на случай кончины отца Алексея Мечева [303]303
Печатается по изд.: Священник Павел Флоренский. Сочинения в четырех томах. Т.2. М. «Мысль». 1996. С.591—616. Данный текст основан на машинописи из архива о. Павла Флоренского с учетом авторской правки. Печатавшийся до этого текст (см., напр.: Отец Алексей Мечев. С.359—382) был датирован 23 августа 1923 г. и содержал многочисленные текстуальные различия. Парижские публикаторы (Н. А. Струве) отмечали: «Странным образом, о. Павлу Флоренскому, несмотря на его колоссальную эрудицию, осталось неизвестным, что надгробное слово о. Алексея Мечева было им не написано, а выписано из слова, произнесенного перед отпеванием Оптинского старца Амвросия. Тем не менее, духовная проблема, поставленная наличием слова, приготовленного самим о. Алексеем, остается и размышления о. Павла Флоренского сохраняют свою силу» (С.359). Однако в архиве о. Павла сохранились две записи, опровергающие это мнение. В первой из них говорилось: «Архимандрит Григорий (Борисоглебский). Сказание о житии оптинского старца отца иеромонаха Амвросия. М., 1893, с.149—163 – надгробное слово самого о. Григория, весьма похожее на надгробное слово о. Алексея Мечева». Другая запись: «Когда рассуждение это было уже написано, то нашелся и литературный первообразец Слова о. Алексея. Это именно надгробное слово оптинскому старцу Амвросию, сказанное при его погребении архимандритом Григорием (Борисоглебским). Оно было несколько раз издано. В нем имеется ряд фраз почти тождественных с соответственными фразами Слова о. Алексея. Но переработка первого слова во второе идет всегда в одном смысле: исключается все, относящееся непосредственно к монастырю и монашеству, и оставляется, напротив, чистый дух самого старчества, независимо от частных обстоятельств его применения» (Игумен Андроник (Трубачев). Русский пастырь на приходе // Москва. 1990. № 12. С.161).
[Закрыть]
I
После кончины о. Алексея Мечева, на столике возле его кровати оказалась небольшая рукопись, написанная его почерком и подписанная буквою А. Она не могла попасть туда случайно, потому что о. Алексею незачем было бы брать ее в Верею из Москвы. Кроме того, бумага, на которой она была написана, – полотняная сиреневая почтовая бумага малого формата, – была той самой, которую дали о. Алексею в Верее за несколько дней до кончины. Несомненно: эта рукопись есть последнее, что написал о. Алексий, судя по разным данным – не более как за два дня до кончины, и несомненно – не случайно оставлена она была так, чтобы попалась сыну о. Алексея не когда–либо впоследствии, а сейчас же после кончины. Между тем о. Алексей, давно уже больной неизлечимо, и вообще ждал своей кончины и теперь, в частности, знал, что умирает. Приблизительно за год он несколько раз собирал некоторых московских священников и, весь в слезах, «пел» им, как настойчиво выражался он, «свою лебединую песню», желая «хоть кому–нибудь оставить свой дух пастырства и свой опыт». Действительно, вскоре после этого он заболел, потом находился под домашним арестом, а потом умер. Обычно было почти невозможно уговорить его расстаться с паствой и уехать отдохнуть к своей замужней дочери в Верею; но в этот последний раз он готовно последовал такой просьбе и, приехав на место отдыха, прямо сказал уважаемому им местному священнику, что он приехал умирать.
Итак, обсуждаемая рукопись должна рассматриваться как духовное завещание о. Алексея, и уже потому представляет высокую ценность в глазах всех тех, кто ценил самого батюшку. Но по содержанию своему она, если учесть время и обстоятельства ее написания, есть документ огромной важности, и не только в отношении самого о. Алексея, но и вообще для понимания духовности. Две тайны – тайна духовной жизни и тайна духовной кончины – выразительно показаны этими предсмертными строками о. Алексея. Но, как всегда бывает с тайнами, они столько же открыты, как и закрыты, сделаны доступными одним, чтобы избежать взора тех, кто все равно не понял бы открываемого. Об этих–то тайнах имеет в виду напомнить настоящая заметка.
II
Если бы рукопись о. Алексея досталась без каких–либо объяснений и без имени автора, что называется, объективному исследователю, то можно было бы услышать отзыв вроде следующего: «Это надгробное слово некоего А. какому–то уважаемому пастырю отцу А., предназначенное к произнесению при гробе. Как и свойственно словесности такого рода, здесь содержится ряд похвал усопшему, несомненно искренних и по–видимому соответствующих подлинному облику покойного. Автор пользуется случаем, анализируя личность о. А. и внутренние мотивы его деятельности, сделать назидание о христианской любви как подлинной стихии христианской жизни, и призывает духовных детей почившего запечатлеть в своей памяти образ покойного, чтобы руководиться им, как примером праведности в жизни. Слово искренно и горячо, с литературной же стороны похоже на экспромт и мало проработано».
Если бы теперь спросить такого критика, к кому бы могло относиться такое надгробное слово, то он, будучи москвичом, и зная приблизительную датировку слова, со значительным вероятием указал бы на о. Алексея Мечева, из всех известных духовных деятелей недавнего времени наиболее подходящего ко всему, что сказано в этом слове. Если утвердиться в той мысли, что речь идет именно об о. Алексее Мечеве, то тогда, действительно, окажется все слово чрезвычайно объективной и весьма точной характеристикой именно его; при гробе о. Алексея трудно было бы придумать сказать что–либо более точно, без преувеличенных похвал и словесных украшений, изображающее о. Алексея. Это – в каждом своем штрихе подлинная правда, хотя и полуприкрытая наименованием почившего лишь инициалом А. вместо полного имени.
Такой ответ был бы прост, ясен и вполне убедителен; пожалуй, не явилось бы поводов к сомнению, если бы не то обстоятельство, что слово это написано, во всяком случае до кончины о. Алексея Мечева и безспорно его рукою. Не будь этого обстоятельства, все было бы гладко. Но зачеркнуть его никак нельзя. Тогда возникает мысль, что о. Алексей, не подписавшийся полным именем, писал его о каком–то другом «о. А.». Но о ком же? – Биографически единственным правдоподобным ответом было бы отождествить этого «о. А.» с Оптинским старцем Анатолием [304]304
См. прим. О. Павел Флоренский познакомился со старцем Анатолием 7.9.1905 г. во время поездки в Оптину пустынь.
[Закрыть], умершим около года тому назад. О. Алексей был близок с ним по духу, они посылали друг другу духовных детей. При поверхностном чтении это слово могло бы быть признано надгробным словом Оптинскому старцу. Но такая возможность держится лишь общим духовным сходством обоих руководителей; подробности же слова к о. Анатолию ничуть не подходят, и признавать его в «о. А.» было бы натяжкою. Кроме того, такое объяснение нисколько не считается с обстоятельствами написания этого слова. О. Алексей Мечев мог, конечно, написать в свое время надгробное слово отцу Анатолию; но это могло быть именно в свое время, очень непродолжительное, и именно, когда Оптинский старец скончался, но еще не был погребен. Вне этого тесного временного промежутка, т. е. когда открытого гроба о. Анатолия еще нет, или уже нет, слово с таким содержанием, с призывом смотреть на гроб и проститься с умершим, было бы странным риторическим упражнением. Такую литературную арию около почитаемого образа трудно предположить у кого бы то ни было; но она решительно несовместима со складом о. Алексея, вполне чуждого литературных интересов, даже и серьезного характера, а не только безцельной словесной гимнастики. Вдобавок ко всему, полною невозможностью представляется мысль о уже полумертвом и знающем близость своей кончине старце, накануне отхода занявшемся безплодным сочинительством. И, вдобавок, как совместить искренний горячий тон и литературную манеру с риторическим замыслом?
Несомненно, предположение об о. Анатолии отпадает и, не имея других выходов, мысль вынуждена вернуться к самому о. Алексею, как предмету обсуждаемого слова. И намек на это выразительно дан обозначением лежащего во гробе и пишущего – одинаковым образом, одною и тою же буквою А. Между тем, если авторская подпись инициалом сравнительно понятна, то как, при возможности смешать два имени, как не раскрыть, хотя бы в одном месте, полностью имени того, который служит предметом всего слова? Трудно не видеть в этом тождестве инициалов преднамеренного указания тем, кто сумеет воспользоваться им.
III
О. Алексей, накануне кончины, написал надгробное слово о. Алексею. Из всех трудностей единственный возможный выход – сказать так. Но, разрешив этим вставшие трудности, мысль открывает новые, уже более глубокие, чем порядка литературного. Эти новые трудности связаны с самым существом дела и свидетельствуют о тайне духовности. Тут сказано, о. Алексей написал слово о себе – он написал его об о. Алексее. Что он смог написать его о том, о ком написал, – это тайна духовной кончины; а что он счел должным написать – это тайна духовной жизни. Надгробное слово, оставшееся возле его смертного одра, отвлеченно взятое, есть некоторый весьма небольшой факт истории русской словесности. Взятое же как произрастание личности о. Алексея и в определенных биографических условиях его написания, оно есть большое событие русской церковной жизни, камень, на котором многое должно быть построено. Но разве в истории Церкви все важное не было именно таковым? – второстепенным для историка литературы и основным – для размышляющего над жизнью? Разве мученические исповедания веры во Христа Воскресшаго не получили своей непреложности как голос пролитой ими крови, помимо которой и вообще вне их жития не заслуживают особого внимания? Чтобы учесть удельный вес слова о. Алексея, безусловно необходимо вдуматься в его содержание, не сопоставляя это слово с разными другими подобного рода произведениями, а мысленно присутствуя, сколько это можно, в той комнате, где оно писалось.
IV
Слово о. Алексея поражает своей объективностью – и по общему тону, и в частностях. Это именно слово автора не о себе, а о своей личности, рассматриваемой со стороны. Конечно, нередко пишут о себе в третьем лице; но хотя бы это лицо было не только третьим, а и сто третьим, все–таки оно остается загримированным Я, и от автора тянутся к нему безчисленные нервы и кровеносные сосуды личных пристрастий, вполне живые. Кто не почитает себя способным думать и говорить о себе объективно, однако не подозревая, что якобы объективным образом себя самого он пользуется как ширмою для сокрытия своего самого субъективного? Самое трудное, что есть на свете, – это думать и говорить о себе объективно: это труднее, чем умереть, потому что для объективности необходимо сперва умереть, а потом уже начать говорить.
Если бы о. Алексей написал тоном покаяния и окаевания о том, сколь грешным надо считать покойного; если бы он признал за ним весь каталог грехов; если бы свидетельствовал смирение, заранее соглашаясь со всякими упреками и не видя у себя ни веры, ни надежды, ни любви; если бы слово звало присутствующих попирать недостойный прах, – тогда некоторые усмотрели бы в нем истинную объективность и высоко оценили бы слово, ублажая смиренного батюшку и осыпая его градом похвал. Но на самом деле они обнаруживали бы такою оценкою лишь свою субъективность: не имея возможности хвалиться сколько–нибудь правдоподобно, большинство спешит к преувеличенному самоуничижению, но с непременным требованием, чтобы все поступали так же, и в тайной надежде, что когда все вымажутся неграми, и притом многие будучи заведомо белыми, тогда серым и даже чернокожим останется утешительная возможность выдать себя соответственным намеком за вымазанного согласно духовной моде белого. Бывали праведники, которые особенно остро ощущализло и грех, разлитые в мире и в своем сознании не отделяли себя от этой порчи, в глубокой скорби они несли в себе чувство ответственности за общую греховность, как за свою личную, властно принуждаемые к этому своеобразным строением их личности. Но не праведники сообразили, что и покаянные слезы Марии Египетской могут быть сделаны фасоном духовной моды и притом лестной самолюбию: если упрекает себя во всех грехах и Мария Египетская и я, то вы, окружающие, не очень–то судите обо мне – может быть и я не хуже Марии Египетской. «Все святые себя обвиняли во всех грехах» – такова большая посылка силлогизма. К этой ложной посылке пристраивается, тоже ложная, меньшая – «и я обвиняю себя во всех грехах», ложная, ибо святые, обвинявшие себя, делали это искренно, а я – про себя думая совсем иное, чем говорю на словах. И, наконец, из двух ложных посылок, путем ложного силлогизма, выводится желанное заключение: «следовательно, и я …», впрочем, не выводится, а предоставляется быть выведенным тому, кто не желает показаться гордецом. К самому искреннему раскаянию людей недуховных примешивается отрава похвалы себе за свое раскаяние.
Но нужно действительно умереть, действительно порвать все нити себялюбивой привязанности к Я, чтобы иметь силу взглянуть на свою личность безкорыстным взором и сказать об ней воистину, как об Он. Высшая мера этой способности обнаруживается в правдивой похвале, в доброй оценке всего доброго, но без самодовольства и пристрастия. Кто не умер, тот никогда не взойдет на эту высоту.
V
Та объективность, которая позволила о. Алексею говорить о себе совсем со стороны, неизбежно наводит на мысль, что это писал человек уже отошедший. Мы не знаем, как это возможно, но мы можем утверждать, что так бывает. Об умирании для мира человека духовного обычно рассуждается в неопределенном смысле, как о неточном и приблизительном выражении малой привязанности такового к мирским пристрастиям. Обычно стараются понять такие слова в отношении всякой нравственной работы над собою, всякого подавления той или другой страсти, не понимая того, что страсти произрастают из глубокого корневища самости и что наличное отсутствие их вовсе еще не говорит об их искорененности. Пока живет это корневище, греховное Я, они всегда могут прозябнуть из недр подсознательного, все они, и нет такой страсти, относительно которой не угасивший в себе злого горения самости мог бы считать обезпеченным, хотя в данную минуту он и не усматривал бы в себе никаких данных известной страсти. Умереть для мира – это значит коренным образом уничтожить внутренний водоворот, силою которого все явления в мире мы соотносим с самими собою и разбираемся в них, отправляясь от этого центра перспективы, а не объективно, т. е. в отношении к истинному центру бытия, и не видим их в Боге. В своем восприятии мы всякий раз извращаем порядок мироздания и насилуем бытие, делая из себя искусственное средоточие мира и не считаясь с истинной соотнесенностью всех явлений к истинному средоточию; мало того, даже его, этот абсолютный устой мира, мы опираем на себя, как спутник и служебное обстоятельство нашего Я. Назвать ли этот способ действования по–профессорски «синтетическим единством трансцендентальной апперцепции», или по–русски коренною греховностью нашего существа, – суть дела от этого не меняется.
Но чтобы этого не было, надо видеть Бога: тогда лишь можно будет видеть в Нем все бытие, а в том числе и себя самого, и тогда лишь наше созерцание мира может быть объективно. Но «никто не может видеть Бога и не умереть» [305]305
Исх.33:20.
[Закрыть]. Чтобы увидеть Его – необходимо вырваться из своей самости, ибо до тех пор мы будем видеть лишь искаженные образы, соотносимые с этой самостью и, следовательно, в Самом Боге мы не сумеем увидеть Бога, а будем видеть лишь искаженные образы, соотносимые с этой самостью и, следовательно, в самом Боге мы не сумеем увидеть Бога, а будем видеть лишь различные идолы своих пристрастий. Увидеть Бога – это значит перенести свое Я из ветхого Адама, из организма своей самости, в абсолютную истину. Однако этот перенос не должен разуметься отвлеченно и смягченно благополучно. Это ничуть не интеллектуальная интуиция и тому подобные умственные акты и психологические состояния, ни к чему не обязывающие и не требующие жертвы, – не частично жертвовать чем–нибудь из своего, а полной жертвы всем самим, и притом в самых глубоких его корнях, – кровавой жертвы самостью. Об этом жертвоприношении себя, конечно, не трудно писать и говорить, как вообще не трудно писать и говорить о чужой смерти. Но на самом деле, жизненно, оно есть смерть, и притом не поверхностная, физиологическая смерть, нередко мало сознаваемая, а до конца сознательная гибель всей самости, испепеляемой в самых своих основах. Вся она напрягает тогда силу противления, сотрясаемая ужасом и тоскою, несравненно более леденящими, чем те, которые мы называем смертными. Нередко человек кончает с собою, ужасаясь предстоящим позором или потерпев неудачу в том или другом страстном влечении, которое он к тому же не одобряет, рассуждая отвлеченно. Это значит, самооберегание самости так велико, что оно преодолевает даже леденящий ужас физического инстинкта жизни. Так – когда самость задета периферически, в одном из своих проявлений. Что же должны думать мы о силе ее отпора, когда ставится вопрос уже не о том или другом из ее проявлений, а о ней самой, в самом ее средоточии. Конечно, для нее это несравненно более жгучая борьба, чем только за физическую жизнь, и победа над нею есть смерть более глубокая, чем только физическая смерть. Когда Апостол Павел говорит, что он умер для мира [306]306
Рим.6:2—14.
[Закрыть], это не только метафора, в смысле необходимого ослабления силы его слов, а напротив – нечто обратное гиперболе, ибо энергия его слов должна быть неимоверно повышена: эти слова надо бы кричать, а не говорить, чтобы они достаточно задели сознание. Умереть для мира – означает великую тайну, которой нам, не умершим, не понять, но о которой мы должны твердо запомнить, что она существует. Да, можно оставаться среди людей и делать вместе с ними дела жизни, но быть мертвым для мира и руководить деятельностью своего тела, находясь уже не в нем, а со стороны, из горнего мира. Иоанн Лествичник [307]307
См. прим.
[Закрыть], авва Варсонофий [308]308
Св. Варсонофий (†конец VI в.) – отшельник, один из учителей аскетики.
[Закрыть] и другие свидетельствуют, что есть люди умершие и уже воскресшие до всеобщего воскресения; это те, кто достиг полного безстрастия, т. е., конечно, не стоического безразличия и не скептической невозмутимости, а искоренения в себе страстей. Это свидетельство, возвещаемое ими торжественно, есть открытие тайны совершенно особого человеческого устроения и никак не должно быть сводимо на нравственную характеристику: речь идет об онтологии.
VI
«Аминь, аминь, глаголю вам: аще кто слово Мое соблюдет, смерти не имать видети во веки» (Ин.8:51). С этим обетованием Спасителя обычно не считаются, обходя его или растворяя в учении о безсмертии души, хотя для последнего вера в Спасителя вовсе не является предусловием.
Если сказано, соблюдающий слово Христово «смерти не имать видети во веки», это значит, во–первых, что вообще говоря смерть можно узреть и, во–вторых, что с неверующими так именно и случается. Общий смысл этого понятия об «узрении смерти», конечно, ясен: это какое–то своеобразное переживание, по которому отходящий отсюда сознает свое отхождение, и переживание этого отчетливо и резко отграничено ото всех обычных переживаний. Но почему сказано именно «не узрит», а не вообще не почувствует, не сознает? В этих словах, в самом термине «узреть», примененном к смерти, есть конкретность большая, нежели сколько ее требовалось бы при общем указании на особое самочувствие умирающего: «почувствует свое умирание» звучит очень субъективно сравнительно с предметным образом смерти как чего–то зримого нами вне нас самих. Иначе говоря, смерть представляется здесь не как состояние нашего организма, а как некое существо, которым причиняется такое состояние. В Апокалипсисе это понимание смерти раскрывается с полной определенностью: последнее событие истории человеческого греха – «ввержение смерти в серное озеро» [309]309
Откр.20:10.
[Закрыть]. С другой стороны – не может не заставить задуматься постоянный образ всех религий, как языческих, так иудейства, магометанства и христианства, – образ ангела смерти или гения смерти, вообще духовного существа, перерезающего нить жизни и принимающего новорожденную в иной мир душу. Замечательно то, что этому образу непременно сопутствует представление о режущем орудии, том или ином; им перерезывается пуповина, удерживающая душу при теле. Коса, нож, меч, серп, ножницы и т. д. – различны эти орудия смерти, но назначение их всегда и везде – одно.
Мифологический образ никогда не бывает и не может быть нарочитым олицетворением отвлеченных понятий или внутренних переживаний; как бы ни толковали психологический процесс, его пред нами ставящий, несомненно – он стоит пред нами, он пластичен, он есть видение, а не мысль только; хотя и связанный с нами внутренно, он, однако, предметен. Так и ангел смерти не может быть толкуем в качестве словесного пересказа мысли о кончине и ощущении кончины; он в самом деле видится умирающими, и чаще всего в ужасе и смятении. Сравнительно редко умирающие говорят о своем видении смерти, и не потому, что не могут сказать, а по чувству тайны. Об этой гостье иного мира нельзя сообщать живущим. Обычно, когда в величайшем ужасе умирающий уже не может скрыть своих чувств и его взгляд, обращенный в определенную сторону, его отрывочное восклицание и непроизвольный жест самозащиты выдали присутствующим, что с ним происходит нечто особенное, в ответ на расспросы их умирающий отмалчивается или старается усыпить бдительность окружающих какими–нибудь неопределенными словами. То, что испытывает он, на языке мистериальном называлось άρρητογ или άπόρρητογ, ineffabile. Это несказанное – «о нем же не леть человеку глаголати» [310]310
1 Кор.12:4.
[Закрыть], не то что невозможно сказать, но не должно говорить, может быть потому, что всякое слово об этом окажется, по Тютчеву, «ложью» и будет хотя и то, но совсем не то. Тут охватывает при всех таких видениях властное ощущение запретности: если скажешь, то произойдет нечто непостижимо страшное, и, когда при разговоре мысль приведет к бывшему видению и оно почти выскочит на язык, вдруг встает какая–то преграда, и, весь в ужасе, человек с разбегу останавливается пред нею, как перед пропастью открывшейся. Это–то чувство, но несравненно более могущественное, и запечатывает уста умирающего.







