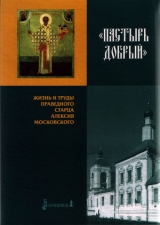
Текст книги "Пастырь Добрый"
Автор книги: Сергей Фомин
Жанры:
Религиоведение
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 26 (всего у книги 57 страниц)
Отец Алексий и преподобный Серафим
Отец Алексий был в Серове на открытии мощей Преподобного, видел многие чудеса, совершаемые им, и всегда с глубокой верой и умилением вспоминал Преподобного. Праздник же Преподобного всегда особенно радостно и торжественно праздновался на Маросейке.
В 1922 году летом отец Сергий Николаевич Дурылин, возвратясь от Литургии на Маросейке в часовню Боголюбской Божией Матери [165]165
Часовня Боголюбской иконы Божией Матери в Варварской башне Китай–города. Еще в XVII в. на наружной стене Варварских ворот Китай–города, выходивших на Соляную площадь, была установлена Боголюбско–Московская икона Божией Матери (на этом образе, написанном в конце XVII в., Царице Небесной молитвенно предстоят св. блгв. Кн. Андрей Боголюбский, Святители Московские Петр, Алексий, Иона, Филипп, блаженные Василий и Максим Московские, Святитель Василий Великий, св. мч. Параскева, св. Симеон, сродник Господень, прп. Параскева, а также ап. Петр, св. Алексий, человек Божий, и прп. Евдокия). Во время чумы 1771 г. москвичи, узнав о чудесных случаях исцеления жителей Владимира, прибегавших к молитвам перед образом Боголюбской иконы Царицы Небесной, спустили икону с ворот и стали служить ей молебны. «В XIX в. июньское празднество в честь иконы обычно продолжалось в Москве три дня. Накануне, когда собирался народ, хор пел канон Пресвятой Богородице. Икону опускали со стены и устанавливали на возвышении. Служили молебны, народ поклонялся святыне. Начинался праздник благовестом ко всенощному бдению в храме во имя Всех Святых на Кулишках, расположенном неподалеку, и заканчивался крестным ходом, после которого икона снова утверждалась на своем месте – «на вратах». В 1880 г. по ходатайству митр. Московского Иннокентия была построена часовня у Варварских ворот, в которую перенесли чудотворный образ, а над вратами поместили его точный список, также прославленный чудотворениями» (Прот. А. Акимов. Московская Боголюбская икона Божией Матери // Журнал Московской Патриархии. 1982. № 7. С.16—17). В 1918 г. список иконы со стены, называвшийся «заместительница» (поскольку заменял главный, когда его уносили с крестными ходами), перенесли в храм Воскресения Христова в Сокольниках и поместили в украшенном киоте в приделе во имя первоверховных апостолов Петра и Павла (где он находится и до сих пор). Часовня была закрыта в 1923 г. (главная икона перенесена в храм Aпп. Петра и Павла у Яузских ворот). Снесена в 1928 г.
[Закрыть], где он был настоятелем, рассказал следующий случай: Говорят, чудес нет. А я вот сегодня был свидетелем такого чуда. В наш храм на Маросейке пришла женщина, она много плакала и рассказала о себе следующее: она жила в Сибири, в городе Тобольске. Во время гражданской войны у нее пропал сын, она не знала, жив ли он или умер. Она много плакала и молилась. Однажды она много плакала об этом в молитве к преподобному Серафиму. В молитве она изнемогала от слез и вдруг видит преподобного Серафима, который топориком рубил дрова. Вдруг, обернувшись к ней, он сказал: «А ты все плачешь! Поезжай в Москву на Маросейку, к отцу Алексию Мечеву. Сын твой найдется».
И вот женщина, которая ни разу в Москве не была, имени отца Алексия Мечева не слыхала, решилась на такой дальний, по тем временам, путь. Ехать приходилось то на товарном, то на пассажирском поезде. Бог знает как она добралась, но, наконец, не только добралась до Москвы, но и нашла и церковь, и Батюшку, на которого указал Преподобный. Вот поэтому–то слезы умиления и радости текли у нее по лицу. Так закончил свой рассказ отец Сергий. Что же стало с ее сыном, нашла ли она его? Кого спросить об этом, я не знал. Сотни необыкновенных случаев совершались еженедельно в храме, случай этот как бы утонул среди всех других, а отец Сергий уехал в ссылку. Я думал, что никогда не узнаю конца этой чудесной истории.
22 июня 1923 года преставился к вечным обителям отец Алексий.
На поминках его было собрано весьма много народа, большинство его духовных детей. Говорили о разных случаях из его жизни, о его прозорливости, о его умении утешать страждущих и умиротворять их, но никто не вспомнил, или не знал о случае с этой женщиной. Тогда я, пересказав рассказ отца Сергия, спросил, не знает ли кто из присутствующих эту историю, не знают ли, нашла ли мать своего сына?
Кто–то из далеко стоящего от меня стола оказался сведущим. Михаил Данилович А. [сикритов] [166]166
Михаил Данилович Асикритов.
[Закрыть] сказал всем присутствующим: «Да, была эта женщина, нашла своего сына, приезжала еще второй раз в Москву и поставила в церкви свечку в знак благодарности». Вот так любвеобильный старец отец Алексий оказался связанным с другим любвеобильным старцем, святым и преподобным отцом Серафимом Саровским. Из жития Преподобного мы знаем, что он отсылал Мотовилова для исцеления на мощах святителя Митрофана Воронежского [167]167
Святитель Митрофан (1627 – 23.11.1703), епископ Воронежский – уроженец Владимирской губернии, происходил из духовной семьи. Овдовев, поступил в Злотников монастырь Владимирской епархии. После пострига и рукоположения во иеромонаха был настоятелем монастырей. Хиротонисан во епископа Воронежского (2.4.1682). Принял схиму с именем Макария (2.8.1703). В самый день кончины его посетил Император Петр I, глубоко почитавший Святителя и специально приехавший для этого в Воронеж. Несший гроб его до могилы Император сказал окружающим: «Не осталось у меня более такого святого старца!» Святые мощи свт. Митрофана были обретены нетленными в 1717 г., а в 1832 г. он был причислен к лику святых, причем совершилось много чудес, которые не прекращаются до нашего времени. Во время одного из своих явлений Святитель велел молиться об упокоении души Императора Петра Великого. Память 23 ноября.
[Закрыть].
С другой стороны, когда один болящий молился святителю Митрофану Воронежскому, тот отослал его просить исцеления у преподобного Серафима, говоря, что он велик перед Господом.
Настоящий случай показывает духовное родство батюшки отца Алексия к нашему великому святому преподобному отцу Серафиму Саровскому.
Печатается по машинописной копии из архива Е. В. Апушкиной. Автор неизвестен.
Дух Маросейки. Диакон Владимир Сысоев
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!
«Сия есть заповедь Моя, да любите друг друга, якоже возлюбих вы» (Ин.15:12—13). Так написано на скромном деревянном кресте, водруженном на могилке батюшки о. Алексея. И когда приходишь к этой могилке, когда читаешь эти безсмертные слова, то никогда не приходит на мысль, что Батюшка умер, что любовь его, великая и самоотверженная, погребена здесь, в сырой могиле. Нет, Батюшка жив, и любовь его жива, как живо Евангелие, как жив Христос, Которому, как добрый и верный раб, служил покойный старец. И приходят к этой могилке труждающиеся и обремененные, алчущие и жаждущие правды, приходят, как приходили когда–то на Маросейку, и вот весь Батюшка; такой простой, живой и любящий, встает перед нами в написанных на кресте евангельских словах. «Дети мои, – как бы говорит он, – вы страдаете вы томитесь, вам тяжело жить на свете? Но все это оттого, что нет любви между вами, что зло и грех повелевают вами. Имейте же усердную любовь друг к другу, потому что любовь покрывает множество грехов (1 Петр.4:8). Любите же друг друга! Носите тяготы друг друга, – ибо в этом заключается весь закон Христов».
Храм Свт. Николая в Кленниках
Да, давно были написаны эти божественные слова, давно был принесен на Землю закон любви Христовой, – но и до сих пор люди не поняли любящего и велевшего любить Христа. «В мире был, и мир через Него начал быть, и мир Его не познал» (Ин.1:10). И только такие подвижники, которые могли любить горячо и самоотверженно, которые побеждали кротостью злобу мира сего, заставляли человечество обращаться к Распятому, искать у Него разрешения своих вечных мировых загадок, учиться у Него любить безкорыстно и искренне. Трудно человеку одному жить на свете, трудно справляться с жизненными бурями, ему нужен спутник, нужен кормчий. «…Дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого бы поглотить» (1 Петр.5:8). И души, блуждающие во мраке одиночества, легче всего поддаются его искушениям, легче воспринимают от него семена зла, питающие его порочные наклонности или самолюбие. Здесь–то и нужен вожатый, опытный и искусный, который знал бы малейшие изгибы человеческих душ, который и сам был бы примером любви для ведомого. «Повинуйтесь, – сказано, – наставникам вашим и будьте покорны, ибо они неусыпно пекутся о душах ваших…» (Евр.13:17). Ими, этими наставниками, вожатыми душ, старцами, как мы их называем, держится мир христианский. Это опора, на которой воздвигнуто здание любви и добрых дел. Это поистине возгреватели души христианства, без которых оно превратилось бы в холодную рутину, в собрание умственно понимаемых догматов и обрядов. А знавшие о. Алексея поймут, что для многих, многих и многих он был возгревателем, кормчим, наставником, пламенным херувимом, который сумел возжечь во многих святой огонь любви, загаснувший было в холоде людской злобы и ожесточения. Не знавшим же Батюшку оставляются эти записки, которые хотя и плохо написаны, и человеком, недостойным ничьего внимания, но написаны искренне и с теплым желанием пробудить в душе каждого читающего их – любовь к этому великому человеку. Не жалейте, не знавшие Батюшку, что вы не были его духовными чадами! Пойдите к его могилке, наклонитесь к травке ее или покрову снежному и попросите его принять вас в число его детей духовных. И будьте уверены, что он услышит просьбы ваши, что он ежедневно будет возносить молитвы свои за вас перед престолом Божиим. Приходите к нему, читайте слова Евангелия на его деревянном кресте и учитесь любить! Читайте о нем, ищите людей, которые его знали, говорите с ними, расспрашивайте, поучайтесь. И тогда много–много скажет вам эта скромная могилка, и хоть вы и не знали его на земле, он будет для вас тем же добрым, любящим Батюшкой, каковым знали его мы.
***
Поминайте наставников ваших, которые проповедывали вам слово Божие и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их. (Евр.13:7)
Я познакомился с Батюшкой о. Алексеем вскоре же после февральской революции 1917 года. Помню, когда я в первый раз пришел в церковь на Маросейку, то меня многое здесь смущало. Это было поистине столкновение разума с сердцем, законничества, с одной стороны, и великой любви, покрывающей и исполняющей закон, с другой стороны. Я много буду говорить об этом первом впечатлении, об этом смущении внутреннем, потому что многие, подобно мне, смущались, а, может быть, и до сих пор остаются в смущении и неведении относительно «духа Маросейки», а кроме того необходимо указать, как пагубно бывает разумное понимание религии, и сколь часто это понимание препятствует понять мировоззрение даже таких подвижников, как Батюшка, каждый шаг которого – есть убеждающая и покоряющая любовь.
Итак, я был смущен, что мало любил Бога, что в религии видел только путь к удовлетворению жаждущего и любопытствующего рассудка. Мне нравилась строгая, стройная и целесообразная система догматов, меня восхищала красота и однообразие повсеместное священных обрядов. Я веровал в Бога, был предан Церкви, но мало любил Господа. Это разумное, холодное отношение к религии и погубило меня впоследствии и заставило отойти даже от Батюшки. Так учитесь же, особенно вы – молодежь, на примере падшего человека, как страшно веровать и не любить. Эта вера подобна вере падших ангелов, как написано у апостола (Иак.2:19). Эта вера мертвит, а не животворит, заставляет трепетать – отнимает молитву, заставляет отдавать дань Богу и в то же время погашает надежду. В механическом выполнении обрядов, во внешних формах религиозной жизни, – она видит смысл религии, а о любви и добрых делах говорит вскользь, как о чем–то второстепенном.
Придя на Маросейку (как помню, это было не то в среду, не то в пятницу: обедня была поздняя и после нее водосвятие), я увидел следующее: низенький, морщинистый, со всклоченной бородой священник и старый диакон совершали службу. На священнике была полинявшая камилавка: служил он как–то поспешно, и, казалось, небрежно, поминутно выходил из алтаря, исповедывал на клиросе, иногда разговаривал, смеялся, искал кого–то глазами, сам выносил и подавал просфоры. Все это, а особенно исповедь во время совершения Литургии, на меня подействовало весьма неприятно. И то, что женщина читала Апостол, и то, что слишком много было причастников, и неурочное водосвятие после Литургии, – все это совсем не вязалось с моими убеждениями о необходимости однообразия церковного чина. Как помню, эти «Маросейские порядки» смущали многих непонимающих, да и мне понадобилось много времени, чтобы привыкнуть к ним, а затем и понять их как должно. Ушел я из церкви в великом томлении духа. И когда, потом, я узнал, что этот низенький, старенький священник есть тот самый о. Алексей, к которому ходят на советы, – то это заставило меня еще больше задуматься над вопросом: как же это такой уважаемый и известный пастырь может допускать в своем приходе отступления от Устава, каждая буква которого для ревнителя Православия должна быть священна?
Однако, все же я иногда захаживал на Маросейку в церковь, а потом стал ходить очень часто, потому что особенно нравились мне вечерние проповеди, вернее, разговоры душеспасительные с народом, которые Батюшка одно время довольно часто вел в будние дни. В этих проповедях я старался вникнуть в личность о. Алексея, понять, что он есть за человек, и чем больше я думал об этом, тем больше меня тянуло к этому доброму улыбающемуся старичку, который в простых словах беседы сумеет так нежно и бережно затронуть твою душу, что невольно хочется плакать и смеяться, и, кажется, никогда не вышел бы из этой маленькой церковки, никогда не ушел бы от маленькой фигурки Батюшки на амвоне, за аналоем, со свечкой в руке читающего и объясняющего слова святых подвижников или жития их.
Батюшка любил жития святых. Он сам много перечитал их, и в каждом он умел найти назидание, необходимое для пришедшего к нему человека. И проповеди эти вечерние состояли большей частью из объяснений житий.
Скоро я, как–то невольно, зачастил на Маросейку, привык к богослужению, и «неуставность» его меня более не смущала. Наоборот, нигде я не мог молиться так горячо и искренне, как на Маросейке. Здесь чувствуется какая–то «намоленность», какая–то заражающая молитвенная атмосфера, какой не находишь в других церквах. В то время, как люди по традиции или из желания послушать диакона и хор идут в богатые и известные храмы, – сюда люди ходили исключительно молиться. Этим и объясняется тот всеобъемлющий дух молитвы, который не только меня, верующего, но и неверующих – заставлял молиться здесь.
Я помню, как на моих глазах совершилось одно превращение. Ходил на Маросейку какой–то мужчина, по всей видимости неверующий, – потому что, сколько раз я за ним ни наблюдал, – он никогда не крестился, не кланялся и несколько насмешливо поглядывал на священнослужителей. Так продолжалось несколько месяцев. Затем, приходя в храм, я застал его молящимся на коленях и истово крестящимся. Это меня и удивило и обрадовало. А когда я заметил, что он подходит к Евангелию, принимает благословение и целует руку священника, я окончательно убедился, что он добрый православный. Да и лицо у него стало какое–то другое: радостное и умиротворенное. Таких примеров сотни. Придет человек полюбопытствовать, иногда даже покритиковать, посмеяться, а, смотришь, через месяц–другой стоит у амвона и двигается к Причастию. Кто же виновник таких чудесных превращений? Батюшка! Это он создал на Маросейке дух любви, молитвы и отрешения от суетного мира, который жив и теперь, после его смерти, и будет жить до тех пор, пока пасут Маросейское стадо преемники и духовные наместники Великого пастыря.
Теперь только, когда я уже был знаком с Батюшкой лично и когда удостоился служить вместе с ним алтарю Христову, – я вспомнил мое первое впечатление, смущение и затем первое озарение духом Батюшки, – и понял, насколько глубоко я заблуждался тогда.
1
«…Знание надмевает, а любовь назидает» (1 Кор.8:1). Это любил говорить Батюшка, когда я был уже его духовным сыном и приходил к нему за разрешением волнующих меня вопросов. Разум мой «кичил», и довольно часто, так что при всей моей любви к Батюшке и радости «по Бозе», которую я испытывал, находясь с ним, – я не был свободен от мудрствования и сомнений. Придешь, бывало, к нему и спросишь о каком–нибудь сложном догматическом положении. А он ответит с улыбкой: «Да что ты меня спрашиваешь? Я неграмотный». А если уж очень увлечешься толкованиями и размышлениями, он возьмет меня за плечо, ласково–ласково посмотрит, иногда поцелует и скажет: «Ишь ты какой! Ты все умом хочешь жить, а ты вот живи как я, – сердцем».
Этой–то жизнью сердцем и объяснялись те многие «неуставности» в церковной службе, которые допускал Батюшка. В то время, как разум говорил, что нужно считаться с предписаниями Устава, не исповедывать во время Литургии, не вынимать просфор после «Херувимской», не причащать опоздавших после Литургии в северных дверях и т. д., и т. п., сердце Батюшки, горячее и любвеобильное, заставляло его не слушаться разума. «Ну как я откажу в исповеди, – говорил он. – Может эта исповедь – последняя надежда у человека, может быть, оттолкнув его, я причиню гибель его душе. Христос никого не отталкивал от Себя. Он всем говорил: «Приидите ко Мне вси труждающиеся и обремененные и Аз упокою вы». А кто теперь не труждается, кто не обременен различными скорбями? Все угнетены, все озлоблены; и на улице, и на службе, и даже в домашней обстановке кроме ссор, свар и злобы ничего не встретишь, – единственное место, где человек может отдохнуть и примириться с Богом и людьми: это храм Божий. И вдруг – он увидит, что его отталкивают, не допускают ко Христу! Вы говорите: закон! Но там, где нет любви, закон не спасет, а настоящая любовь – есть исполнение закона» (Рим.13:8.10). Поэтому–то Батюшка с чистым сердцем и спокойной совестью исповедывал во время Литургии, причащал в неурочное время, желая всем и каждому доставить утешение и радость духовную.
И сколько бы ни было исповедников, – он не отойдет от аналоя на левом клиросе (где обыкновенно совершалась исповедь) до тех пор, пока не отпустит и не удовлетворит всех. «И пришедшего в шестый, якоже и единодесятый час» – он одинаково принимает, одинаково улыбается ему своей доброй, согревающей улыбкой. Сам возьмет поминание или записку, сам вынесет просфору, а то скажет пару теплых слов, похлопает по плечу, и скажет: «Ишь ты какой!», – и отходит человек просветленный, и успокоенный. Кажется, ничего такого не сказал Батюшка, но от одного его лица, от улыбки, его глаз – струится такая нежность, такое понимание человека, – что это само собой утешает и ободряет без всяких слов.
Вот почему Батюшка мог за день принимать безчисленное количество народа. Очередь к нему на квартиру «труждающихся и обремененных» становилась с раннего утра. И Батюшка успевал с каждым поговорить, каждого приласкать, каждого утешить! И в то время, как другой священник какой–либо успеет едва с одним поговорить, – Батюшка отпустит уже десять человек. Все это происходило потому, что Батюшка утешал скорбящих и давал советы не разумными толкованиями, не учеными рассуждениями, а голосом своего сердца, многолетним опытом своей любви. И случалось так, что в одном–двух словах – он отвечал на вопросы всей жизни, на сложнейшие жизненные запутанности. Эти слова, правда, иногда были странны. Придешь, бывало, к нему: на душе тяжело, кошки скребут, а он расскажет тебе какой–нибудь веселенький анекдот – и не поймешь сначала, в чем дело? А потом окажется, что этот анекдот и был ответом на все твои скорби и сомнения. Очень часто в этих коротких ответах, анекдотах или рассказах из своей пастырской практики сквозила и прозорливость Батюшки, его предвидение будущего.
Он сам объяснял это своим многолетним опытом, но несомненно, что кроме этого здесь действовала присущая святым Божественная благодать, позволяющая Батюшке проникать в самые сокровенные тайники сердец человеческих. Поэтому к нему, чуждому светской науки, «неграмотному», как говорил он сам, – приходили и ученые, и профессора, и студенты, и инженеры, и оккультисты, и мистики различных толков, и врачи, и коммунисты, и протестанты, и католики, и даже евреи. Всем, без различия их национальности, положения, возраста, вероисповедания, умственного развития, – всем он был любящим, добрым отцом, который, не затрагивая их больных мест, не касаясь их веры, обычаев, убеждений, – умел дать добрый совет, приласкать, успокоить, помочь материально и нравственно. Нет человека, который знал Батюшку, и мог бы сказать о нем что–либо дурное. Никогда никого не обидит, не затронет ничьего самолюбия, не вспылит, не накажет.
Помню, – много оскорбляющих Батюшку поступков было совершено за время моего служения с ним, – и мною лично, и другими, – он никогда не сердился, никогда не наказывал. Скажет только: «Эх, ты какой? Разве так можно?» И все. И улыбнется при этом ласково–ласково. От одной этой улыбки виноватый чувствовал свою вину, падал в ноги дорогому Батюшке и просил прощения. А если уж очень оскорбят Батюшку нерадением о его духовных чадах, прекословием его любви, напоминанием о «букве убивающей», – Батюшка заплачет и скажет: «Простите меня, дорогие, может быть, я не так делаю, но уж очень жалко мне людей, и хочу, чтобы всем хорошо было». И в ноги поклонится.
И при этом нужно заметить, что Батюшка никогда не обижался на какую–либо грубость по отношению к себе лично. У него не было ни капли гордости или даже самолюбия. «Я – что, я убогий», – говорил он. Единственно, что делало ему больно, это непонимание его души, его сердца, его любви к ближнему. «Не понимаете вы меня», – скажет он, а сам плачет, плачет. Бывало откажет священник причастить опоздавшего или вынуть просфору после «Херувимской», а Батюшка уж весь дрожит от слез. «Да разве можно так?» – скажет он, и причащает сам, или сам же вынимает просфору, никому никогда в жизнь свою не сказал Батюшка грубого или оскорбительного слова. Даже для диавола было у него … выражение: «окаяшка» [168]168
В этом месте своих воспоминаний (см. полный текст этого фрагмента в кн.: Отец Алексей Мечев. С.32) их автор, думается, не во всем точен. Гораздо ближе к истине, видимо, другой прихожанин Маросейки: Следует упомянуть, что те из Святых Отцов и подвижников, которым дано было близко соприкоснуться с темной силой в противоборстве с ней (напр., преп. Антоний Великий), не любили много говорить и открывать о ней, считая это ненужным или, может быть, опасным. Другим примером является старец о. Алексей М. [ечев], который никогда не говорил своим духовным детям про лукавого и бесов. Они как бы не существовали для него, и он не хотел их знать. Его молитва и осияние Святым Духом отгоняли от него и его близких духовных детей всю темную силу, и он поэтому как бы не знал ее и не встречался с ней. И вряд ли христианину нужно подробно знакомиться с сатаною, его царством, его свойствами и проявлениями. Можно думать, что здесь следует ограничиться тем, что открывает об этом Св. Писание и Творения Св. Отцов Церкви. И хотя христианину и нужно знать про все виды воздействия на его душу темных сил, но не надо искать и читать той литературы, которая непосредственно открывает ужасающий образ страшного врага человека и ту бездну ужасов, греха, порока и безобразия, которые насаждены им в человечестве. Зачем душой спускаться ко тьме, когда спасение души в приобщении к свету? И полезно ли дышать ядовитыми испарениями, которые идут из этой тьмы? И если эти испарения проникают в нас, то не надо ли скорее уходить от них на чистый воздух – веяние Духа Святого? Надо помнить, что по закону подражания опасно все, что порождается сатаной, – все виды порока и греха, страстей и пристрастий, лжи и лжеучений, душевного безобразия и нечистоты. И чем дальше стоять от них, чем меньше они западают в душу, тем безопаснее для души (Пестов Н. Е. Современная практика Православного благочестия. Кн. I. СПб. «Сатисъ». 1994. С.121).
[Закрыть]. «Это все окаяшка тебя смущает! Ишь он какой!» – скажет он бывало… Да, многое значит «жить сердцем», и хорошо нужно знать Батюшку, чтобы понять многие его дерзновения перед Господом.
«…Знание надмевает, а любовь назидает». Но это не значит, что Батюшка был против знания. Он был лишь против холодного рассудочного знания, против «буквы убивающей», против растлевающего материализма. И в религии он прежде всего и выше всего ставил этическую сторону, и не любил отвлеченных догматических вопросов, а тем более, темной оккультной мистики, в которую иногда пускались духовные чада. Он не был ни догматистом, ни ревнителем правил и уставов; ни, с другой стороны, мистиком, плавающим в волнах трансцендентных фантазий. Он был пастырем–практиком, знающим жизнь и дающим жизненные советы не на основании отвлеченных умозаключений, а на основании жизненных же, реальных явлений.
Сколько пылких, восторженных юношей, фантазеров и мечтателей под его влиянием делались такими же практиками! «Это, знаешь, – говорил он мне, – можно в такие дебри залезть с умствованиями, что с ума сойдешь».
И вот придет к нему юноша, скажет: «Батюшка, я хочу жениться, я люблю безумно». И начнет говорить о вечной любви, пустится в философию, – а Батюшка слушает, слушает, да и скажет: «Да ты знаешь ли, что такое брак? Брак есть крест». Юноша начнет спорить, а Батюшка в ответ приведет какой–нибудь пример из жизни, например, – поженились двое, потом начались у них разлады да ссоры, и окончилась их горячая любовь разводом. Юноша сердится, не понимает, думает: «Мало ли там что бывает – значит они не любили друг друга, а вот у нас–то и есть настоящая вечная любовь». Так уйдет от Батюшки, не послушает мудрых слов, – а после приходится раскаиваться. Придет к Батюшке, станет плакать, а Батюшка поцелует его да скажет: «Ишь ты какой! Вот не слушался меня. Видишь что вышло? Будь же впредь послушным». И тогда поймет мечтатель, что жизнь есть жизнь, и что только крепко знающие жизнь могут давать мудрые жизненные советы. И закается делать что–либо без благословения Батюшки, и станет ему легко и радостно жить на свете.
Так и всякого человека не догматом, не рассуждением умственным убеждал Батюшка, а примером из жизни. Любил он для этого брать жития святых и подвижников, творения Св. Отцов, а то и разные примеры из современной жизни. Книг отвлеченных он почти не читал. Помню, мне говорил часто: «Что это ты все философии да богословия читаешь. Ты возьми почитай жития, почитай авву Дорофея» [169]169
См. прим. 167 Ср. с советами старца Нектария Оптинского. Впоследствии протоиерей, Сергий Щукин вспоминал: «Летом 1918 года, когда уже вся русская жизнь была потрясена до основания, предо мной – как и перед всей интеллигенцией – стал вопрос: что делать дальше? Многие категорически отказывались поступать на службу в новые большевицкие учреждения, рассчитывая на скорое падение их власти. Другие ждали иностранного вмешательства и выжидали. И когда частные и общественные учреждения закрывались, то безработные интеллигенты предпочитали торговать всяким старьем или жить на продажу своих вещей, чем идти на службу к большевикам. Наконец наступил и для меня такой момент […] Вот в эти–то дни я особенно начал думать о необходимости поехать в Оптину, чтобы посоветоваться со старцем. […] Когда о. Нектарий подошел ко мне, я начал как можно короче объяснять мое положение […] Как я уже упоминал, мои трудности заключались в том, какую выбрать службу и чем руководствоваться при этом. А о. Нектарий ответил мне примерно так (подлинных слов не помню, но смысл их таков): – Да, да, служите, конечно… вы ведь человек ученый. Но только не гонитесь за большим… а так, понемножку, полегоньку… [Ср. со словами о. Алексия: «Не задавайтесь большими заданиями, а делайте лишь то, к чему призовет Господь» (Пестов Н. Е. Современная практика Православного благочестия. Кн. III. С.294). – С. Ф.] […] Старец […] НИКОМУ НЕ ПОДАЛ НИ МАЛЕЙШЕЙ НАДЕЖДЫ на то, что новая власть скоро кончится. Напротив, о. Нектарий многим говорил о необходимости терпения, молитвы, подготовки к еще большим испытаниям…» (Цветочки Оптиной пустыни. С.138—139, 141). Тут же уместно будет привести запись, характеризующую отношение о. Алексия к большевицким властям: В конце 1924 г. в Москве к прозорливому старцу протоиерею о. Алексею Мечеву, настоятелю церкви на Маросейке, пришел незнакомый ему господин, сославшийся на рекомендацию своей тетки, хорошо известной о. Алексею, и просил принять его. О. Алексей был болен сердечною болезнью и лежал в постели, но тем не менее принял его. Господин этот собирался законным образом с семейством выехать из Москвы на свою родину, отошедшую в пределы другого государства, и пришел просить у о. Алексея благословения на этот шаг. О. Алексей охотно благословил его и совершенно неожиданно сказал ему резко: «Вы не воображайте, что ваше дело спасать Россию, – это совсем не ваше дело. Когда придет время, то Бог пошлет нужных людей, которые это дело сделают и уничтожат большевиков так, как буря ломает мачтовый лес». Месяца через два или три о. Алексей скончался. Эти слова очень поразили пришедшего, т. к. он ни о чем с о. Алексеем не беседовал, а между тем голова его была полна мыслями о том, что как только он выедет за границу, то сейчас же начнет читать на трех языках лекции и писать книги о том, что делается в России. Прозорливость старца была так ясна, что господин тот оставил политику и занялся другим (Сурский И. К. Отец Иоанн Кронштадтский. Т.1—2. М. «Паломник». 1994. С.185)
[Закрыть]. Не понимал я тогда, почему это мне Батюшка так советует. Не потому мне это советовал он, что считал это ненужным вообще, а потому, что меня лично, как мистика и фантазера, губило такое отвлеченное направление, делало жестким, сухим и неспособным к теплому чувствованию. Я был далек от жизни, ее скорбей и радостей, ее праздников и будней, ее лица и изнанки, – а Батюшка хотел обратить мое внимание к жизни. «Учись жизни, изучай людей, делай добро», – вот в кратких словах то, к чему хотел направить Батюшка мои мысли. Религия – не в успокоенном блестяще скомбинированными догматами разуме, а в деятельной любви, служении ближним. Не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, Которого не видит? (1 Ин.4:20). Любовь есть энергия и двигатель христианства, а разум есть только рабочая сила у сердца.
Быть с людьми, жить их жизнью, радоваться их радостями, печалиться их скорбями, – вот в чем назначение и уклад жизни христианина, а особенно пастыря. Для самого Батюшки давно уже не существовала личная жизнь, – он очень редко оставался наедине с собою, и, помню, когда даже тяжелые болезни заставляли его, по предписанию врачей, ограничивать приемы, не выходить в церковь, – он тяготился этим и весьма часто нарушал свой режим. И готовящимся быть священником он указывал на свой жизненный путь, как на образец пути пастыря. «Ты не думай, – говорил он, – что быть народным священником – удел немногих избранных. Вот я – всю жизнь с народом, я – народный священник, и на меня смотрят, как на диковинку, а между тем каждый пастырь должен быть таким, «народным»». И когда я, помню, приходил к нему с сомнениями насчет своего пастырства, он успокоительно говорил: «Ты будь покоен. Пастырем ты будешь, я в этом уверен. Но нужно тебе измениться. Ты вот с собой носишься, «блажишь», свое личное переживаешь, а попробуй жить для людей, ну хоть для своих родных, или близких, живи их радостями и скорбями – и забудь о своем личном, увидишь, как хорошо тебе будет».
«Друг друга тяготы носите, и тако исполните закон Христов». Батюшка о. Алексей носил на себе безмерные и безчисленные тяготы и скорби приходивших к нему людей, поэтому всем разумным толкователям религии он мог смело ответить словами Спасителя: «Не нарушать пришел Я закон, но исполнить» (Мф.5:17). И в том, в чем люди уже видели соблазн и нарушение закона, открывается для нас великая тайна Батюшкиной любви, покрывающей множество грехов. (Притч.10:12; 1 Петр.4:8). «Я твои грехи на себя беру», – говорит Батюшка одному. «Ты меня только слушай, а отвечаю за тебя Господу – я», – говорит он другому, разум которого не может согласиться с советом или повелением Батюшки. Не знающему Батюшки человеку, а тем более неверующему в этих словах не показывается ничего особенного, но тем, кто знал пламенную веру старца, – понятно, что такие страшные и ответственные слова он не мог произносить механически, по заученной формуле, – но что в них он действительно перекладывал на себя тяготы другого. Этим и объясняется та удивительная легкость на душе, радость и спокойствие «обремененных», уходивших от Батюшки. Он действительно, как он сам говорил, «разгружал» их, превращал их из отчаявшихся, угнетенных пессимистов в христиан, постоянно радующихся о Бозе. Стоит только взглянуть в его памятную книжку, испещренную сотнями имен и живых, и усопших, книжку, с которой он никогда не расставался, чтобы понять его собственные слова, которые говорил он, указывая на свое сердце: «Я всех вас здесь ношу!»
Многие думали, что Батюшка, чуждый разумного понимания религии, проповедующий «жизнь сердцем», – является противником всех разумных достижений: культуры, науки, искусства, техники, что он есть именно один из тех «неприемлющих мира», каковыми являлись многие из подвижников, особенно из числа монашествующих. Нет, окружающие его студенты, техники, художники, писатели знают, что Батюшка не только не высказывался против культуры, но, наоборот, поощрял тех, кто занимался науками и искусством, если все это делалось во славу Божию. Батюшка был только против обоготворения науки, обоготворения разума, – поэтому он многих предостерегал от уклонения в отвлеченность, указывая, что задача истинного пути – дать человеку практические, реальные знания, а вовсе не решать отвлеченные вопросы о происхождении мира или бытии Бога. Равным образом в жизни общественной: он был одновременно и добрым пастырем, и честным гражданином. Он призывал каждого из своих духовных чад честно выполнять свои обязанности гражданина, если только они не противоречат заветам Христа. Помню, в тяжелое голодное время 1920—1921 гг. многие служащие советских учреждений говорили Батюшке, что они манкируют службой, опаздывают, сидят без дела, потому–де, «все равно безбожникам не стоит работать», – и он в силу послушания заставлял их проникнуться чувством долга и честно работать «не за страх, а за совесть», указывая на пример древних христиан, исправно плативших подати безбожным римским властителям [170]170
Ср. с советами старца Нектария Оптинского. Впоследствии протоиерей, Сергий Щукин вспоминал: «Летом 1918 года, когда уже вся русская жизнь была потрясена до основания, предо мной – как и перед всей интеллигенцией – стал вопрос: что делать дальше? Многие категорически отказывались поступать на службу в новые большевицкие учреждения, рассчитывая на скорое падение их власти. Другие ждали иностранного вмешательства и выжидали. И когда частные и общественные учреждения закрывались, то безработные интеллигенты предпочитали торговать всяким старьем или жить на продажу своих вещей, чем идти на службу к большевикам. Наконец наступил и для меня такой момент […] Вот в эти–то дни я особенно начал думать о необходимости поехать в Оптину, чтобы посоветоваться со старцем. […] Когда о. Нектарий подошел ко мне, я начал как можно короче объяснять мое положение […] Как я уже упоминал, мои трудности заключались в том, какую выбрать службу и чем руководствоваться при этом. А о. Нектарий ответил мне примерно так (подлинных слов не помню, но смысл их таков): – Да, да, служите, конечно… вы ведь человек ученый. Но только не гонитесь за большим… а так, понемножку, полегоньку… [Ср. со словами о. Алексия: «Не задавайтесь большими заданиями, а делайте лишь то, к чему призовет Господь» (Пестов Н. Е. Современная практика Православного благочестия. Кн. III. С.294). – С. Ф.] […] Старец […] НИКОМУ НЕ ПОДАЛ НИ МАЛЕЙШЕЙ НАДЕЖДЫ на то, что новая власть скоро кончится. Напротив, о. Нектарий многим говорил о необходимости терпения, молитвы, подготовки к еще большим испытаниям…» (Цветочки Оптиной пустыни. С.138—139, 141). Тут же уместно будет привести запись, характеризующую отношение о. Алексия к большевицким властям: В конце 1924 г. в Москве к прозорливому старцу протоиерею о. Алексею Мечеву, настоятелю церкви на Маросейке, пришел незнакомый ему господин, сославшийся на рекомендацию своей тетки, хорошо известной о. Алексею, и просил принять его. О. Алексей был болен сердечною болезнью и лежал в постели, но тем не менее принял его. Господин этот собирался законным образом с семейством выехать из Москвы на свою родину, отошедшую в пределы другого государства, и пришел просить у о. Алексея благословения на этот шаг. О. Алексей охотно благословил его и совершенно неожиданно сказал ему резко: «Вы не воображайте, что ваше дело спасать Россию, – это совсем не ваше дело. Когда придет время, то Бог пошлет нужных людей, которые это дело сделают и уничтожат большевиков так, как буря ломает мачтовый лес». Месяца через два или три о. Алексей скончался. Эти слова очень поразили пришедшего, т. к. он ни о чем с о. Алексеем не беседовал, а между тем голова его была полна мыслями о том, что как только он выедет за границу, то сейчас же начнет читать на трех языках лекции и писать книги о том, что делается в России. Прозорливость старца была так ясна, что господин тот оставил политику и занялся другим (Сурский И. К. Отец Иоанн Кронштадтский. Т.1—2. М. «Паломник». 1994. С.185)
[Закрыть].
На светлой душе Батюшки не было ни одного греха и против гражданской власти: везде и всюду он был «правилом веры и образом кротости», побеждавшим сердца даже безбожников. И так, не в разуме, «кичащем и надмевающем», а в любви назидающей и согревающей, проходил Батюшка отец Алексей свой жизненный путь от детской колыбели до скромной могилки на Лазаревском кладбище. И эта могилка, как путеводная звезда, должна светить «ходящим во тьме и сени смертной» и напоминать мотающимся «по стихиям мира сего» известные слова поэта: Смерть и Время царят на земле, Ты владыками их не зови, Всё, кружась, исчезает во мгле, Неподвижно лишь Солнце любви [171]171
Заключительная третья строфа из стихотворения русского философа Владимира Сергеевича Соловьева (1853—1900) «Бедный друг, истомил тебя путь…». Было послано брату М. С. Соловьеву 18.9.1887 с припиской: «Плод безсонной ночи».
[Закрыть].
К этому неподвижному, вечно новому и пребывающему Солнцу хочу обратить я ваши взоры, юноши и девушки! Горда и непокорлива юность! В вечном стремлении вперед, изнывании по новизне, обоготворении «прогресса», – не видит юноша предостерегающих взоров, не хочет слышать мудрых советов. Он – один! Ему не нужны указчики, путеводители – он сам пробьет себе дорогу! И как безумный, жадно бросается он в житейское море и разбивает молодую жизнь о подводные рифы. И, глядя на тысячи, миллионы этих искалеченных преждевременно молодых жизней, этих «хулителей духа», грешников, преступников, нервных, истрепанных вином и наркозами, глядя и на себя, «валяющегося в бездне греховной», хочется крикнуть: «Вернитесь!» Вернитесь из этого ледяного холода, из этого мрака к неподвижному, ласковому Солнцу Любви. Смотрите: люди рождаются, страдают, мучаются, устраиваются, воюют, разрушают, ненавидят, мстят и размножаются, чтобы вновь и вновь безцельно влачить свое существование для какого–то «земного рая» и затем умереть, не дождавшись его. Неужели и мы рождены только для того, чтобы поплясать на маленьком вертящемся шарике и затем безцельно и безследно исчезнуть?
Взглянем же, братья, вокруг себя: как меняются времена, как меняются люди! Сколько колоссальных завоеваний культуры древних и средних веков делаются нам уже ненужными. Неужели и мы должны напрягать сверхчеловеческие усилия, забывать Бога в дикой работе для грядущего человечества, воплощать небо в своих земных идеях, – для того, чтобы это грядущее человечество через несколько веков посмеялось над нами и сложило бы в архив наши, облитые потом и кровью, завоевания?
Все новое превращается в конце концов в старину, и старое, тоже через века, может воскреснуть, как новое. Но есть сила, живая и вечно новая. Имя ей – Любовь. И снова хочется крикнуть: «Вернитесь! Вернемся, братья!» К этому Солнцу, к этой силе, оставленной нам вместе с материнской грудью.
Отсюда, с Лазаревского кладбища, с убогой могилки – точит Любовь свое чудное миро, которого хватит на всех. Придите же сюда, юноши и девушки, придите вместе со мной все гордые, непокорные, непослушные. Здесь – тихое пристанище от бурь житейских. И если вы искалечены непослушанием, скажете лежащему в этой могилке: «Батюшка, когда ты был жив, мы не слушали тебя, а многие из нас и не знали тебя, а многие – и осуждали тебя, – прости нас». И простит он нас, как прощал прежде, и засветит великая любовь его в сердцах наших, и превратятся Савлы в Павлов, и блудницы в святых, и поймут все кичащиеся разумом, что «… теперь пребывают сии три: вера, надежда, любовь; но любовь из них больше» (1 Кор.13:13). В послушании любвеобильном открывается дорога к небу для юноши прежде, и потом для всякого христианина, для всякого человека.
2
Каждый, предавший себя в послушание отцам, имеет безпечалие и покой.
(Авва Дорофей. С.38)







