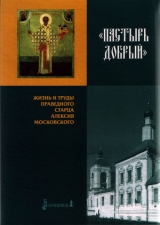
Текст книги "Пастырь Добрый"
Автор книги: Сергей Фомин
Жанры:
Религиоведение
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 48 (всего у книги 57 страниц)
– Помни, я тебе его дал. Твое дело взять его. И когда захочешь, возьмешь. Иди!
Долго была я под впечатлением этой удивительной беседы. Я не могла понять, как даже приступиться, чтобы «взять» (достигнуть) то, что было у моих «отцов». Как–то батюшка встречает меня со словами:
– Ну, как поживает ваш о. Иоанн?
С удивлением я посмотрела на него.
– Ну да, ведь И. О. (имя и отчество мужа) у нас о. Иоанн. Разве нет?
И так часто потом он называл его: почему – осталось для меня тайной…
Как–то прихожу к нему. Сердитый такой сидит.
Стали говорить о том, как трудно встретить людей, правильно понимающих духовную жизнь, и которые серьезно шли по этому пути. Я стала хвалить Маросейку.
– Нет, они ничего не стоят. Я недоволен, очень недоволен некоторыми из них.
Мне стало жаль Маросейских, что батюшка так на них сердится.
Пришла при мне одна сестра. Ей, видно, было тяжело жить. И тоже, вроде меня, ей что–то мешало бывать в церкви. Батюшка тихо заметил ей, что нехорошо, что она как–то осталась дольше того, что он ей позволил.
Вот, думаю, этой как говорит, а попробуй я сделать что–нибудь подобное, что мне бы за это было! Наверное, она очень хорошая.
Когда она вышла, он сказал:
– Вот эта хорошая. Очень хорошая. Заметь ее.
Время было опасное и каждый раз думалось: а вдруг это последнее свидание с батюшкой?
Он часто говорил о том, что его не будет или вообще что–либо подобное. Мы–то всегда думали, что он говорил о своем аресте. Забывалось как–то, что смерть уже сторожит его. Если и мелькнет мысль о близкой разлуке с ним, спешишь ее отогнать поскорее.
Почти каждый раз он говорил:
– Ходите, ходите чаще ко мне, как можно чаще, а то нельзя будет. Если случалось пропустить два дня, он сейчас же скажет:
– Что же так долго не были? Ходите чаще, чаще. – А после каждого откровения или исповеди говорил: – Говорите больше про себя. Я вас совсем не знаю.
И так приучил, особенно последнюю зиму, все большему и большему внимательному отношению к своим мыслям и чувствам.
Нужно было жить, обдумывая, что хорошо и что плохо. Жить осторожно, как бы не ошибиться. Ведь нужно было говорить о. Алексею. И если что по невнимательности забудешь, он сам тебе напомнит, да еще как.
О. Константин не позволял опаздывать к исповеди. Вот как–то было очень некогда и я уже с опозданием пришла к батюшке. А с Маросейки до моего «отца» идти было порядочно.
Прошу О. П. [297]297
См. прим.
[Закрыть] (родственницу батюшки) пропустить меня без очереди, объясняя в чем дело.
– Вот сейчас у него Ш. (из «обобранных»), а потом вы идите. Ведь вы недолго.
В ожидании сели в столовой. Я забыла, что шла исповедываться к батюшке, и стала говорить, что попало. Осуждала Ш., что сидит без конца. Говорила, что «эти» только утомляют батюшку, а толку все равно не бывает от их хождения к нему. Говорила, что все они барыни и все очень безтолковые и еще что–то в этом духе.
– Они все только глупости говорят. Знаю я их, – добавила я с досадой.
Ш. вышла. Пошла я. Батюшка полулежал на кровати. На нем была епитрахиль. Свет был только от лампад.
Когда он исповедывал, то от покаяния ли во грехах, приносимого человеческими душами, или от его молитв за эти грешные души, или вообще от великой тайны исповеди, когда человеческая душа, истомленная разлукой с Господом своим, снова через покаяние очищается и как бы вновь соединяется с Ним, в церкви ли или у себя в комнате, – у о. Алексея иногда чувствовалось, что место это наполнено молитвой и какой–то страшной святости.
О. Алексей был строгий и глаза его большие, темные, светились. Лицо его было как бы изнутри озаренное светом. Он не сводил глаз с двери, из которой вышла Ш.
Я сразу почувствовала робость и тихо опустилась на колени перед ним.
– Исповедываться, батюшка, иду. Простите, если можно.
– Особенного ничего нет?
– Ничего.
– Старались исполнять свои обязанности?
– Да.
– Сердились на кого?
– Нет.
– Ненависти ни к кому не чувствовали?
– Нет, ни к кому.
– Осуждали?
– Нет.
– Нет?.. – повторил он грозно и подвинулся весь ко мне. Я сразу вспомнила, что осудила ее.
– Простите, батюшка, я больше не буду. Я… я совсем забыла.
– То–то. А говорите, главного нет. Смотри, – и он погрозился. – Не осуждать никого. – Он показал рукой на дверь, куда она вышла. – Ну идите. А завтра приходите показаться.
С тех пор, как начала исповедываться у батюшки, он мне всегда велел показываться после Причастия. Он, очевидно, просматривал мою душу, как она воспринимала это Великое таинство. И как, бывало, из–за этого готовилась к исповеди и к причастию, и как, бывало, просишь св. Николая, чтобы он сделал твою душу нарядной, чтобы был батюшка тобой доволен.
И всегда день Причастия или большой праздник отмечался у него. Ты чувствовала, что ты какая–то особенная в тот день, когда Господь тебя простил. В эти дни батюшка был всегда добрый и все тебе прощал. Бывало, что–нибудь боишься спросить у него, а в день Причастия или в большой праздник спросишь, и он всегда так хорошо все объяснит и разрешит тебе. Он любил также, чтобы в эти дни ты была бы радостная, и если случалось с тобою неладное, то нужно было это припрятать глубоко до другого дня, чтобы он в тебе не заметил непраздничного настроения.
В душе у меня было еще много старого. Например, в отношении к аристократии и богатым людям. Я их почти что за людей не считала. Признавала только крестьян, а их презирала и в их тяжелом положении не жалела.
Ваня мой часто говорил мне:
– Их больше других надо жалеть: они к жизни не приспособлены, они не умеют жить.
О. Константин тоже старался всеми силами отучить меня от их осуждения. Я не раз каялась, обещалась исправиться, но продолжала свое. Раз прихожу к батюшке.
– А о. Константин что? Как? – спросил он.
– Да он, батюшка, очень строго «гонял» меня на исповеди. Удивительно, как батюшка всегда чувствовал, когда о. Константин был недоволен мной.
– За что? – усмехнулся он.
– Я, батюшка, очень презираю всех прежних людей. Народ, мужиков только люблю, а их не жалею. Он вот за это и сердится.
– Правильно, что «гонял» и не так–то вас еще надо, – журил добродушно батюшка. – Разве они не люди? Разве не страдают? Всякий крестьянин легче переносит свое тяжелое положение, чем они. Он привык к лишениям, к тяжелой жизни, а они нет. Им вдвое труднее. Подумайте, их тоже ведь нужно пожалеть. Что же вы – большевичка? Ярмолович большевичка! Фу, как стыдно! Как же это может быть? У о. Константина духовная дочь большевичка. Это несовместимо.
Хотя он говорил не строго, но каждое его слово было очень сильно. При последних словах я вспыхнула от стыда и долго помнила их. С тех пор старалась, что было сил, исправиться.
Батюшка заботливо расспросил о материальном положении о. Константина, не нуждается ли? Спрашивал, как ему в приходе живется, не тяжело ли?
– Смотрите, если ему материально тяжело, скажите, непременно скажите.
– Ну, – подумала я, – что бы сделал со мной мой «отец», если бы когда–нибудь я батюшке заикнулась о деньгах для него.
Раз во сне у меня было какое–то необычайное для меня, очень страстное переживание. Я пришла в отчаянье. С большим стыдом поведала я свое горе батюшке. Чтобы еще больше не смутить меня, он даже не смотрел на меня. Когда я кончила, он спокойно сказал:
– Это ничего, не обращайте внимания. Это бывает от усталости. Пройдет. Человек за день устает, ему и лезет всякое в голову ночью.
– Батюшка, что вы? Разве раньше–то я не уставала? Еще не так.
– Тогда не то было. Не смущайся. Больше не будет. – И он, взяв мою голову в руки и крепко зажав ее, долго надо мной молился. – Ну, иди и об этом больше не думай.
Действительно, по его молитвам, это больше не повторялось.
У о. Константина умер брат и умер очень тяжелой смертью. Он меня послал к батюшке просить его помолиться за умершего. Батюшка очень опечалился. Видно было по его словам, что он считает нужным усиленно молиться за душу умершего, но что по их молитвам (батюшкиным и о. Константина) Господь упокоит ее.
Также он очень жалел о. Константина.
– Бедный, бедный… Ему и так трудно, а тут еще горе такое. Ну ничего. Будем с ним за него молиться. Как его звали?
– Батюшка, я позабыла спросить. Да на что вам? Точно вы не знаете?
Он улыбнулся и погрозил.
– Откуда же мне знать? Ну хорошо, скажи ему, что буду молиться. А имя все же узнайте мне.
Так часто бывало с о. Алексеем: имени не скажешь, а он все же будет молиться – Господь–то все знал, за кого Его о. Алексей молится. И батюшка это требовал так, больше для порядка.
На другой день приношу имя, а он встречает со словами:
– Ведь за Николая о. Константин велел молиться. Кажется, так звали брата его? – И, пристально посмотрев на меня, строго сказал: – Давай имя.
В последнюю зиму батюшка часто лежал. Все хуже ему становилось. Трудно было смотреть на него, как он задыхается. Иногда не мог ничего сказать от мучившей его одышки, а лечь его никак не упросишь.
– Батюшка, вы себя–то пожалейте. Смотрите, что с вами делается! Так нельзя же, – бывало упрашиваешь его.
– Ну–ну, будет уж! У вашего о. Константина тоже одышка ведь. Да какая еще! Когда мы вместе с ним были, она у него уже началась. Вот и у меня такая же, – весело шутил он. – Скажите ему, что о. Алексей говорит, что у него такая же одышка, как у тебя, о. Константин.
Как бывало жалко батюшку, что он по болезни и потому, что следили за ним, не мог почти что служить. И как терпеливо переносил он все это!
– Вот заперли медведя в своей «берлоге», – говорил он. – Не могу служить. Украдкой иногда. А тяжело бывает. Ух, как тяжело! Но что обо мне, старом, толковать. Церкви бы не повредить. А то увидит меня народ… а «они» – то с церковью, знаете, что могут сделать за это. Церковь моя маленькая, а закроют, жалко будет… Да и нужна она многим. Церковь… главное церковь, – сказал он и посмотрел на меня с такой любовью и тоской. – Видно по грехам моим так, – задумчиво добавил он.
Когда, бывало, батюшка говорил: по грехам моим… то с ужасом думалось: ты считаешь, что все это по грехам твоим дается тебе, а нам–то что тогда ждать от Бога?
Как–то из–за какого–то пустяка поссорились мы с мужем. Не понимаю, как это могло случиться? Давно меня мои «отцы» отучили от этого.
Я дошла до того, что два раза и при всех назвала мужа дураком и сказала ему: убирайся вон. Проступок был неслыханный. Опомнившись, побежала каяться к о. Константину. Он долго «гонял» меня и велел добиться прощения у мужа, а без этого на исповедь не приходить. Это было очень трудно, так как муж обыкновенно дулся очень долго.
Прихожу к батюшке, но о случившемся ни слова не говорю. Он был очень сдержан; наводил на откровение, но, видя мое молчание, сам не настаивал. Ване, как всегда, дал просфорку.
Вернувшись домой, отдаю Ване просфорку и от себя прибавляю:
– Батюшка тебе кланяется. Ваня сердито говорит:
– Не хочу я твоих просфор. Ты лучше расскажи ему, как ты меня обижаешь.
– Ваня, пожалуйста, прости. Больше никогда не буду. Не знаю, как я могла это сказать. Возьми просфорку, пожалуйста.
– Сказал не буду и не буду. И больше этих просфор от о. Алексея не приноси. Все равно не буду их есть.
Я была в ужасе: отказался от просфор, значит испорчено дело его души. А испортила я. Я испортила все батюшке. Промучившись до утра, я помчалась к нему.
– Вы что, больны? – удивленно спросил он, быстро посмотрев мне в глаза.
– Нет.
– Что ж такая бледная?
– Так.
Молчание.
– Батюшка!
– Что?
– Со мной случилось…
– Случилось?
– Очень большой проступок я сделала и поправить нельзя, остается одно – умереть.
Молчание.
– Батюшка, вы слышите?
Молчание.
– А, батюшка, родимый (с отчаяньем). Ужас случился: муж не хочет вашу просфорку принимать. Вот вам она. Батюшка, родной, сделайте так, чтобы опять все было хорошо. Я больше не буду, никогда не буду, я не знаю, как это вышло, – уткнувшись в матрац, с плачем проговорила я.
Долгое молчание. Я взглянула на батюшку. Он спокойно перебирал простыню и не глядел на меня.
– Батюшка, вы поняли, что я наделала? Ведь всему конец, – зарыдала я. – Батюшка, родной, ради Бога не отказывайте. Все, что угодно, обещаюсь вам, только сделайте, – с отчаяньем молила я, валяясь у его ног.
– Что вы ему сказали? – спросил сурово он.
– Батюшка, я сказала… – И я почувствовала, что не могу от стыда выговорить, что я сделала.
Предыдущее было трудно сказать, и батюшка нарочно не помогал мне, а это казалось совсем невозможным.
– Батюшка, я не могу. Очень стыдно. – Молчание. – Батюшка!
– Что вы ему сказали? – так же проговорил он.
– Батюшка, не могу, родной, не буду.
Потом поднялась и посмотрела на него. Он все также спокойно, не глядя на меня, перебирал простыню. Я почувствовала, что другого пути нет, как исповедывать мой грех.
– Я, батюшка, сказала… я сказала, батюшка, что он… что он… дурак, – шепотом проговорила я.
– И вы это сказали? – с ужасом посмотрел на меня батюшка. – Да как же вы могли? А еще что? – Убирайся вон. – Нечего сказать! Это она христианскую жизнь ведет. Это она так ближнего любит! Хороша духовная дочь о. Константина. – Слова его жгли всю душу мою. – Мне за вас краснеть приходится!
Так часто, бывало, батюшка говорил и говорил так, что жарко становилось и стыдно очень. Краснеть перед кем? Перед Богом, я понимала. И, бывало, взмолишься:
– Батюшка, родной, лучше убейте, но не говорите таких слов.
– Ну, хороша же, – продолжал он, – ай да отличилась! Как он–то, бедный, сейчас себя чувствует? Какой он жалкий, мой Ваня. Как ему теперь тяжело, моему Ване.
Пока батюшка говорил, я только била лбом об пол и твердила одно:
– Простите, батюшка, батюшка, простите. Устройте все по–старому.
Помолчав, он спросил:
– Как он сказал насчет просфоры–то?
Я повторила.
– Не знаю, как и поправить и что тут делать. Так и не взял?
– Не взял.
– И сказал «Больше не буду их есть»?
Я мотнула головой.
Этими вопросами батюшка хотел подчеркнуть мне весь ужас положения. Я глаз не сводила с него. Неужели откажет? Кажется, на месте умерла бы от ужаса.
– Рассказывайте все, как было, – приказал он сурово. Я рассказала все до мельчайших подробностей.
– И два раза сказала ему «дурак»? Да еще при всех? Да что с вами сделалось? Я не узнаю вас!
– Батюшка, сделайте, дорогой, родной, сделайте, – снова взмолилась я.
– Что «сделайте»?
– Да чтоб он принял просфорку и она так же действовала бы на него.
Молчание. Меня обдало холодом.
– Батюшка, честное мое слово, не буду. А если сделаю что–нибудь подобное, тут же на месте убейте меня.
Батюшка медленно полез под подушку и вытащил оттуда довольно большую просфору. Безумная радость охватила меня. Долго он смотрел на нее, молился. Два раза перекрестил ее, поцеловал и, вручая мне, сказал:
– Вот, так и быть, отнеси ему просфору, твоему Ване и скажи ему: – Батюшка, о. Алексей очень тебе кланяется.
Не помню, как только я благодарила его.
– А вдруг не примет? – снова с безпокойством спросила я.
– Нет, эту примет. Но смотри, это последний раз. Если еще случится, поправить я больше не смогу. Как ни в чем ни бывало подойди к нему и дай, и ни слова не говори о прежнем.
Вихрем понеслась домой. Вхожу к Ване, целую его и говорю:
– Батюшка о. Алексей тебе очень кланяется и посылает тебе эту просфору.
– А, спасибо, – покойно сказал он. – Как его здоровье? Кланяйся ему тоже от меня. Очень вкусная просфора, – сказал он.
Я не сводила с него глаз. Потом тихонько вышла из комнаты, бросилась на кровать и, уткнувши лицо в подушки, смеялась и плакала от радости.
Утром понеслась благодарить батюшку. Он, довольный, смеется.
– Как назвала–то его? – шутил он.
– Батюшка, не нужно… Я больше не буду. Вскоре прихожу опять к батюшке и говорю:
– Надо идти исповедываться к о. Константину, а он не велел приходить без Ваниного прощения. А я боюсь, он может не простить.
– Нет, ничего, простит. Я буду молиться и он простит, – сказал батюшка.
Так и вышло. Ваня иногда долго не прощал, а тут батюшкина молитва как воск растопила его сердце.
Оба мои «отца» требовали, чтобы особенно перед исповедью я всегда просила прощения у мужа. И помню, как первое время трудно было смиряться. Бывало знаешь, что он виноват, а не ты, и все же кланяешься ему в ноги и до тех пор вымаливаешь себе прощенье, пока он не скажет, что больше не сердится на тебя. А иногда и ни с чем уйдешь. И тогда о. Константин, бывало, скажет:
– Ну, значит плохо просила. Следующий раз непременно добейтесь его прощения.
И это меня отучало постепенно от всяких действий, которые могли бы расстроить мужа. А в конце его обращения, когда батюшка его переродил уже, он, бывало, поднимет меня и сам просит у меня прощения.
Итак я совершила два больших проступка: оскорбила Ваню и скрыла это от батюшки. Мой «отец» требовал, чтобы я на исповеди в этом очень каялась, а я боялась, что у меня не выйдет и он прогонит меня.
Прихожу к батюшке. Темно и тихо в комнате, только мерцают лампадки. Батюшка сидит на кровати, на нем епитрахиль. За дверью стоят сестры в ожидании исповеди.
– Дверь не затворяйте, – сказал он, когда я вошла к нему и положила земной поклон.
– Простите, батюшка, и, если можно, помилуйте за то, что я сделала с Ваней и скрыла это тогда от вас.
– А что сделала с Ваней? – строго спросил он.
– Батюшка, я так не могу, позвольте дверь затворить.
– Я спрашиваю вас, что вы сделали с вашим мужем? – еще суровее спросил он.
Кто–то тихо затворил дверь.
– Отворите дверь! – приказал он.
И слово за слово я должна была громко покаяться во всем том, что я наделала, до мельчайших подробностей. Когда упиралась, он вопросом заставлял говорить дальше. Зачем–то вошел о. Сергий, но видя, что идет исповедь, хотел уйти.
– Ничего, Сережа, оставайся. – А мне: – Продолжайте.
– Батюшка, – тихо сказала я, – лучше другое что, а не это (наказание), – взмолилась я.
– Нет, это, – неумолимо сказал он. – И как же вы его назвали?
– Одним плохим словом.
– Каким?
– Ду–у–рак…
– И сколько раз?
– Два раза.
– И еще что сказали?
– У–у… бирайся вон.
– При ком так ругались?
– При студенте и прислуге. Батюшка снова начал отчитывать меня.
– Еще когда–нибудь будешь? – закончил сурово он.
– Нет, батюшка, никогда, родной, дорогой, простите.
– Смотри, чтобы это было в последний раз. Иди к о. Константину и валяйся у него в ногах, пока не простит тебя. Сережа, уходи и закрой за собой дверь. – И батюшка продолжал исповедывать меня во всем остальном.
Потом положил на голову епитрахиль и крепко нажал ее рукой. Так он долго держал меня, очевидно молясь за меня.
Я грех свой искупила, старец мой родимый меня простил. Как «гонял» меня мой «отец» было лаской по сравнению с этой батюшкиной исповедью. Долго спустя я все еще боялась встретиться с о. Сергием, думая, что он будет смеяться надо мной.
С тех пор, бывало, с Ваней малейшее неудовольствие боишься показать. А он удивлялся, почему я все отмалчиваюсь и даже виду не показывала, что сержусь.
Часто приходила к батюшке за советом, как быть: муж расстроен, ничем не доволен, не разговаривает. И батюшка или велит не обращать внимания и делать вид, что не замечаешь, или велит с лаской подойти к нему и согреть его душу. Последнее было очень трудно и удавалось только по молитвам батюшки. Я, бывало, поступаю дома, как он велит, а он в это время молится за нас.
Случалось иногда приходить к батюшке за тем, чтобы с радостью рассказать ему, что хорошее случилось в духовной жизни Вани. И он, бывало, прикажет тебе вести себя так, чтобы Ваня отнюдь не замечал, что ты видишь в нем перемену. Батюшка боялся, что можно было спугнуть как птичку эти новые ощущения в Ваниной душе. И требовал все большего и большего нежного обращения с ней.
Как–то батюшка просил:
– А каким бы вы желали видеть своего Ваню?
Он говорил это так, точно он мог сделать его таким, каким бы мне хотелось иметь его.
– Таким, батюшка, мне бы хотелось его иметь… настоящим, но только не таким, как вот И.
Батюшка засмеялся.
– Почему?
– Простите, батюшка, я забыла совсем, что он ваш духовный сын. Нет, правда, он православный очень, но вот насчет христианства–то, я не знаю…
Впоследствии мы с ним подружились именно на этом самом христианстве. Он оказался очень хорошим человеком.
– А мне, батюшка, хочется, чтобы мой был православным, но, главное, хочу видеть его христианином, как в первые века. И чтобы нам с ним так жить можно было.
Батюшка молча отвернулся. Какая–то тень пробежала по его лицу. Он знал, родной, что мне не придется пожить с мужем христианской жизнью.
После смерти одного своего друга Ваня заболел сердцем. Он очень тяжело болел, особенно нравственно. Наконец, он стал себя считать инвалидом, и это еще больше удручало его. Батюшка велел себе докладывать мельчайшие подробности о ходе его болезни и о состоянии его души. Ухаживать за Ваней было очень трудно. Церковь совсем забросила. Ваня болел долго. Батюшка все время помогал. Он направлял, проверял каждый мой шаг с ним, и своими молитвами поддерживал нас.
Наконец, видя, что Ваня все не поправляется и что нравственное его состояние делается все хуже и хуже, батюшка решил написать ему письмо. Письмо было самое простое, но очень сердечное и возымело свое действие. Ваня поверил, что батюшка обещает ему выздоровление и начал поправляться. Он это письмо всю жизнь берег, как нечто самое дорогое.
Помню, как долго батюшка его писал, как он думал над ним, как тщательно выбирал выражения.
– Что же? – спросил он, – написать ему благословение или нет?
– Ну как же, батюшка, конечно.
– Да ведь он у вас неверующий.
– Нет, верующий, – защищала я своего Ваню. Батюшка лукаво на меня взглянул.
Окончив его, он сказал:
– Ну вот, кончил. Хорошо? – спросил он, прочитав мне его.
– Хорошо, очень хорошо, батюшка! – с восторгом сказала я. Многое ждала я от этого письма для Вани, и как же я была благодарна батюшке за него!
Он переписал письмо и, вздохнув глубоко, сказал:
– Ну вот, передайте ему. Очень было трудно. Ну, скоро будет здоров. Работать по–прежнему будет.
Очевидно много вложил батюшка в это письмо чего–то, отчего ему было так трудно писать его и что так скоро поправило Ваню.
Я видела, что батюшка доволен и что можно его просить, о чем хочешь.
– Батюшка, – нерешительно начала я, – мне давно очень обидно, что вы называете меня все по фамилии. Я, кажется, стараюсь изо всех сил и делаю все, что вы велите. Неужели я все еще не ваша?
– Да… нет… ничего… стараетесь. Я… ничего не говорю… а назвать… назвать тебя? Подожди, я подумаю и как–нибудь уж назову. Постой уж, – сказал он, окинувши меня быстрым взглядом.
Скоро Ваня выздоровел, но работы было мало и ожидать ее было неоткуда. Сказала батюшке свое горе. Он глубоко посмотрел на меня.
– Иди с миром. Больных найдем и пришлем.
Вскоре больные появились. Все новые, неизвестно откуда узнавшие про Ваню. Работа наладилась.
***
Муж очень любил пчел, и у нас стояли они на чердаке. Часто я ему помогала в работе с ними. И вот, как–то в большой праздник он велел поскорее приходить домой из церкви, чтобы помогать ему с пчелами.
Из церкви пошла к батюшке за благословением. Тихо в квартире, никого нет. Батюшка что–то писал, сидя в кресле. Кругом все, и он сам был такой уютный и аккуратный. Он не считал, как некоторые духовные лица, что это мешает духовной жизни. Видно было, что, читая, батюшка молится. Он как–то весь ушел внутрь себя.
– Что так? (рано из церкви ушла), – спросил он, окинув меня быстрым взглядом. Я сказала, в чем дело. – Ах, так. Нужно, нужно, непременно нужно идти.
– Батюшка, очень не хочется.
– Нет, нет, идите.
В церкви, очевидно, запели «Тебе поем», так как у батюшки началась очень сильная внутренняя молитва.
Он сделался еще серьезнее и сосредоточеннее.
– Уходите теперь, – приказал он, и встав перед иконами, начал молиться.
Я тихо вышла, а как хотелось хоть за дверью остаться, чтобы помолиться вместе с ним.
Как–то прихожу исповедываться.
– Ну что, как наши дела? – спрашивает он.
– Не знаю, батюшка, как. Только одно знаю, что стараюсь изо всех сил. А больше ничего не знаю.
– Если изо всех сил, то хорошо, – сказал он, пристально глядя на меня.
Я сейчас же стала внутренне проверять себя, и мне показалось, что я не соврала.
– А можно еще, знаешь как, больше сил стараться, – серьезно добавил он.
Как–то говорю ему:
– Батюшка, меня очень смущает, что когда меня перед людьми обличают или наказывают, то мое самолюбие очень страдает. От этого мне очень больно. А Св. Отцы говорят, надо быть безстрастной. У меня, значит, гордость есть?
– Гордость не хороша, когда она по отношению к Богу, – сказал он. – Ну, как мы с вами чувствуем. Что мы ничто перед Богом?
– Да, чувствую.
– И гордость перед Ним чувствуете?
– Нет, батюшка.
– Ну да, нет. И вот это–то и не должно быть. А самолюбие и даже гордость по отношению к людям всегда в нас есть. Очень трудно, чтобы не было. Это еще не так опасно. Самолюбие всегда остается при нас. С этим ничего не поделаешь. А в вашем случае это может быть еще и искупление вины, раз вам так трудно. Ничего, привыкнете. Это вам полезно. Терпи казак – атаманом будешь, – закончил батюшка, улыбаясь, и крепко ударил меня по плечу.
Помолчав, он сказал:
– Еще хотел сказать вам, что нужно жить так, и держать себя так, чтобы нам не приходилось краснеть за вас. Надо повсюду, где бы вы ни было, высоко держать знамя отца вашего духовного. Чем больше будете стараться, тем выше будешь держать знамя о. Константина. Плохим поведением вы нас всегда компрометируете. Поняла? Твердо помните это и старайтесь.
И часто, бывало, батюшка, выговаривая за что–нибудь, говорил:
– Вы нас компрометируете. Понимаете ли вы это или нет?
И так стыдно–стыдно станет и даешь себе слово больше своих «отцов» не подводить.
О. Константина выселяли из его комнаты. Прихожу к батюшке просить его, чтобы моему «отцу» выпросил у Бога хорошую комнату. Батюшка для о. Константина всегда был готов на все, а тут как–то ответил уклончиво. Я удивилась, но приставать не смела, значит нельзя. И чудно, что до сих пор мой «отец» никак не может устроиться с помещением. Видно это Господу не угодно. Меня удивляло, как батюшка скоро чувствовал духом, что угодно Господу и что нет. Что можно и чего нельзя было просить у Него. А происходило это оттого, что старец о. Алексей жил, мыслил, чувствовал согласно воле Спасителя своего.
Бывало о чем–нибудь попросишь батюшку, а он так как–то задумается, уйдет внутрь себя, как это он умел так хорошо делать, и через некоторое время дает тебе или согласие (молиться), или отказ.
Помолчав, батюшка спросил:
– Ну что, как он? – позволив этим вопросом высказать горе, бывшее у меня на душе.
– Да, батюшка, он точно все молится теперь. Молчит да и только. Какой–то серьезный и строгий стал. Не подступишься. Я не понимаю, чего он хочет от меня. Чего–то требует, а чего – не знаю. Я теперь боюсь ему говорить то, что прежде бывало легко говорила. Он меня не понимает.
Батюшка остро посмотрел мне в глаза.
– Что же это он у вас? Наверное комнатой занят? – усмехнулся он.
– Нет, батюшка, это ему не мешает. Так что–то, – со слезами ответила я. Просить помощи у батюшки я не помышляла.
Получив благословение, стала уходить. Батюшка не сводил с меня задумчивого взгляда.
– Хорошо, – сказал он медленно, – я буду молиться о нем, чтобы изменился… Чтобы добрее стал.
Горячо поблагодарила я своего старца. Скоро у меня все наладилось с моим «отцом». Я перестала его так бояться и снова начала понимать его. Он стал ласковее и разговорчивее и опять стал утешать и ободрять меня.
Конечно, все дело было в том, что я перестала понимать его, отошла, очевидно, от него каким–то образом, неправильно подходила к нему. А по своей неопытности уверена была, что все дело было в нем. Он меня не понимает, он не умеет со мной обращаться, думалось мне. И удивительно, как батюшка только своей молитвой наладил навсегда наши отношения.
Сколько раз он это делал, сколько раз приходилось ему улаживать отношения между духовными отцами и их чадами. А какое же трудное это было дело!
Прихожу как–то к батюшке и, дожидаясь очереди, смотрю, как сестры приходят к нему исповедываться, чтобы затем идти в церковь причащаться.
Они были все нарядные такие, очевидно приготовились к Причастию. Я подумала: вот счастливые. Они идут к своему батюшке уверенные, что их он простит. Наверное, они все очень хорошие и на совести у них ничего такого нет.
Последняя из них, особенно нарядно одетая, очень долго пробыла у батюшки и вышла от него вся в слезах. Ну, думаю себе, и мне теперь гонка будет. Но старец о. Алексей не действовал по настроению. Он вполне уже жил жизнью Христа, жизнью Его Духа.
Я вошла к нему робко, но он был в этот раз не строгий и даже о чем–то пошутил. Отпуская меня, он, смотря мне в глаза и держа за руку, показал на дверь и сказал:
– Когда идете исповедываться, не надейтесь на Причастие. Видели, как они приходили ко мне. Вы же этого никогда не делайте. Идя исповедываться, не надейтесь на прощение, – вымаливайте себе его. Нельзя говорить отцу духовному: благословите причащаться, а нужно говорить: благословите исповедываться. Поняла?
Я стала так делать и чувствовать. И до сих пор о. Константин никогда не обнадеживает меня прощением заранее, если случится спросить его об этом, и тем он помогает создаться в душе покаянному настроению.
Проговоривши, что было нужно о Ваниной душе, батюшка сказал:
– Помни раз навсегда, что в духовной жизни нет слова «не могу». Все должна мочь, что тебе велят. Бывает же слово «не хочу», за которое, чем дальше будешь жить, тем строже будет за него с тебя взыскиваться. По отношению же к своему учителю и руководителю, который является для тебя всем, существуют только два слова: простите и благословите (простите за вечное мое плохое поведение и благословите жить, как вы хотите. Так нужно было понимать батюшку).
– Знаете, – вдруг добавил он, – если о. Константин будет стараться учить вас и увидит, что вы не стараетесь жить, как он хочет, то он может по своему выбору отдать вас для исправления другому. И уже будет вам тогда!







